Тронка [Олесь Терентьевич Гончар] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Александр Терентьевич Гончар Тронка


Ты — летай
— Ничто так не пахнет, как наша степь, — говорит молодой Горпищенко, летчик реактивной авиации, когда приезжает к отцу-чабану в отпуск. И как-то так всякий раз получается, что отца он застает не в хате и не в кошаре, а в степи, прямо посреди пастбища. Старик обычно стоит возле отары с герлыгой, в солдатских ботинках и во всех своих чабанских доспехах: на нем пояс, а на поясе джермало,[1] доставшееся ему по наследству еще от деда-чабана, и рог бараний с нафталином — раны овцам присыпать, и бутылка смеси креолина с дегтем — тоже для заживления ран, и, конечно же, ножницы, чтобы выстригать овцам шерсть вокруг глаз, а то, бывает, так зарастут, что, бедняги, не видят колючек и нередко выкалывают себе глаза. Чабан Горпищенко собою неказист, но в степи заметен издалека. Низкорослый, коренастый, он весь прокален ветрами; закопченное солнцем морщинистое лицо его как лоскут старой кожи, а глаза, сизые от старости, словно выгорели на солнце и стали цвета линялого степного неба. Во всеоружии предстает перед сыном старый Горпищенко. Про таких, как он, недаром говорят, что это прирожденные чабаны. Природа не очень щедро одарила его ростом, зато он тем чувствительнее ко всему, что касается его отцовской чести. С суровым достоинством и даже настороженностью ждет он, пока сын, выйдя из «газика», подойдет к нему, и зорко следит, не сделает ли тот какого-нибудь промаха, не обидит ли отца невзначай, не нарушит ли установившегося издавна обычая. И хоть сыном его все в совхозе гордятся, знают, что он летчик не просто какой-нибудь, — сегодня он реактивный сокол, а завтра может полететь на такие планеты, где ни отар, ни степей не будет, — однако даже это не выводит отца из состояния сурового спокойствия, он стоит и с достоинством ждет должной почтительности от сына, опираясь на свою герлыгу с медным, украшенным резьбой набалдашником — брейцарой.
И только после того, как сын поздоровался, не допустив никакого промаха в этикете, выцветшая текучая голубизна отцовских глаз сразу наливается нежностью.
— Не забыл? — ставит он перед сыном свою герлыгу, наконечник которой хранит изображение с детства знакомой сыну кудлатой чабанской овчарки. — Из каких частей состоит герлыга, а ну?
— Брак, барнак, брейцара и держак! — четко отвечает сын, и этим ему уже обеспечена симпатия старика на все время отпуска.
Если бы посторонний поглядел на них со стороны, то не поверил бы, что этот невзрачный, до черноты опаленный солнцем человечек дал жизнь такому светловолосому статному юноше, который сейчас вытянулся перед ним во фронт. Сын улыбается, разглядывая отцовские доспехи.
— Здорово, а? — обращается он к сержанту-водителю, с улыбкой выглядывающему из кабины «газика».
Кто-кто, а сын знает, что добрая половина этих доспехов в обычное время осталась бы лежать дома, чабан ничего лишнего не будет в такую жару таскать с собой по степи, и если уж он сегодня так снарядился и даже начистил до блеска медную полустертую брейцару, то это только ради сына, чтобы в столь торжественный миг встречи отцу было чем потешить свое чабанское, не притупившееся и с годами честолюбие.
И вот стоят они вдвоем возле отары в степи: один всю жизнь ходит по земле пешком, а другой полжизни проводит в небе; один с герлыгой, этим жезлом пастуха, свидетельствующим о принадлежности к древнейшей человеческой профессии, а другой с крылатой эмблемой на фуражке, хотя даже и самым быстрым крыльям теперь недоступны скорости его полетов. Стоят они, а вокруг сбилась жарким кольцом отара, сбилась густо, вплотную. Грязновато-белые остриженные мериносы надсадно дышат, прячут головы от зноя в собственную тень, а за ними степь да степь, а вдали то ли марево мерцает, то ли синева неба спустилась до земли и рассеялась мглою среди бескрайних просторов.
Во всеоружии предстает перед сыном старый Горпищенко. Про таких, как он, недаром говорят, что это прирожденные чабаны. Природа не очень щедро одарила его ростом, зато он тем чувствительнее ко всему, что касается его отцовской чести. С суровым достоинством и даже настороженностью ждет он, пока сын, выйдя из «газика», подойдет к нему, и зорко следит, не сделает ли тот какого-нибудь промаха, не обидит ли отца невзначай, не нарушит ли установившегося издавна обычая. И хоть сыном его все в совхозе гордятся, знают, что он летчик не просто какой-нибудь, — сегодня он реактивный сокол, а завтра может полететь на такие планеты, где ни отар, ни степей не будет, — однако даже это не выводит отца из состояния сурового спокойствия, он стоит и с достоинством ждет должной почтительности от сына, опираясь на свою герлыгу с медным, украшенным резьбой набалдашником — брейцарой.
И только после того, как сын поздоровался, не допустив никакого промаха в этикете, выцветшая текучая голубизна отцовских глаз сразу наливается нежностью.
— Не забыл? — ставит он перед сыном свою герлыгу, наконечник которой хранит изображение с детства знакомой сыну кудлатой чабанской овчарки. — Из каких частей состоит герлыга, а ну?
— Брак, барнак, брейцара и держак! — четко отвечает сын, и этим ему уже обеспечена симпатия старика на все время отпуска.
Если бы посторонний поглядел на них со стороны, то не поверил бы, что этот невзрачный, до черноты опаленный солнцем человечек дал жизнь такому светловолосому статному юноше, который сейчас вытянулся перед ним во фронт. Сын улыбается, разглядывая отцовские доспехи.
— Здорово, а? — обращается он к сержанту-водителю, с улыбкой выглядывающему из кабины «газика».
Кто-кто, а сын знает, что добрая половина этих доспехов в обычное время осталась бы лежать дома, чабан ничего лишнего не будет в такую жару таскать с собой по степи, и если уж он сегодня так снарядился и даже начистил до блеска медную полустертую брейцару, то это только ради сына, чтобы в столь торжественный миг встречи отцу было чем потешить свое чабанское, не притупившееся и с годами честолюбие.
И вот стоят они вдвоем возле отары в степи: один всю жизнь ходит по земле пешком, а другой полжизни проводит в небе; один с герлыгой, этим жезлом пастуха, свидетельствующим о принадлежности к древнейшей человеческой профессии, а другой с крылатой эмблемой на фуражке, хотя даже и самым быстрым крыльям теперь недоступны скорости его полетов. Стоят они, а вокруг сбилась жарким кольцом отара, сбилась густо, вплотную. Грязновато-белые остриженные мериносы надсадно дышат, прячут головы от зноя в собственную тень, а за ними степь да степь, а вдали то ли марево мерцает, то ли синева неба спустилась до земли и рассеялась мглою среди бескрайних просторов.
 Даже человека, чья жизнь проходит в небе, эта степь поражает своею беспредельностью и ослепительным блеском, само солнце здесь такое горячее и яркое, как будто ты очутился на другой, более близкой к светилу планете.
И все тут пахнет. И хоть пахнет не столько какими-то особенными ароматами степного разнотравья — трава здесь почти целиком вытоптана, — однако сын говорит истинную правду, что нет запахов роднее и милее ему, чем в этой степи, даже когда она пахнет просто горячим жиром отары и отцовым чабанским духом или же открытою настежь сухой кошарой, которую вот сейчас усиленно дезинфицирует солнце.
Одна из овец вдруг тревожно заблеяла в сторону кошары, и летчик, посмотрев туда, заметил, как между кустами чертополоха прыгает что-то похожее на зайчонка. Прыгает неумело, натужно, вскочит — и опять упадет, как будто подстреленное, затем поднимается снова.
— Вот говорят, что бог есть, — заговорил отец. — А где ж он есть? Пусть мы грешим, ну, а ягненок? Его он за что искалечил?
Живо, почти бегом, кинулся старый чабан к ягненку, взял его на руки, принес, положил к овце, и та сразу успокоилась.
— Вишь, как ножонки ему скрутило. Другие бегают, выбрыкивают, а этого всякий раз приходится подносить к матери, сам он не успевает по следу…
— А почему ж он такой?
— Такой уж уродился, да еще и не один: трое вот таких калек нынешний год в окоте… — Старик вдруг насупился, помрачнел. — А в Японии, я слышал, детей тридцать тысяч калеками народилось, это правда?
Сын промолчал. Заметив, что водитель ждет распоряжения, летчик отпустил его, сказав на прощание:
— До завтра.
Чабан насторожился: до завтра? Почему до завтра? Это такой отпуск? Старик насупился еще больше, но допытываться не стал — тот же чабанский гонор не позволял ему быть назойливым, лезть не в свое дело. Сын тем временем стал расспрашивать о жизни, и отец, поощряемый его вопросами, вскоре уже с жаром рассказывал о том, что больше всего волновало, — про настриг шерсти в этом году, про выпасы, которые все время сокращают, попутно выругал начальство, что не прислушивается к чабанам.
— Скота с каждым годом все больше становится, развели его столько, что фермы трещат, а придет зима — корми чем хочешь. Разве ж не было, что коров шлангами подвязывали к перекладинам? Подвяжут, да еще пробуют доить! Вот как хозяйствуем, — распалялся старик. — Весной, когда совсем прикрутило, приезжает советчик из области. «Камкой,[2] говорит, кормите! Рубите ее помельче, сдабривайте — пусть едят! А то спите тут, не ищете! Столько морской травы пропадает попусту на берегу, а у них скотина дохнет!»
— Так скотина ведь камку не ест! — удивился сын. — Огонь и тот ее не берет. Бензином, бывало, обольем, бензин обгорит, а камка вся цела.
— Такой «новатор»… Ну, я посмешищем быть не захотел, не стал дурную ихнюю камку собирать. Совсем задумал было бросить отару и перебраться жить на Центральную, даже герлыгу отнес директору в кабинет. «Кому, спрашиваю, передать?» Да только некому и передать, потому что не густо теперь вас, охотников за герлыгу браться. Молодые? Они начабанят! Им бы верхом на велосипеде отару заворачивать! У иного на каждой руке часы — одни спешат, другие отстают, — так он больше поглядывает на те, что спешат, по ним и пасет… А мы ж не вечны. Нас не станет, кому эту, — отец в сердцах стукнул о землю герлыгой, — кому ее передать?
— Так, может, мне? — усмехается сын на отцовские речи.
Старик пристально смотрит на сына, на его фуражку.
— Нет, ты — летай.
И после молчания снова:
— Тебе летать.
Не спеша направляются они к чабанскому жилью, прямо, плечом к плечу, ступают по этой твердой солончаковой почве, по которой летчик, кажется, еще совсем недавно бегал подпаском. Родная седая земля чабанская… Испокон веков по ней носились дикие кони… Тяжело груженные, двигались здесь чумацкие мажары с крымской белой солью… Полевица, тонконог-типчак струятся под ногами. Нет здесь ни болот, ни вечной мерзлоты с замороженными в ней мамонтами, одна твердь целинная, спрессованная веками. Твердь такая, что могли бы отсюда и межпланетные корабли стартовать.
Поодаль от кошары, на пригорке, высится островок тополей, белеют чабанские домики; там уже беготня, суетятся женщины-чабанки, пух и перья летят по степи, и слышится звонкий, неистово радостный крик:
— Ура! Петрусь приехал!
И навстречу мчится сестра Тоня, летит, сверкая коленями, впереди всех, а за нею, как хвост за кометой, — гурьба малышей. Раскрасневшаяся, ошалевшая от радости, Тоня с разгона налетает на брата и виснет у него на шее. Наконец брат, весь жарко обцелованный, вырывается из объятий, как из пламени, и отмечает про себя, что сестренка здорово подросла за время его отсутствия, стала почти взрослой девушкой. Налитая, тугая, как вишня, глаза горят, стреляют искрами, а волосы уже накрутила на голове по-модному. Окинула быстрым взглядом степь.
— Где же такси?
— А я в этот раз не на такси.
— На «газике»? С полигона дали? Ну, а когда ты уже прилетишь к нам, Петрик, на своем? На том, что быстрее звука?
— Когда-нибудь прилечу…
— Разве негде сесть, погляди!
И она обвела рукою степь, по которой разлился светлый океан марева.
Вся трепетно-возбужденная, Тоня выхватывает у брата из рук его саквояжик и мчится с ним к дому, то и дело оглядываясь весело на брата, русые, с золотистым отливом волосы ее рассыпались и треплются по плечам.
— Хлопот с нею не оберешься, — говорит отец больше с напускным недовольством. — Ишь как накудляла… То конским хвостом поднимет, то распустит, как утопленница. Разве у нее экзамены в голове?..
На дворе много детворы, чабанчуков и чабанят бесштанных, полно утят, цыплят, кроликов, ластятся чабанские собаки, всюду белеют перья, а над всем этим — над утятами-цыплятами, над перьями и над открытой летней кухней-плитой, которая вся шипит и пышет, — сияет добрая, всепокоряющая улыбка матери.
Мама!.. Она улыбается, а солнце искрится в капельках слез на ее щеках, она торопливо вытирает о фартук полные, раскрасневшиеся от жара плиты руки, губы ее дрожат от волнения и шепчут что-то самое ласковое, самое нежное, и, погрузившись в тепло ее груди, летчик на мгновение перестает быть летчиком, как будто нет за ним вдоль и поперек изборожденного неба, нет бешеных сверхзвуковых скоростей, нет ни команд, ни тревог, ни опасностей, а есть только покой, уют и радость вновь обретенного счастливого детства. Но это только на мгновение, а потом снова все становится на свое место, и вот он опять приезжий летчик, почти гость, и мать, подавив кипение своей радости, терпеливо ждет, пока сын не поздоровается с чабанами и чабанками. Он разговаривает, шутит с Демидом и Демидихой, у которых куча детей, — иные приезжие думают, что это внуки Демида, а оказывается, все они его сыновья. Потом летчик снова возле матери, и она получает возможность поводить его по двору, показать копнушку сена, которую отец недавно накосил и приберег специально для него, — оба хорошо знают, как любит их сын поспать на сене. Потом всей семьей осматривают топольки, зеленеющие такой густой, сочной зеленью, какой и не увидишь нигде в этой голой, рано выгорающей степи.
— Как там их с неба… видно? — спрашивает отец.
— Видно, — отвечает сын, разглядывая тополиные ветви. — Славные топольки, хорошо подросли.
И на следующее лето он будет любоваться ими, мерить глазом, только к тому времени их кроны разовьются еще больше.
В тот год, как пошел сын в авиационное, были посажены эти топольки. Только степняк знает, как нелегко их выходить тут, в степи, на ветрах. Но вырастил чабан Горпищенко, поливал, поил колодезной водой. Для того и посажены они, чтоб росли, чтоб сын видел их с неба!
Разрослись тополя, зазеленели. Поднялись выше хаты, на всю степь стали видны, и летчики сельскохозяйственной авиации хорошо знают этот чабанский тополиный островок, используют его как свой ориентир.
А к вечеру между тополями, где тень держится в течение дня и степная трава волнистым руном стелется по земле, накрыты столы в честь летчика, а за столами сидят чабаны.
Уже выпили первую чарку, и молодой, сваренный по-чабански барашек дымится в мисках, в тех самых мисках, с которыми старый Горпищенко никак не может примириться, потому что издавна у чабанов принято есть тузлук только из деревянного корытца. Старик и сегодня долго пререкался с женщинами, грозил смести прочь со стола их тарелки и вилки и только после того, как убедился, что дедовское деревянное корытце уже рассохлось, вынужден был пойти на уступки цивилизации. Он и сам теперь, наравне с другими, ест из тарелочки, которую ему, словно в шутку, подставила Тоня.
А мать не перестает угощать сына.
— Вот тебе хрящик… Ты же любишь, — подкладывает она горячую нежнейшую баранину, подливает юшку, в которой плавает разваренный лук, нарезанный кольцами. Летчик, лакомясь тузлуком, смакуя солоноватое густое варево, почтительно слушает отцовские рассказы.
— Я человек давнишний, — говорит старый чабан. — Я оттуда, где пешком ходили. Где на волах ездили. На конях скакали. Ветер! Птица! — вот что было самым быстрым. А ты вот теперь в сталь завернешься — и в небо, как снаряд. Сверкнешь, как та ракета, — и нет тебя.
— А разве вы, тату, видели ракету? — лукавит Тоня.
Чабан покосился на дочь сурово, выждал тишины.
— Видел.
И хотя присутствующие здесь впервые это от него слышат, но нет у них недоверия: кто знает, может, и видел.
— Какая же она, тату, ракета?
— А такая, как и его самолет, — кивает старик на сына. — Толстая, блестящая… Вылитый самолет, только крылья обрублены.
Корней, чабан правой руки, сутулый, сморщенный, как стручок, хотя годами и не старый, считает, видно, что сейчас самое время пожаловаться летчику на соседа — полигон (у Корнея это уже стало привычкой — на все подряд жаловаться).
— Скажи ты им, Петро, у тебя ж там полно дружков на полигоне, пусть не запрещают нашим отарам подальше на их землю заходить, — говорит он, с трудом разжевывая пищу. — Потому что раньше все-таки было немного повольготнее, а теперь вот уже с месяц бомбят или не бомбят, а межу переступать не смей. Уралову, начальнику полигона, скажи, он же тебе друг.
— Что ж я ему скажу? — усмехается летчик. — Чтоб позволил вам с овцами под бомбы лезть?
— А ты слушай Корнея, он тебе наплачется, — весело вставляет отец. — Ему отовсюду притеснения да обиды, а как чарку выпьет, так сам первый в драку лезет.
— Даром что голова инеем покрывается, — добавила Корнеиха, — а на Центральной недавно так разбушевался, что дружинники даже седого хотели остричь, мне уже пришлось отбивать.
— Через то, Корней, и на полигон тебя не пускают, что ты забияка, а там люди мирные, — заключает чабан Горпищенко, и все смеются.
Тоня между тем, наклонившись к матери, шепчет в восхищении:
— Гляньте, мама, ей-же-ей, у нашего Петруся гагаринская улыбка! Это у них теперь, видно, такая мода…
— Тебе уже сразу и мода… Он всегда так улыбался, — тихо отвечает мать, а сама не может отвести глаз от сына.
А тот, сняв китель, сидит в своей зеленой летной рубашке и с таким же зеленым галстуком, который он разрешил себе чуть ослабить только за столом.
Улыбка улыбкой, а вон те ранние залысинки, появившиеся на лбу, сильно тревожат мать. Говорят, что летчики и подводники рано лысеют — верно, не от легкой жизни. Как он живет? Какая у него работа? Куда он летает, что его радует и что печалит — ничего об этом матери не известно. Как отголосок беспокойной жизни своего сына, слышит она только ежедневный грохот в вышине, грозный, могучий, будто кто-то рвет, разламывает небо. До сих пор мать никак не может привыкнуть к тому, что небо, ясное, приморское, все время над нею грохочет. Летом и зимой. Днем и ночью. И людям всего совхоза, всех отделений (которые она по старой памяти называет хуторами) приходится вечно жить под этот тревожащий гул. И хотя другие, может, к этому успели привыкнуть, считают естественным — ведь рядом полигон, к которому издалека летят чьи-то сыны на свою грозную работу, — но она, сама мать летчика, никак не может привыкнуть к громыханью, взрывам, сотрясениям. Она ведь помнит и иное небо, то небо, которое человек знал лишь по громовым раскатам, а все лето в нем только орлы да коршуны парили тихо, беззвучно. И если, бывало, забеспокоится вдруг наседка, а цыплята комочками покатятся по двору, так и знай — в небе повис орел или коршун.
— Спутники… Ракеты… А у меня еще в памяти, как мы увидели первый ероплан, — говорит мать Демида, старая костлявая женщина, к которой с обеих сторон жмутся внуки. — На панском току как раз молотили, а он летит… И молотилку остановили, крестимся да все глядим, как он медленно, потихонечку по небу пролетает.
— А теперь: сверкнул, загрохотал — и уже он там, где мороз сизый, хоть на земле в это время жарища в сорок градусов, — как будто немного хвастаясь сыном, произносит Горпищенко-чабан. — У меня, чабана, и то дух перехватывает, когда он вверх карабкается. Стоишь, смотришь, а он полез и полез куда-то прямо на седьмое небо… Растет сила, растут скорости, да только чем оно все это кончится, сынок?
— А тем, — сдерживает улыбку сын, — что летать будем еще быстрее. И дальше. И выше. Может, даже совсем без крыльев. А крылья нам останутся лишь на память, как вам брейцара. Или как морякам остались паруса на память о былых временах.
Чабан левой руки Демид, контуженный в войну и с тех пор глуховатый, хлопает глазами, что-то хочет спросить.
— А это правда, Петро, что кровь из кожи выступает, так тебя прижимает на тех скоростях? — наконец спрашивает он. — И что, бывает, и сознание теряет ваш брат?
— Со мною не случалось. Если бы случилось, то с вами бы тут чарку не пил, — сказал гость шутливо, но после этого какая-то тень промелькнула на его лице, как будто вспомнил нечто совсем не шуточное и для других непонятное. — Бывают, конечно, перегрузки, так тебя тяжестью наливает, даже в глазах темнеет, но потом… Если летчик уже влетался и хорошо чувствует самолет, ничто ему не страшно. Был, правда, у нас один курсант, намучились мы с ним: земли боялся. Ему приземляться, а он схватится за ручку и прямо сок из нее выжимает.
— Ну, и что же с ним? — спросила встревоженно Корнеева жена.
— Отчислили.
— Может, и тебя, сынок, отчислят? — невольно вырвалось у матери.
— Не те ветры дуют, чтоб отчислять, — возразил отец. — Да и чего ради? Молодой, здоровый, смекалистый… Я вот на что уже, и то порой душа взыграет: хоть бы раз! Разок бы подняться туда, где и птица никакая не бывала. А ты, старая, гордилась бы лучше сыном. Подумай: каждый день в небе!
— И каждый день… на волоске.
— Кто не рискует, тот шампанского не пьет, — вставил Корней, а молодица его, в сторонке кормившая грудью младенца, так покосилась при этом на мужа, что он даже съежился, потому — все знали — рука у Корнеихи тяжелая и не раз она вытаскивала мужа из чайной на Центральной.
Тоня пересела поближе к брату.
— Серобаба рассказывал, что когда впервые без инструктора вылетаешь, то в воздухе петь хочется. Каждый курсант, говорит, в первом полете поет, это правда?
— Кто поет, сестричка, а кто и плачет, — усмехнулся брат.
И, погасив усмешку, он опять стал серьезным, сосредоточенным. Сидит и молча смотрит сквозь тополя на чабанские герлыги; подобно алебардам, они висят рядком под крышей на белой, освещенной заходящим солнцем стене и слегка покачиваются от дуновения ветерка.
Отец над чем-то размышляет, потом говорит сокрушенно:
— Деды и прадеды пешком ходили, хоть, наверное, не один в душе сокола носил… А раз уж ты, Петро, на крыльях…
Мог бы еще добавить, как эта сыновняя крылатость скрашивает и его будничную чабанскую жизнь, мог бы порассказать, как ночами, когда звезды в полете рассекают темноту над степью (даже не сразу разберешь, звезда это или самолет), он, ведя отару, ищет в звездном пространстве и летучую звезду своего сына; как по утрам, когда серебристые реактивные, вырвавшись откуда-то с приморского аэродрома, стремительно идут ввысь и тянут за собой ослепительно белые ленты, он думает, не сын ли то, случаем, пролетел и расписался в небе над родной утренней степью. Мог бы рассказать, как ждет он своего сокола в отпуск и как ликует наконец душа его, когда сын вот так, как сейчас, сидит под тополями в кругу чабанов, самим своим появлением нарушив однообразие их жизни.
— Кроме тебя, Петро, все мы тут собрались такие, что никогда в жизни не летали, — окинул взглядом своих побратимов Демид. — Тот глухой, тот кривой, тот ребер недосчитывается, куда нам до полетов!.. Люди, которые не летали, — это, наверно, диво для тебя, Петро, а?
— Среди тех, кто пешком ходит, тоже разные люди есть: и бескрылые и крылатые.
— Это правда. Все мы, пехота, войны хлебнули, — подтвердил Демид не совсем в лад и опять за свое: — А расскажи хоть, какие мы есть оттуда, с высоты? Видно хоть нас? Или как букашки? Как кузьки какие-нибудь ползаем по земле?
«Не кузьки вы и не букашки, — хотел бы ответить им летчик. — И с самой большой высоты вижу я ваши руки загрубевшие и ваши лица, опаленные ветрами, вижу вас в пыли черных бурь и в холодной измороси осенью… Сызмала знаю ваш труд. Знаю, что работа чабанская совсем не такая, как кое-кто ее себе представляет. Быть чабаном — это не просто прогуливаться с герлыгой в степи да кашу чабанскую есть. Чабан — это тот, кто всю жизнь на ногах, кого зной продубливает, осенние ненастья пронизывают до костей. И когда другие еще спят, вы уже с отарами выходите из кошар в мокрую степь, на свои целодневные вахты…»
— Чабаны тоже рабочий класс, — говорит он им.
— Слышите? — живо подхватывает отец. — Мы тоже рабочий класс! А разве ж нет? И не только потому, что платим взносы профсоюзные, а потому, что рабочий день наш кончается в полночь, а встаешь, когда еще и черти на кулачках не дерутся.
— Каждый ягненочек через твои руки пройдет. — Демид оживился, куда и глухота девалась. — Отару ведешь — не присядешь, всегда впереди! Все следишь, чтобы она у тебя из-под пяты траву брала.
— А когда стрижка наступает! — воскликнул Корней. — Пота не меньше прольешь, чем иной возле домны!.. А спецодеждой нас обидели, — пожаловался он Петру. — Выдали чеботы на два сезона, а в кошарах навоз ты же знаешь какой — огонь!.. Там чеботы, будь они хоть железные, за месяц сгорят!
— Так-то вы своего добиваетесь! — выкрикнула Демидиха, люто краснея. — Директор вон трос для колодца никак не выпишет! Весь посекся, порвался. На днях как зацепило моего тетерю, чуть самого с ведром в колодец не утянуло!
— Да и про пенсии пора бы подумать, — буркнул Демид.
— Кому? Нам? — ястребом накинулся хозяин. — Нам до пенсий еще, как до Москвы на карачках!
Даже человека, чья жизнь проходит в небе, эта степь поражает своею беспредельностью и ослепительным блеском, само солнце здесь такое горячее и яркое, как будто ты очутился на другой, более близкой к светилу планете.
И все тут пахнет. И хоть пахнет не столько какими-то особенными ароматами степного разнотравья — трава здесь почти целиком вытоптана, — однако сын говорит истинную правду, что нет запахов роднее и милее ему, чем в этой степи, даже когда она пахнет просто горячим жиром отары и отцовым чабанским духом или же открытою настежь сухой кошарой, которую вот сейчас усиленно дезинфицирует солнце.
Одна из овец вдруг тревожно заблеяла в сторону кошары, и летчик, посмотрев туда, заметил, как между кустами чертополоха прыгает что-то похожее на зайчонка. Прыгает неумело, натужно, вскочит — и опять упадет, как будто подстреленное, затем поднимается снова.
— Вот говорят, что бог есть, — заговорил отец. — А где ж он есть? Пусть мы грешим, ну, а ягненок? Его он за что искалечил?
Живо, почти бегом, кинулся старый чабан к ягненку, взял его на руки, принес, положил к овце, и та сразу успокоилась.
— Вишь, как ножонки ему скрутило. Другие бегают, выбрыкивают, а этого всякий раз приходится подносить к матери, сам он не успевает по следу…
— А почему ж он такой?
— Такой уж уродился, да еще и не один: трое вот таких калек нынешний год в окоте… — Старик вдруг насупился, помрачнел. — А в Японии, я слышал, детей тридцать тысяч калеками народилось, это правда?
Сын промолчал. Заметив, что водитель ждет распоряжения, летчик отпустил его, сказав на прощание:
— До завтра.
Чабан насторожился: до завтра? Почему до завтра? Это такой отпуск? Старик насупился еще больше, но допытываться не стал — тот же чабанский гонор не позволял ему быть назойливым, лезть не в свое дело. Сын тем временем стал расспрашивать о жизни, и отец, поощряемый его вопросами, вскоре уже с жаром рассказывал о том, что больше всего волновало, — про настриг шерсти в этом году, про выпасы, которые все время сокращают, попутно выругал начальство, что не прислушивается к чабанам.
— Скота с каждым годом все больше становится, развели его столько, что фермы трещат, а придет зима — корми чем хочешь. Разве ж не было, что коров шлангами подвязывали к перекладинам? Подвяжут, да еще пробуют доить! Вот как хозяйствуем, — распалялся старик. — Весной, когда совсем прикрутило, приезжает советчик из области. «Камкой,[2] говорит, кормите! Рубите ее помельче, сдабривайте — пусть едят! А то спите тут, не ищете! Столько морской травы пропадает попусту на берегу, а у них скотина дохнет!»
— Так скотина ведь камку не ест! — удивился сын. — Огонь и тот ее не берет. Бензином, бывало, обольем, бензин обгорит, а камка вся цела.
— Такой «новатор»… Ну, я посмешищем быть не захотел, не стал дурную ихнюю камку собирать. Совсем задумал было бросить отару и перебраться жить на Центральную, даже герлыгу отнес директору в кабинет. «Кому, спрашиваю, передать?» Да только некому и передать, потому что не густо теперь вас, охотников за герлыгу браться. Молодые? Они начабанят! Им бы верхом на велосипеде отару заворачивать! У иного на каждой руке часы — одни спешат, другие отстают, — так он больше поглядывает на те, что спешат, по ним и пасет… А мы ж не вечны. Нас не станет, кому эту, — отец в сердцах стукнул о землю герлыгой, — кому ее передать?
— Так, может, мне? — усмехается сын на отцовские речи.
Старик пристально смотрит на сына, на его фуражку.
— Нет, ты — летай.
И после молчания снова:
— Тебе летать.
Не спеша направляются они к чабанскому жилью, прямо, плечом к плечу, ступают по этой твердой солончаковой почве, по которой летчик, кажется, еще совсем недавно бегал подпаском. Родная седая земля чабанская… Испокон веков по ней носились дикие кони… Тяжело груженные, двигались здесь чумацкие мажары с крымской белой солью… Полевица, тонконог-типчак струятся под ногами. Нет здесь ни болот, ни вечной мерзлоты с замороженными в ней мамонтами, одна твердь целинная, спрессованная веками. Твердь такая, что могли бы отсюда и межпланетные корабли стартовать.
Поодаль от кошары, на пригорке, высится островок тополей, белеют чабанские домики; там уже беготня, суетятся женщины-чабанки, пух и перья летят по степи, и слышится звонкий, неистово радостный крик:
— Ура! Петрусь приехал!
И навстречу мчится сестра Тоня, летит, сверкая коленями, впереди всех, а за нею, как хвост за кометой, — гурьба малышей. Раскрасневшаяся, ошалевшая от радости, Тоня с разгона налетает на брата и виснет у него на шее. Наконец брат, весь жарко обцелованный, вырывается из объятий, как из пламени, и отмечает про себя, что сестренка здорово подросла за время его отсутствия, стала почти взрослой девушкой. Налитая, тугая, как вишня, глаза горят, стреляют искрами, а волосы уже накрутила на голове по-модному. Окинула быстрым взглядом степь.
— Где же такси?
— А я в этот раз не на такси.
— На «газике»? С полигона дали? Ну, а когда ты уже прилетишь к нам, Петрик, на своем? На том, что быстрее звука?
— Когда-нибудь прилечу…
— Разве негде сесть, погляди!
И она обвела рукою степь, по которой разлился светлый океан марева.
Вся трепетно-возбужденная, Тоня выхватывает у брата из рук его саквояжик и мчится с ним к дому, то и дело оглядываясь весело на брата, русые, с золотистым отливом волосы ее рассыпались и треплются по плечам.
— Хлопот с нею не оберешься, — говорит отец больше с напускным недовольством. — Ишь как накудляла… То конским хвостом поднимет, то распустит, как утопленница. Разве у нее экзамены в голове?..
На дворе много детворы, чабанчуков и чабанят бесштанных, полно утят, цыплят, кроликов, ластятся чабанские собаки, всюду белеют перья, а над всем этим — над утятами-цыплятами, над перьями и над открытой летней кухней-плитой, которая вся шипит и пышет, — сияет добрая, всепокоряющая улыбка матери.
Мама!.. Она улыбается, а солнце искрится в капельках слез на ее щеках, она торопливо вытирает о фартук полные, раскрасневшиеся от жара плиты руки, губы ее дрожат от волнения и шепчут что-то самое ласковое, самое нежное, и, погрузившись в тепло ее груди, летчик на мгновение перестает быть летчиком, как будто нет за ним вдоль и поперек изборожденного неба, нет бешеных сверхзвуковых скоростей, нет ни команд, ни тревог, ни опасностей, а есть только покой, уют и радость вновь обретенного счастливого детства. Но это только на мгновение, а потом снова все становится на свое место, и вот он опять приезжий летчик, почти гость, и мать, подавив кипение своей радости, терпеливо ждет, пока сын не поздоровается с чабанами и чабанками. Он разговаривает, шутит с Демидом и Демидихой, у которых куча детей, — иные приезжие думают, что это внуки Демида, а оказывается, все они его сыновья. Потом летчик снова возле матери, и она получает возможность поводить его по двору, показать копнушку сена, которую отец недавно накосил и приберег специально для него, — оба хорошо знают, как любит их сын поспать на сене. Потом всей семьей осматривают топольки, зеленеющие такой густой, сочной зеленью, какой и не увидишь нигде в этой голой, рано выгорающей степи.
— Как там их с неба… видно? — спрашивает отец.
— Видно, — отвечает сын, разглядывая тополиные ветви. — Славные топольки, хорошо подросли.
И на следующее лето он будет любоваться ими, мерить глазом, только к тому времени их кроны разовьются еще больше.
В тот год, как пошел сын в авиационное, были посажены эти топольки. Только степняк знает, как нелегко их выходить тут, в степи, на ветрах. Но вырастил чабан Горпищенко, поливал, поил колодезной водой. Для того и посажены они, чтоб росли, чтоб сын видел их с неба!
Разрослись тополя, зазеленели. Поднялись выше хаты, на всю степь стали видны, и летчики сельскохозяйственной авиации хорошо знают этот чабанский тополиный островок, используют его как свой ориентир.
А к вечеру между тополями, где тень держится в течение дня и степная трава волнистым руном стелется по земле, накрыты столы в честь летчика, а за столами сидят чабаны.
Уже выпили первую чарку, и молодой, сваренный по-чабански барашек дымится в мисках, в тех самых мисках, с которыми старый Горпищенко никак не может примириться, потому что издавна у чабанов принято есть тузлук только из деревянного корытца. Старик и сегодня долго пререкался с женщинами, грозил смести прочь со стола их тарелки и вилки и только после того, как убедился, что дедовское деревянное корытце уже рассохлось, вынужден был пойти на уступки цивилизации. Он и сам теперь, наравне с другими, ест из тарелочки, которую ему, словно в шутку, подставила Тоня.
А мать не перестает угощать сына.
— Вот тебе хрящик… Ты же любишь, — подкладывает она горячую нежнейшую баранину, подливает юшку, в которой плавает разваренный лук, нарезанный кольцами. Летчик, лакомясь тузлуком, смакуя солоноватое густое варево, почтительно слушает отцовские рассказы.
— Я человек давнишний, — говорит старый чабан. — Я оттуда, где пешком ходили. Где на волах ездили. На конях скакали. Ветер! Птица! — вот что было самым быстрым. А ты вот теперь в сталь завернешься — и в небо, как снаряд. Сверкнешь, как та ракета, — и нет тебя.
— А разве вы, тату, видели ракету? — лукавит Тоня.
Чабан покосился на дочь сурово, выждал тишины.
— Видел.
И хотя присутствующие здесь впервые это от него слышат, но нет у них недоверия: кто знает, может, и видел.
— Какая же она, тату, ракета?
— А такая, как и его самолет, — кивает старик на сына. — Толстая, блестящая… Вылитый самолет, только крылья обрублены.
Корней, чабан правой руки, сутулый, сморщенный, как стручок, хотя годами и не старый, считает, видно, что сейчас самое время пожаловаться летчику на соседа — полигон (у Корнея это уже стало привычкой — на все подряд жаловаться).
— Скажи ты им, Петро, у тебя ж там полно дружков на полигоне, пусть не запрещают нашим отарам подальше на их землю заходить, — говорит он, с трудом разжевывая пищу. — Потому что раньше все-таки было немного повольготнее, а теперь вот уже с месяц бомбят или не бомбят, а межу переступать не смей. Уралову, начальнику полигона, скажи, он же тебе друг.
— Что ж я ему скажу? — усмехается летчик. — Чтоб позволил вам с овцами под бомбы лезть?
— А ты слушай Корнея, он тебе наплачется, — весело вставляет отец. — Ему отовсюду притеснения да обиды, а как чарку выпьет, так сам первый в драку лезет.
— Даром что голова инеем покрывается, — добавила Корнеиха, — а на Центральной недавно так разбушевался, что дружинники даже седого хотели остричь, мне уже пришлось отбивать.
— Через то, Корней, и на полигон тебя не пускают, что ты забияка, а там люди мирные, — заключает чабан Горпищенко, и все смеются.
Тоня между тем, наклонившись к матери, шепчет в восхищении:
— Гляньте, мама, ей-же-ей, у нашего Петруся гагаринская улыбка! Это у них теперь, видно, такая мода…
— Тебе уже сразу и мода… Он всегда так улыбался, — тихо отвечает мать, а сама не может отвести глаз от сына.
А тот, сняв китель, сидит в своей зеленой летной рубашке и с таким же зеленым галстуком, который он разрешил себе чуть ослабить только за столом.
Улыбка улыбкой, а вон те ранние залысинки, появившиеся на лбу, сильно тревожат мать. Говорят, что летчики и подводники рано лысеют — верно, не от легкой жизни. Как он живет? Какая у него работа? Куда он летает, что его радует и что печалит — ничего об этом матери не известно. Как отголосок беспокойной жизни своего сына, слышит она только ежедневный грохот в вышине, грозный, могучий, будто кто-то рвет, разламывает небо. До сих пор мать никак не может привыкнуть к тому, что небо, ясное, приморское, все время над нею грохочет. Летом и зимой. Днем и ночью. И людям всего совхоза, всех отделений (которые она по старой памяти называет хуторами) приходится вечно жить под этот тревожащий гул. И хотя другие, может, к этому успели привыкнуть, считают естественным — ведь рядом полигон, к которому издалека летят чьи-то сыны на свою грозную работу, — но она, сама мать летчика, никак не может привыкнуть к громыханью, взрывам, сотрясениям. Она ведь помнит и иное небо, то небо, которое человек знал лишь по громовым раскатам, а все лето в нем только орлы да коршуны парили тихо, беззвучно. И если, бывало, забеспокоится вдруг наседка, а цыплята комочками покатятся по двору, так и знай — в небе повис орел или коршун.
— Спутники… Ракеты… А у меня еще в памяти, как мы увидели первый ероплан, — говорит мать Демида, старая костлявая женщина, к которой с обеих сторон жмутся внуки. — На панском току как раз молотили, а он летит… И молотилку остановили, крестимся да все глядим, как он медленно, потихонечку по небу пролетает.
— А теперь: сверкнул, загрохотал — и уже он там, где мороз сизый, хоть на земле в это время жарища в сорок градусов, — как будто немного хвастаясь сыном, произносит Горпищенко-чабан. — У меня, чабана, и то дух перехватывает, когда он вверх карабкается. Стоишь, смотришь, а он полез и полез куда-то прямо на седьмое небо… Растет сила, растут скорости, да только чем оно все это кончится, сынок?
— А тем, — сдерживает улыбку сын, — что летать будем еще быстрее. И дальше. И выше. Может, даже совсем без крыльев. А крылья нам останутся лишь на память, как вам брейцара. Или как морякам остались паруса на память о былых временах.
Чабан левой руки Демид, контуженный в войну и с тех пор глуховатый, хлопает глазами, что-то хочет спросить.
— А это правда, Петро, что кровь из кожи выступает, так тебя прижимает на тех скоростях? — наконец спрашивает он. — И что, бывает, и сознание теряет ваш брат?
— Со мною не случалось. Если бы случилось, то с вами бы тут чарку не пил, — сказал гость шутливо, но после этого какая-то тень промелькнула на его лице, как будто вспомнил нечто совсем не шуточное и для других непонятное. — Бывают, конечно, перегрузки, так тебя тяжестью наливает, даже в глазах темнеет, но потом… Если летчик уже влетался и хорошо чувствует самолет, ничто ему не страшно. Был, правда, у нас один курсант, намучились мы с ним: земли боялся. Ему приземляться, а он схватится за ручку и прямо сок из нее выжимает.
— Ну, и что же с ним? — спросила встревоженно Корнеева жена.
— Отчислили.
— Может, и тебя, сынок, отчислят? — невольно вырвалось у матери.
— Не те ветры дуют, чтоб отчислять, — возразил отец. — Да и чего ради? Молодой, здоровый, смекалистый… Я вот на что уже, и то порой душа взыграет: хоть бы раз! Разок бы подняться туда, где и птица никакая не бывала. А ты, старая, гордилась бы лучше сыном. Подумай: каждый день в небе!
— И каждый день… на волоске.
— Кто не рискует, тот шампанского не пьет, — вставил Корней, а молодица его, в сторонке кормившая грудью младенца, так покосилась при этом на мужа, что он даже съежился, потому — все знали — рука у Корнеихи тяжелая и не раз она вытаскивала мужа из чайной на Центральной.
Тоня пересела поближе к брату.
— Серобаба рассказывал, что когда впервые без инструктора вылетаешь, то в воздухе петь хочется. Каждый курсант, говорит, в первом полете поет, это правда?
— Кто поет, сестричка, а кто и плачет, — усмехнулся брат.
И, погасив усмешку, он опять стал серьезным, сосредоточенным. Сидит и молча смотрит сквозь тополя на чабанские герлыги; подобно алебардам, они висят рядком под крышей на белой, освещенной заходящим солнцем стене и слегка покачиваются от дуновения ветерка.
Отец над чем-то размышляет, потом говорит сокрушенно:
— Деды и прадеды пешком ходили, хоть, наверное, не один в душе сокола носил… А раз уж ты, Петро, на крыльях…
Мог бы еще добавить, как эта сыновняя крылатость скрашивает и его будничную чабанскую жизнь, мог бы порассказать, как ночами, когда звезды в полете рассекают темноту над степью (даже не сразу разберешь, звезда это или самолет), он, ведя отару, ищет в звездном пространстве и летучую звезду своего сына; как по утрам, когда серебристые реактивные, вырвавшись откуда-то с приморского аэродрома, стремительно идут ввысь и тянут за собой ослепительно белые ленты, он думает, не сын ли то, случаем, пролетел и расписался в небе над родной утренней степью. Мог бы рассказать, как ждет он своего сокола в отпуск и как ликует наконец душа его, когда сын вот так, как сейчас, сидит под тополями в кругу чабанов, самим своим появлением нарушив однообразие их жизни.
— Кроме тебя, Петро, все мы тут собрались такие, что никогда в жизни не летали, — окинул взглядом своих побратимов Демид. — Тот глухой, тот кривой, тот ребер недосчитывается, куда нам до полетов!.. Люди, которые не летали, — это, наверно, диво для тебя, Петро, а?
— Среди тех, кто пешком ходит, тоже разные люди есть: и бескрылые и крылатые.
— Это правда. Все мы, пехота, войны хлебнули, — подтвердил Демид не совсем в лад и опять за свое: — А расскажи хоть, какие мы есть оттуда, с высоты? Видно хоть нас? Или как букашки? Как кузьки какие-нибудь ползаем по земле?
«Не кузьки вы и не букашки, — хотел бы ответить им летчик. — И с самой большой высоты вижу я ваши руки загрубевшие и ваши лица, опаленные ветрами, вижу вас в пыли черных бурь и в холодной измороси осенью… Сызмала знаю ваш труд. Знаю, что работа чабанская совсем не такая, как кое-кто ее себе представляет. Быть чабаном — это не просто прогуливаться с герлыгой в степи да кашу чабанскую есть. Чабан — это тот, кто всю жизнь на ногах, кого зной продубливает, осенние ненастья пронизывают до костей. И когда другие еще спят, вы уже с отарами выходите из кошар в мокрую степь, на свои целодневные вахты…»
— Чабаны тоже рабочий класс, — говорит он им.
— Слышите? — живо подхватывает отец. — Мы тоже рабочий класс! А разве ж нет? И не только потому, что платим взносы профсоюзные, а потому, что рабочий день наш кончается в полночь, а встаешь, когда еще и черти на кулачках не дерутся.
— Каждый ягненочек через твои руки пройдет. — Демид оживился, куда и глухота девалась. — Отару ведешь — не присядешь, всегда впереди! Все следишь, чтобы она у тебя из-под пяты траву брала.
— А когда стрижка наступает! — воскликнул Корней. — Пота не меньше прольешь, чем иной возле домны!.. А спецодеждой нас обидели, — пожаловался он Петру. — Выдали чеботы на два сезона, а в кошарах навоз ты же знаешь какой — огонь!.. Там чеботы, будь они хоть железные, за месяц сгорят!
— Так-то вы своего добиваетесь! — выкрикнула Демидиха, люто краснея. — Директор вон трос для колодца никак не выпишет! Весь посекся, порвался. На днях как зацепило моего тетерю, чуть самого с ведром в колодец не утянуло!
— Да и про пенсии пора бы подумать, — буркнул Демид.
— Кому? Нам? — ястребом накинулся хозяин. — Нам до пенсий еще, как до Москвы на карачках!
 Женщины хохочут, заливаются и чабанята, и Тоня смеется, зорко поглядывая на брата, как он ко всему этому относится.
— Ну, а в высоту… далеко вы летаете? — спрашивает немного погодя Корней, с покрасневшим уже носом.
Летчик щурится в веселой загадочности.
— Возьмите расстояние, которое вы пройдете с отарой за сутки, да поставьте его стоймя — вот это и будет наша высота.
Представив себе такую высоту, мать даже охает:
— Ой, боже!..
— Что ты божкаешь? — косится на нее муж. — Не бог теперь, а Гагарин!
Он снова наливает стопки. Всем обществом выпивают за здоровье летчика: «Лебединого тебе века!»
А за летней кухней-очагом, за крольчатником солнце садится на краю степи. Растет, разбухает, превращаясь в багрово-красный туманный шар. Взгляды чабанов какое-то мгновение прикованы к нему. Бывает вечерняя заря золотая, бывает алая, а эта багрянисто-туманная, пурпурная, густая.
— Задует, видно, завтра, — говорит Корней.
— А вот для нас эти приметы уже устарели, — замечает летчик с легким налетом грусти.
— Почему же устарели? — удивляется отец. — Разве уже не веришь?
— Не в том дело. Такие приметы имеют силу только до этого видимого глазу горизонта. А у нас иные радиусы. Нам что синоптик скажет.
На некоторое время за столом воцаряется тишина. Слышно, как самый маленький Корнеев посапывает на руках у матери.
Прямо от отары подошел с герлыгой еще один чабан — Микола Карнаух, высокий, худой, без левого глаза, вытекшего на фронте. Слегка пригубив и закусив, Карнаух подсаживается к старшему чабану, и слышно, как он приглушенным голосом рассказывает ему про какую-то «вон ту», что «опять не пасется», что «заскучала чего-то», — речь, очевидно, идет о больной овцематке. Карнаух вскоре ушел к своей отаре, а у Горпищенко после этого переменилось настроение, он все потягивал цигарку и больше молчал.
Тоня придвинулась к брату, нагнулась к нему и с таинственным видом зашептала на ухо, хотя про ее тайны тут знали все, вплоть до чабанят.
— Как хорошо, что ты приехал, — слышит брат ее горячий шепот. — Поможешь мне разгадать одну загадку… Вместе с твоей телеграммой я письмо получила. — Тоня при этом показала ему из-под выреза платья кончик измятого конверта и снова спрятала его глубже на груди. — Чудо, а не письмо: одни точки да тире!
— Азбукой Морзе? — догадался брат. — Любопытно!
— То из космоса письма нашей Тоне идут, — шутит Демидиха, развеселившись. — Кто же он?
— Это, видно, тот, что по радио Тоню вызывал, — укачивая ребенка, сказала Корнеева молодица летчику. — У нас же тут целая история была, Петро… Сидим вот так вечерком, слушаем радио, как вдруг оттуда, из приемника, голос мальчишеский: «Тоня! Тоня! Ты слышишь меня? Какую тебе пластинку поставить?» Кашлянул, засмеялся и поставил «Верховину»…
— Знает, разбойник, чем Тоне угодить, — вставил Корней.
— Баловство это все, — сказал отец строго. — Лучше бы про науку думала.
А мать тоже укоризненно кивнула на Тоню:
— Такие теперь ученицы пошли. Экзамены подходят, а ей хоть бы что!.. Гулянки уже на уме.
— Разве ж я просила мне писать? — воскликнула Тоня обиженно.
— Такие письма, да еще зашифрованные, это тоже наука, — вступился за сестру брат. — Хочется прочитать?
— Ой, хочется! — вспыхнула Тоня.
— Давай сюда, попробуем разгадать твою шифровку…
— Нет, нет, нет! — вскочила Тоня и, прижимая письмо к груди, бросилась наутек.
Вскоре она, раскрасневшаяся, стояла за тополем и смотрелась в зеркальце. Мать и там сквозь листву увидела ее.
— Вишь, опять прихорашивается. Гей, девка!
— Что ты все гейкаешь на нее, — рассердился отец.
— А чего она только и знает перед зеркалом вертеться. Все выщипывается — брови ей не такие!
— Птицы полжизни только то и делают, что выщипываются, — примирительно сказал Демид. — Сидит себе где-нибудь на кургане и выщипывается, чистит перо… Это и для красоты им нужно, и для здоровья.
— Недолго теперь выщипываться, раз уже пишет какой-то, — сказала жена Корнея, а старая молчаливая чабанка, мать Демида, добавила:
— Не браните девчонку. Может, то ее судьба ей пишет.
— Не успеете опомниться, как после Клавы и у этой свадьбу сыграем, — сказал Корней смачно, как бы наперед предвкушая будущее угощение.
При упоминании о старшей дочери, замужество которой сложилось не совсем удачно, Горпищенко помрачнел.
— Рано болтать о свадьбе. Еще от той похмелье не прошло!
— Довольно, — поднялась мать. — Наговорились. Отдыхать Петрусю пора…
И вот убирают столы, пустеет двор, одна за другой исчезают со стены чабанские алебарды…
А степь синеет, сиреневой становится, гаснет. Вечерняя звезда, далекая, неведомая красавица, алмазно светит с неба, заглядывает на чабанский двор, где в задумчивости похаживает летчик.
Мать готовит постель сыну не в хате, стелет ему там, где он любит: на дворе, на сухом душистом сене — копенку эту отец недаром приберег. Раздевшись в хате, сын выходит во двор в одних трусах и майке. Без мундира он такой близкий, такой свой! Тоня опять вертится около него.
— Ну, давай теперь расшифруем, — говорит брат.
Еще достаточно светло, чтобы можно было прочесть эту азбуку из точек-тире, и Петро читает ее свободно, как обыкновенный шрифт:
Женщины хохочут, заливаются и чабанята, и Тоня смеется, зорко поглядывая на брата, как он ко всему этому относится.
— Ну, а в высоту… далеко вы летаете? — спрашивает немного погодя Корней, с покрасневшим уже носом.
Летчик щурится в веселой загадочности.
— Возьмите расстояние, которое вы пройдете с отарой за сутки, да поставьте его стоймя — вот это и будет наша высота.
Представив себе такую высоту, мать даже охает:
— Ой, боже!..
— Что ты божкаешь? — косится на нее муж. — Не бог теперь, а Гагарин!
Он снова наливает стопки. Всем обществом выпивают за здоровье летчика: «Лебединого тебе века!»
А за летней кухней-очагом, за крольчатником солнце садится на краю степи. Растет, разбухает, превращаясь в багрово-красный туманный шар. Взгляды чабанов какое-то мгновение прикованы к нему. Бывает вечерняя заря золотая, бывает алая, а эта багрянисто-туманная, пурпурная, густая.
— Задует, видно, завтра, — говорит Корней.
— А вот для нас эти приметы уже устарели, — замечает летчик с легким налетом грусти.
— Почему же устарели? — удивляется отец. — Разве уже не веришь?
— Не в том дело. Такие приметы имеют силу только до этого видимого глазу горизонта. А у нас иные радиусы. Нам что синоптик скажет.
На некоторое время за столом воцаряется тишина. Слышно, как самый маленький Корнеев посапывает на руках у матери.
Прямо от отары подошел с герлыгой еще один чабан — Микола Карнаух, высокий, худой, без левого глаза, вытекшего на фронте. Слегка пригубив и закусив, Карнаух подсаживается к старшему чабану, и слышно, как он приглушенным голосом рассказывает ему про какую-то «вон ту», что «опять не пасется», что «заскучала чего-то», — речь, очевидно, идет о больной овцематке. Карнаух вскоре ушел к своей отаре, а у Горпищенко после этого переменилось настроение, он все потягивал цигарку и больше молчал.
Тоня придвинулась к брату, нагнулась к нему и с таинственным видом зашептала на ухо, хотя про ее тайны тут знали все, вплоть до чабанят.
— Как хорошо, что ты приехал, — слышит брат ее горячий шепот. — Поможешь мне разгадать одну загадку… Вместе с твоей телеграммой я письмо получила. — Тоня при этом показала ему из-под выреза платья кончик измятого конверта и снова спрятала его глубже на груди. — Чудо, а не письмо: одни точки да тире!
— Азбукой Морзе? — догадался брат. — Любопытно!
— То из космоса письма нашей Тоне идут, — шутит Демидиха, развеселившись. — Кто же он?
— Это, видно, тот, что по радио Тоню вызывал, — укачивая ребенка, сказала Корнеева молодица летчику. — У нас же тут целая история была, Петро… Сидим вот так вечерком, слушаем радио, как вдруг оттуда, из приемника, голос мальчишеский: «Тоня! Тоня! Ты слышишь меня? Какую тебе пластинку поставить?» Кашлянул, засмеялся и поставил «Верховину»…
— Знает, разбойник, чем Тоне угодить, — вставил Корней.
— Баловство это все, — сказал отец строго. — Лучше бы про науку думала.
А мать тоже укоризненно кивнула на Тоню:
— Такие теперь ученицы пошли. Экзамены подходят, а ей хоть бы что!.. Гулянки уже на уме.
— Разве ж я просила мне писать? — воскликнула Тоня обиженно.
— Такие письма, да еще зашифрованные, это тоже наука, — вступился за сестру брат. — Хочется прочитать?
— Ой, хочется! — вспыхнула Тоня.
— Давай сюда, попробуем разгадать твою шифровку…
— Нет, нет, нет! — вскочила Тоня и, прижимая письмо к груди, бросилась наутек.
Вскоре она, раскрасневшаяся, стояла за тополем и смотрелась в зеркальце. Мать и там сквозь листву увидела ее.
— Вишь, опять прихорашивается. Гей, девка!
— Что ты все гейкаешь на нее, — рассердился отец.
— А чего она только и знает перед зеркалом вертеться. Все выщипывается — брови ей не такие!
— Птицы полжизни только то и делают, что выщипываются, — примирительно сказал Демид. — Сидит себе где-нибудь на кургане и выщипывается, чистит перо… Это и для красоты им нужно, и для здоровья.
— Недолго теперь выщипываться, раз уже пишет какой-то, — сказала жена Корнея, а старая молчаливая чабанка, мать Демида, добавила:
— Не браните девчонку. Может, то ее судьба ей пишет.
— Не успеете опомниться, как после Клавы и у этой свадьбу сыграем, — сказал Корней смачно, как бы наперед предвкушая будущее угощение.
При упоминании о старшей дочери, замужество которой сложилось не совсем удачно, Горпищенко помрачнел.
— Рано болтать о свадьбе. Еще от той похмелье не прошло!
— Довольно, — поднялась мать. — Наговорились. Отдыхать Петрусю пора…
И вот убирают столы, пустеет двор, одна за другой исчезают со стены чабанские алебарды…
А степь синеет, сиреневой становится, гаснет. Вечерняя звезда, далекая, неведомая красавица, алмазно светит с неба, заглядывает на чабанский двор, где в задумчивости похаживает летчик.
Мать готовит постель сыну не в хате, стелет ему там, где он любит: на дворе, на сухом душистом сене — копенку эту отец недаром приберег. Раздевшись в хате, сын выходит во двор в одних трусах и майке. Без мундира он такой близкий, такой свой! Тоня опять вертится около него.
— Ну, давай теперь расшифруем, — говорит брат.
Еще достаточно светло, чтобы можно было прочесть эту азбуку из точек-тире, и Петро читает ее свободно, как обыкновенный шрифт:
«Пишет тебе тот, кто в просторы эфира шепчет твое имя, чтоб долетело оно и до других планет. Но ты не задавайся. Будь догадливее. Твой навеки!»— Что ж, поздравляю, — весело говорит брат, возвращая письмо. — Только ты теперь сама овладевай морзянкой. Впрочем, следующее письмо он тебе наверняка напишет уже знаками древних инков… — Но кто ж это, кто? — Девушка даже кулачки сжала в радостном смятении. — Ты опять за свое, — прикрикнул на Тоню отец, подходя к ним со своей герлыгой. — Марш отсюда! Матери помоги вон посуду убрать… А сына ведет к копнушке, ждет, пока он уляжется. Подходит мать, спрашивает: — Не жестко? Не колется? — Нет. — Тогда спокойной ночи. И оба тихо оставляют Петра с глазу на глаз со степью, со звездным небом. Южные ночи почти без вечеров, чуть только закат отпылал, и уже темнеет, сразу, внезапно. Небо — сплошной космический мрак с разбросанными крупинками звезд. Любит он такие безвечерние ночи, и эту тишину, и какую-то таинственность, гармонию во всей природе. Такие ночи, верно, любили созерцать древние мудрецы — и халдеи и эллины… Отдыхает степь, набирается прохлады после дневного слепящего зноя. Взошла луна, прадавнее казацкое солнце, на котором теперь лежит наш вымпел… Лежит и ждет кого-то, зарывшись в космической, не тронутой ветрами пылище… Кто найдет его? Кто первым туда долетит? Тишина, тишина, как на дне океана. Океан лунной ночи разливается вокруг. И глубину тишины не уменьшает ни стрекотанье кузнечика где-то в траве, ни шелест тополиных ветвей… Как он любит эту ночную звездную степь! Где-то песня тает, далекая, еле слышная, будто сквозь сон. Воздух чистый, душистый… А над тобой бесконечный простор, усеянный звездами; светлой порошей тянется Чумацкий Шлях, шлях твоих пращуров — чумаков, проходивших тут в черных дегтярных рубахах… Проходили и не знали, что над ними скрутились в спираль галактики, а теперь и до них, этих непостижимо далеких галактик, достигает твой разум. Но действительно ли достигает? В самом ли деле наш разум так всесилен и всемогущ? Да, да!.. В самые сокровеннейшие космические глубины луч твоей мысли проникнет… Повеял ветерок, и задрожали сухие стебельки, зазвучал тонко ковыль; даже скошенный, даже ставший уже сеном, он продолжает петь по-степному. — Петрусь, ты еще не спишь? Это Тоня. Не была бы она Тоней, если бы и здесь, перед сном, не проведала брата. Подкралась лисицей, присела на край постели. — Ты только не подумай плохо про это письмо, Петрик, ничего такого не подумай… Я порвала его. Это кто-то просто пошутил. — Ну, а кто же все-таки автор? — Не знаю, ей-ей. Чуточку, правда, догадываюсь. Да только я ноль внимания в ту сторону… Вот ты мне лучше про себя расскажи… Про какие-нибудь случаи необыкновенные, приключения…
 Услышав песню, доносившуюся откуда-то издалека, брат спросил:
— Где это поют?
— Наверно, на Пятом участке… Девчата с фермы идут.
— Хорошо поют. Ты спрашивала: правда ли, что мы поем в полете. Был у нас случай, Тоня… Сейчас мне эта песня о нем напомнила. Один наш летчик забыл кислород перед полетом включить. Щелкал в домино до последнего, а тут вдруг команда, вскочил, побежал — знаешь, как это бывает… Набрал высоту, а кислорода нет, стал терять сознание. С земли посылают ему команды, не отвечает, ничего не слышит и… поет! Это бывает в таком состоянии. А при снижении снова пришел в себя, посадил самолет, даже не повредил. Ну, конечно, за кислород кому следует нагорело, летчику — само собой, а мы после всего спрашиваем: «Что это ты там напевал, откуда ты песню такую выцарапал, совсем какая-то незнакомая…» — «А это, говорит, мама когда-то мне в детстве пела… Я и сам уже этой песни не помню, а как стал сознание терять, она сама по себе выплыла, родилась откуда-то из самых недр памяти…» Так что, Тоня, летчики не только от восторга поют.
— Ну, а в такие ночи вы летаете?
— Конечно. Тихо, светит луна, ночь как раз для полетов.
— И над морем ты ночью летал? В звездную тихую ночь?
— Летал.
— Красиво?
— Нам не нравится.
— Почему?
— Потому именно, что звездная: над тобой небо и звезды, и под тобой такое же небо и звезды. Не знаешь, какие звезды настоящие… Просто в фантастике звездной летишь… Опытному летчику, конечно, ничего, а если новичок: неведомые места, вокруг звездный хаос, линия горизонта потеряна, он начинает «выправлять» самолет, хотя на самом деле тот идет ровно, «выправляет» и заваливает… Не любят наши хлопцы полигонов на воде. Лететь в звездную ночь над морем для нашего брата, считай, не менее хлопотливое дело, чем фронт грозы пробивать…
— А разве вы и в грозу летаете?
— Вообще-то не выпускают, слово синоптика — закон, но ведь и синоптик всего не предусмотрит…
И, помолчав, словно колеблясь, стоит ли рассказывать об этом Тоне или нет, брат стал вполголоса вспоминать какого-то, видно, близкого ему летчика, который перед вылетом спросил своего старшего: «А там же гроза?» И указал на тучу, могучую, синюю, стоявшую над горами (потому что аэродром их там, где леса, где высокие горы). «Эта гроза еще неделю стоять будет», — успокоил его старший.
— И впрямь, нередко бывает, что тучи чуть не неделю стоят там, в горах, а мы летаем. Но на этот раз случилось иначе…
И дальше брат рассказывает, как тот летчик попал в страшную грозу над горами и фронт этой грозы оказался настолько могучим, что пробить его было невозможно. В самолете стало темно, только вспышки молнии сверкали совсем рядом, все приборы отказали. Выход один — катапультироваться. И он катапультируется, то есть выстреливает себя из самолета вместе с сиденьем… Но довелось это сделать при такой большой скорости, что и шлемофон сорвало, раздело Летчика и разуло — одни лохмотья остались на нем от его бриджей, от сапог… А хуже всего, что руку повредило. Этого он, правда, сразу не почувствовал, обнаружил травму, только когда потянулся к парашюту. Не слушается рука! Перелом! Вторая, к счастью, послушалась. Дернул парашют — и душа замерла: парашют раскрылся, но изодранный весь, одни лоскутья над головой! (Нет, не бойся, Тоня, это просто система парашюта была такая: купол не сплошной, а полосками-лентами…)
— И вот вообрази себе: летит этот оборванный, в лохмотьях человек в тучах, и рука у него переломана, и жизнь его держится если не на волоске, то только на тех парашютных полосках, дождь льет, темнота, электрические разряды бьют совсем близко… И все же человек тот чувствовал себя счастливым: он побеждал и темноту, и грозу, и всю силу стихий…
— Ну, а где же приземлился тот летчик?
— Приземлился в каком-то межгорье, в ущелье… Нашел его там чабан (в горах тоже есть чабаны!), спрашивает: «Ты наш?» А сам глядит на него, как на пришельца из других миров…
Затаив дыхание, слушает Тоня брата. Сидит, не шелохнется, положив голову на поджатые колени. А когда брат умолк, через какое-то мгновение спросила:
— Ну, а теперь… Он снова летает?
— У нас пословица: «Больше летаешь — больше живешь»… Немного отлежался, рука срослась — и снова в полет! Правда, он теперь временно на других самолетах, на тяжелых машинах утюжит небо…
И в его голосе Тоня уловила нечто похожее на печаль или сожаление.
— Скажи, Петрусь, летчик тот, что катапультировался… это был ты?
Брат засмеялся, слегка толкнул ее в плечо.
— Иди. Отбой. Спать пора.
— Знаю, знаю: это был ты! — воскликнула Тоня, вскакивая и убегая к хате. — А после такой катапульты в космос послать могут?
— Могут, — успокоил он весело.
И снова тишина, безмолвие степи, только стебелек сена ровно поет, тронутый ночным ветерком, убаюкивает… Сладостно слушать летчику эту извечную музыку степи, что ни на какой другой планете не услышишь… Улегся поудобнее, закутался в легонькое одеяло, и — тело растаяло.
А по степи медленно движется отара, и необычный этой ночью ведет ее чабан. Объездчик встретил бы — не узнал. Не в шапке сегодня старый чабан, не в картузе затасканном, а в бравой фуражке летчика, на которой крылья есть! В руках герлыга, на голове роскошная летная фуражка, отражающая лунный свет… Догадался бы объездчик: приехал, значит, сын Горпищенко в отпуск.
Спит сын, отдыхает на сене; одежда его лежит в хате, аккуратно сложенная на стуле, а фуражка с крыльями целую ночь будет ходить по степи при отаре, и только на рассвете, когда первые реактивные загрохочут в небе, возвратится она снова в хату и тихо ляжет сверху на ладно сложенный летный мундир.
Услышав песню, доносившуюся откуда-то издалека, брат спросил:
— Где это поют?
— Наверно, на Пятом участке… Девчата с фермы идут.
— Хорошо поют. Ты спрашивала: правда ли, что мы поем в полете. Был у нас случай, Тоня… Сейчас мне эта песня о нем напомнила. Один наш летчик забыл кислород перед полетом включить. Щелкал в домино до последнего, а тут вдруг команда, вскочил, побежал — знаешь, как это бывает… Набрал высоту, а кислорода нет, стал терять сознание. С земли посылают ему команды, не отвечает, ничего не слышит и… поет! Это бывает в таком состоянии. А при снижении снова пришел в себя, посадил самолет, даже не повредил. Ну, конечно, за кислород кому следует нагорело, летчику — само собой, а мы после всего спрашиваем: «Что это ты там напевал, откуда ты песню такую выцарапал, совсем какая-то незнакомая…» — «А это, говорит, мама когда-то мне в детстве пела… Я и сам уже этой песни не помню, а как стал сознание терять, она сама по себе выплыла, родилась откуда-то из самых недр памяти…» Так что, Тоня, летчики не только от восторга поют.
— Ну, а в такие ночи вы летаете?
— Конечно. Тихо, светит луна, ночь как раз для полетов.
— И над морем ты ночью летал? В звездную тихую ночь?
— Летал.
— Красиво?
— Нам не нравится.
— Почему?
— Потому именно, что звездная: над тобой небо и звезды, и под тобой такое же небо и звезды. Не знаешь, какие звезды настоящие… Просто в фантастике звездной летишь… Опытному летчику, конечно, ничего, а если новичок: неведомые места, вокруг звездный хаос, линия горизонта потеряна, он начинает «выправлять» самолет, хотя на самом деле тот идет ровно, «выправляет» и заваливает… Не любят наши хлопцы полигонов на воде. Лететь в звездную ночь над морем для нашего брата, считай, не менее хлопотливое дело, чем фронт грозы пробивать…
— А разве вы и в грозу летаете?
— Вообще-то не выпускают, слово синоптика — закон, но ведь и синоптик всего не предусмотрит…
И, помолчав, словно колеблясь, стоит ли рассказывать об этом Тоне или нет, брат стал вполголоса вспоминать какого-то, видно, близкого ему летчика, который перед вылетом спросил своего старшего: «А там же гроза?» И указал на тучу, могучую, синюю, стоявшую над горами (потому что аэродром их там, где леса, где высокие горы). «Эта гроза еще неделю стоять будет», — успокоил его старший.
— И впрямь, нередко бывает, что тучи чуть не неделю стоят там, в горах, а мы летаем. Но на этот раз случилось иначе…
И дальше брат рассказывает, как тот летчик попал в страшную грозу над горами и фронт этой грозы оказался настолько могучим, что пробить его было невозможно. В самолете стало темно, только вспышки молнии сверкали совсем рядом, все приборы отказали. Выход один — катапультироваться. И он катапультируется, то есть выстреливает себя из самолета вместе с сиденьем… Но довелось это сделать при такой большой скорости, что и шлемофон сорвало, раздело Летчика и разуло — одни лохмотья остались на нем от его бриджей, от сапог… А хуже всего, что руку повредило. Этого он, правда, сразу не почувствовал, обнаружил травму, только когда потянулся к парашюту. Не слушается рука! Перелом! Вторая, к счастью, послушалась. Дернул парашют — и душа замерла: парашют раскрылся, но изодранный весь, одни лоскутья над головой! (Нет, не бойся, Тоня, это просто система парашюта была такая: купол не сплошной, а полосками-лентами…)
— И вот вообрази себе: летит этот оборванный, в лохмотьях человек в тучах, и рука у него переломана, и жизнь его держится если не на волоске, то только на тех парашютных полосках, дождь льет, темнота, электрические разряды бьют совсем близко… И все же человек тот чувствовал себя счастливым: он побеждал и темноту, и грозу, и всю силу стихий…
— Ну, а где же приземлился тот летчик?
— Приземлился в каком-то межгорье, в ущелье… Нашел его там чабан (в горах тоже есть чабаны!), спрашивает: «Ты наш?» А сам глядит на него, как на пришельца из других миров…
Затаив дыхание, слушает Тоня брата. Сидит, не шелохнется, положив голову на поджатые колени. А когда брат умолк, через какое-то мгновение спросила:
— Ну, а теперь… Он снова летает?
— У нас пословица: «Больше летаешь — больше живешь»… Немного отлежался, рука срослась — и снова в полет! Правда, он теперь временно на других самолетах, на тяжелых машинах утюжит небо…
И в его голосе Тоня уловила нечто похожее на печаль или сожаление.
— Скажи, Петрусь, летчик тот, что катапультировался… это был ты?
Брат засмеялся, слегка толкнул ее в плечо.
— Иди. Отбой. Спать пора.
— Знаю, знаю: это был ты! — воскликнула Тоня, вскакивая и убегая к хате. — А после такой катапульты в космос послать могут?
— Могут, — успокоил он весело.
И снова тишина, безмолвие степи, только стебелек сена ровно поет, тронутый ночным ветерком, убаюкивает… Сладостно слушать летчику эту извечную музыку степи, что ни на какой другой планете не услышишь… Улегся поудобнее, закутался в легонькое одеяло, и — тело растаяло.
А по степи медленно движется отара, и необычный этой ночью ведет ее чабан. Объездчик встретил бы — не узнал. Не в шапке сегодня старый чабан, не в картузе затасканном, а в бравой фуражке летчика, на которой крылья есть! В руках герлыга, на голове роскошная летная фуражка, отражающая лунный свет… Догадался бы объездчик: приехал, значит, сын Горпищенко в отпуск.
Спит сын, отдыхает на сене; одежда его лежит в хате, аккуратно сложенная на стуле, а фуражка с крыльями целую ночь будет ходить по степи при отаре, и только на рассвете, когда первые реактивные загрохочут в небе, возвратится она снова в хату и тихо ляжет сверху на ладно сложенный летный мундир.
Азбука Морзе
Начиная с рассвета и все утро над совхозом грохочут самолеты. Самолеты владеют поднебесьем, а внизу, над совхозными землями, белокрылая армия чаек наступает на кузьку. С ранней весны увидишь птиц в степи — трактор пашет, а они вьются за ним белой метелицей, пасутся за плугами, собирают на пашне червей. Но больше всего работы у них сейчас, когда хлеба стоят в наливе, когда ненасытные кузьки пластмассово поблескивают всюду на колосьях, высасывая из них молодое молочко. Ни свет ни заря летят чайки в поля, в глубь суходола, летят, как на работу, и трудятся, пока жара не припечет. Работали б еще, если б было где напиться. — А чтоб их жажда не томила, вы бы расставили в степи корытца с водой, — посоветовал как-то Горпищенко-чабан председателю рабочкома Лукии Назаровне Рясной. — Они тогда вам будут целый день трудиться… Без зарплаты. И без трудодней. Не то что мы, сребролюбцы. В обязанности Лукии Назаровны не входит шефство над пернатыми, однако не осталась она глухой к мысли чабана. Дома Лукия Назаровна рассказала об этом своему сыну Виталию. — Только ж корытца для водопоя… кто их будет делать? Из чего? А сын и подсказал… На другой день старшеклассники в часы производственной учебы уже готовили в мастерских корытца для чаек. Ребята брали изношенные автомобильные шины, разрезали вдоль круга пополам, и из каждой шины получалось две оригинальной формы посудины; если какая-нибудь протекала, ее тут же на ходу вулканизировали. Самим же старшеклассникам пришлось и отвозить корытца, расставлять на землях Третьего отделения, среди хлебов. Переполненный грузовик мчится в утреннюю степь. От высоких хлебов еще тень прохладная лежит на дороге, солнце только поднимается. Оно еще красное, не слепящее, не расплавилось от собственного жара, оно еще как бутон, и такое красивое, как и эта степь и небо, умытые росой! Все тебе улыбается вокруг, особенно когда ты сидишь в кузове, где полно веселья, шуток, где жарко и тесно от твоих друзей-одноклассников, для которых эта экспедиция в степь обернулась увлекательнейшей прогулкой. После школы, после классных комнат очутиться среди такого раздолья!.. Это та степь, где человек с герлыгой еще недавно был как царь, где элеватор, что виден на горизонте, кажется совсем близким, хотя до него два дня ходьбы; это край равнин необозримых, где природа развернулась широко, привольно, с океанским размахом… Зеленые валы посадок. Темные далекие скирды, что, будто головы китов, на протяжении дня будут выныривать из океана марева. Чабан на краю неба… А дальше, на север — хлеба и хлеба, смуглая густая пшеница, радующая своим полным колосом глаза старшеклассников. Более двадцати тысяч гектаров земли в одном хозяйстве, тридцать тысяч тонкорунных овец бродят отарами по степным отделениям — такие здесь масштабы, такие просторы. Бывает, летом дождь над одним отделением пройдет, а над другим его в тот день и не видели, только детвора попрыгает на дороге в пыли, покричит в небо: «Дождик, дождик, пуще!» Когда-то на таких просторах могло бы разместиться целое княжество, а сейчас все это одно трудовое чабанско-земледельческое хозяйство, и руководят им такие, как мать Виталия, депутат и председатель рабочкома, да вечно озабоченные управляющие отделениями, да гроза их — директор совхоза Пахом Хрисанфович, поджарый, страдающий язвой желудка человек, который и днем сидит в своем кабинете при свете лампы, как Диоген в бочке, ибо окна снаружи заслоняет зелеными лапами широколистый веселый виноград. На стене у директора карта совхозных земель, что вытянулись сапогом на десятки километров от моря в глубину материка, и когда Пахом Хрисанфович показывает приезжему этот сапог на карте, то не забывает добавить: — Видите, мы по форме как Италия. Италия не Италия, а простор такой, что петь хочется, и песня вот уже сама собой взметнулась над мчащейся машиной с десятиклассниками. Поют все, кроме Лины Яцубы, дочери майора-отставника, которая сравнительно недавно в их школе и то ли еще не знает всех здешних песен, то ли у нее какие-то нелады дома, потому что под глазами у Лины синева, как если бы она плакала всю ночь. Когда Лина не в духе, ее лучше не трогать — пускай сидит себе нелюдимкой в самом углу кузова и созерцает степь. Зато звонкоголосая Тоня Горпищенко, взбудораженная веселым, заливистым пением, так и сверкает своими орехово-карими глазами, так и играет ими, постреливает на хлопцев, не замечает, кажется, только соседа своего — Виталика Рясного, хотя они и сидят оба на одной шине. А Виталик достоин куда большего внимания. Даром что хлопец с виду невзрачный, неловко ежится возле Тони и прячет растерянную улыбочку в ладонь, но ведь не раз вытаскивал он Тоню за уши по физике и математике… На диво смекалистый парнишка: и учится хорошо, и руки золотые — для домохозяек своей улицы он в технике авторитет наивысший. Наладить примус, керогаз, заменить розетку? Беги, зови Виталика Рясного! Нужно кому-нибудь поставить антенну над хатой, заглянуть в радиоприемник, снова кличут своего покладистого механика, и он идет на эти приглашения безотказно, сидит да работает молча, пока не сделает что нужно. Таков уж он. Нравится ему копаться во всем да выдумывать разные штуковины. Дома у него просто чудеса — этой весной сконструировал какую-то особенную телевизионную антенну: она ловила все, что ему вздумается; со всей улицы стали бегать к Виталику смотреть на это диво, на те случайные блуждающие изображения, которые одно за другим вдругпромелькнут по экрану, неизвестно откуда взявшись, — кто говорит, греческое, кто — итальянское, а кто полушутя высказывает предположение, что это, может, с Марса. Так было, пока об этом не узнал товарищ Яцуба, отставник. — Ты, милейший, лови, да знай что, — однажды заметил он юному механику. Парню промолчать бы, а он огрызнулся: — Вы мне не указ. — Вот как! А кто ж тебе указ? Тебя не одерни — ты, чего доброго, станешь весь мир ловить. — Если удастся, почему же не ловить? — А разрешение? Кто дал тебе на это право, милейший? — А кто вам дал право цепляться ко мне? — Не тебе спрашивать меня, молокосос. Я по праву старшего с тобою говорю! И настоятельно советую: поверни антенну куда следует… Виталий заупрямился, совета не послушал. Однако кончилось тем, что майор кому-то позвонил, куда-то написал и все же добился своего: хлопцу пришлось-таки переделать антенну и направить ее на свой областной телецентр. — Еще споем, милейший? — подмигивает Виталию Грицько Штереверя, втиснувшись меж девчат, и всех рассмешило это его «милейший», они ведь знают, в чей огород камушек; одна Лина, оскорбившись за отца, посмотрела на Штереверю отчужденно, серьезно. — Ты хочешь, чтобы я сошла? И смех тотчас прекратился, а Тоня, чтобы погасить размолвку, выкрикнула: — Смотрите, ведьма нас догоняет! «Ведьма» в ее устах — это пузатая цистерна-молоковоз, которая еще от самой Центральной усадьбы пылит за грузовиком, издалека сверкая сквозь пыль надписью «МОЛОКО», хотя сейчас она везет обыкновеннейшую воду. В воздухе уже много чаек, они мчатся словно взапуски с грузовиком. Большие, ослепительно белые, летят вперед размашисто, гонко: спешат в степь, торопятся на работу. — Вот они, наши труженицы, — говорит Алла Ратушная, подняв к небу маленькое веснушчатое личико. — Я читала, что в каком-то городе стоит даже памятник чайке. — Чайкам? Памятник? — недоверчиво вытаращился Штереверя. — За что такая честь? — Они тамошним людям спасли однажды поля от саранчи. Летящих чаек все больше. Зрелище поражающее: безбрежные хлеба, а над ними — множество белых крыльев в полете… Блестят оперением на солнце, мелькают, пикируют, на лету склевывают кузьку с колосков. А грузовик, наверно, кажется им суденышком, ловким, быстроходным; без страха проносятся над ним белокрылые черноголовые красавицы. — Знаете, как их называют? — спрашивает Марийка Ситник, живая, курносенькая. — Средиземноморскими! — Что они, родом оттуда? — Тоня едва ли не в первый раз за дорогу поворачивается к Виталику. Хлопец отвечает глухо: — Они и у нас на Смаленом гнездятся. При упоминании о Смаленом все хлопцы и девчата со смехом обращают взгляды на Кузьму, своего одноклассника, парня атлетического сложения. — Вот кому запомнился Смаленый! — Вот кто до новых веников будет его помнить!.. Остров Смаленый, ближайший из целого архипелага, принадлежащего Государственному заповеднику, они посетили еще малышами-пятиклассниками во время одной из экскурсий, которые любит организовывать бессменный их биолог Василий Карпович. Он и сейчас едет с ними, только сидит не в кузове, а рядом с водителем, в кабине. А тогда пешком, походом повел их на Смаленый, названный так потому, что некогда там бакланы устраивали свои птичьи ярмарки и когда садились, то остров становился в самом деле будто опаленный, — от множества птиц с черным, металлического отлива оперением. Во время той экскурсии на острове бакланов уже не было, зато чаек и крячек не счесть, они гнездились там огромными колониями. Когда баркас причалил к острову и юные экскурсанты высыпали на берег, то над головой у них поднялась целая туча, — белая! крикливая! — солнца не стало видно за птицами, которые летали и кричали все время, пока детвора находилась на острове. Кроме чаек, были там утки-крохали, и утки серые, и большие, такие славные пеганки, и морские голуби… Идешь, а на земле негде ногой ступить: гнезда, яйца, голенькие птенцы путаются в траве, одни уже пухом покрылись, а те лишь вылупляются, пробиваются клювиками из скорлупы в этот мир, чтобы со временем подняться и полететь над ним, посмотреть, каков он есть. Экскурсанты разбрелись по острову, а там лебеда татарская — выше человека. Виталий, самый меньший в классе, чувствовал себя как в лесу, продирался сквозь щавель конский, сквозь бурьяны — в небе сердитая, крикливая туча птиц, а под ногами — шурх! шурх! — гадюки. Вот этот Кузьма — что сейчас сидит себе да хохочет, как взрослый дядька — косая сажень в плечах, — тогда в зарослях наступил на гадюку, и она ужалила его в ногу — ох, как он вопил! Василий Карпович мигом прилег на землю, сам высосал из ноги яд, а за учителем и Тоня припала, высасывала да сплевывала в сторону, и всех поразило, что она не боится, и в школе об этом потом в стенгазете писали, а она только плечами пожимала: — Э! Что ж тут такого? У меня отец чабан, он меня научил. И хотя Кузьма после того все же переболел, температуру ему нагнало, и нога была как бревно, однако, вишь, выжил, и теперь видно, что укус впрок пошел ему: силач, в плечах шире учителя. — Кузьма, ты бы хоть «Красную Москву» Тоне подарил, — шутит Марийка Ситник. — За неотложную помощь в чертополохе… — От него дождешься! — наигранно хмурится Тоня, хоть глаза искрятся смехом. — Боится даже в кино сводить. — И свожу! — Еще пойду ли? Сперва усы отрасти! А то и пуха нет! — Ишь жалит! Недаром говорят, что в каждой жинке три капли гадючьей крови есть… — А сколько в тебе осталось? Ох, как ты тогда орал. Аж ноздри зеленели! На повороте их силой инерции сваливает в кучу, они падают друг на друга, визжат, смеются, а Виталию хочется, чтобы больше было таких поворотов, чтобы дорога не кончалась, чтобы Тоня чаще вот так валилась на него горячим тугим телом. Но вот машина останавливается среди хлебов, и все участники экспедиции высыпают из кузова, летят на землю латаные шины, и Василий Карпович, седоусый, бодрый, восклицает весело: — А ну-ка, разбирайте ваши колеса фортуны! И Виталий хватает ту самую шину, на которой они сидели вместе с Тоней, хватает и хомутом набрасывает через голову на себя. Колесо приятно пахнет горячей резиной и пылью тех неведомых дорог, по которым оно прокатилось, а пшеница, что стоит от горизонта до горизонта, тоже пахнет, пьянит. Василий Карпович распоряжается, что кому делать, куда идти, а Виталия и Тоню, возможно, потому, что они стояли рядышком, посылает вместе: — Несите вон туда, по межполосью, там и поставите. Подхватив бидон с водой, Тоня пошла впереди, а Виталий со своей ношей за нею. Он несет шину, перекинув через плечо, как спасательный круг, но и круг не спасает хлопца от волнения, которое охватило его, едва они отдалились от дороги и остались вдвоем. Пока сидел с Тоней в кузове, чувствовал себя так, будто на одной парте с нею сидит, а сейчас и слов не находит, собственная неловкость сковывает его, и горячая кровь то и дело приливает к лицу. А Тоня как ни в чем не бывало идет да идет впереди, все дальше в глубь хлебов, только шелестят в упругом порыве ворсистые ее шаровары, а поверх них развевается легонькое ситцевое платьице. Тоня вертит головой, осматривается вокруг, русые волосы сверкают на солнце, они перехвачены лентой, поднялись конским хвостом, который непокорно выгнулся на затылке и делает Тоню сейчас похожей на римского воина. Доставалось ей уже за это подражание моде, хвост критиковали на школьном комсомольском собрании, но к ней и критика не пристает — она всегда веселая, беспечная; кажется, только и ждет аттестата зрелости, чтобы уже ни от кого не зависеть и свободно крутить себе прически, какие захочет.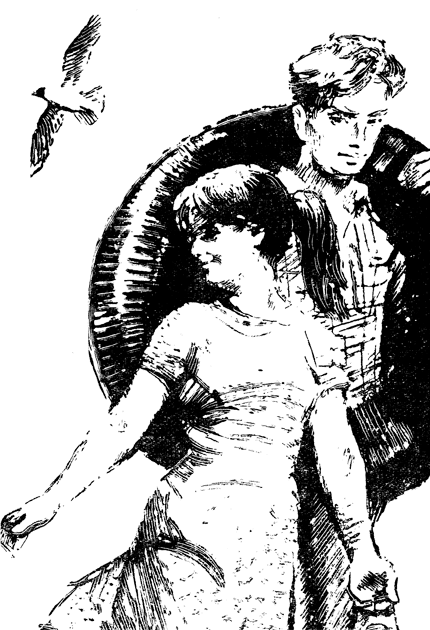 А межнику нет ни конца, ни края, куда-то потянулся он за горизонт, и лишь колосья клонятся из стороны в сторону да полевая вика синеет, вьюнок вьется под ногами, и алыми капельками росно пылает мышиный горошек…
Наконец она останавливается. Ставит бидон и оглядывается вокруг. Высокая могила-курган поднимается невдалеке, среди хлебов, опаханная, нетронутая, заросшая седой полынью. Нигде никого, только грузовик да цистерна виднеются над пшеницей бог весть где, да отдаленные голоса доносятся — будто где-то далеко за краем земли перекликаются хлопцы.
Небо чистое, лишь на горизонте еле заметно проступают неподвижные перламутрово-белые облачка. Коротка их жизнь: как незаметно появились, так незаметно и пропадут, растают до полудня. А сейчас еще белеют, будто ветрила далеких фрегатов, окружают по небосклону этих двух, что на межнике, пленяя взор своими полногрудыми небесными парусами.
— Ну, клади же, — первой опомнилась Тоня. — Сбрасывай свой хомут.
Это она о шине, с которой хлопец так и торчит перед нею, будто забыл, зачем принес её сюда.
Виталий стоит, понурившись. Ему жарко, как-то даже томительно под ее взглядом, словно это перед ним не Тоня, а какая-то незнакомая девушка, разглядывающая его почти критически. Словно бы ее глазами он посмотрел в этот миг на себя и увидел фигуру свою незавидную и как уши горят, а эта дурацкая шина, думается ему, делает его еще меньше; кажется, что Тоня глядит на него из-под черных бровей как бы с пренебрежением и ее, остроглазую, словно бы удивляет, что это за мальчишка напялил на себя шину и стоит перед нею, растерянно переминаясь. Там, где должен бы стоять красавец, полигонный лейтенант какой-нибудь, понуро стоит пацан с пучком соломенного чубчика, нависшего надо лбом, с глазами буднично-серыми, маленькими, с лицом худым, в пятнах веснушек, будто в солончаках.
— Здесь давай положим! — выводя хлопца из оцепенения, указывает Тоня.
Виталий, однако, замечает, что и Тоня сейчас какая-то не такая, настороженная, как птица, серьезная, не улыбается Виталию беззаботно, как бывало в школе на переменках.
— Да живее поворачивайся! Не позавтракал?
Хлопец, чувствуя себя косноязычным и ничтожным, молча сбрасывает разогретую резину, послушно кладет колесо в пырей, где указала Тоня, потом, наклонившись, еще зачем-то и поправляет его, будто это имеет какое-то значение. Тоня деловито наливает в корытце воду для чаек, оставив малость, чтобы и самим напиться, и сразу же припадает к бидону, пьет жадно. И пока она пьет, Виталий неотрывно смотрит на нее, на вытянутую к бидону тонкую смуглую шею. Тоня вся облилась, вода за ворот ей потекла, стало щекотно, и она, утратив строгость, звонко рассмеялась.
— Хочешь? — глянула она на Виталия, когда напилась.
И, передавая бидон, невзначай или нарочно коснулась рукой его руки. Чуть-чуть прикоснулась, а хлопец от того прикосновения так и вспыхнул, затрепетал, им овладела какая-то неведомая доселе нежность ко всему.
Собственно, пить ему не хотелось, но он тоже принялся тянуть уже теплую воду, набранную сегодня на Центральной из артезиана, а когда напился, остатки воды осторожно вылил в резиновый круг, в это распластанное среди пырея их колесо фортуны. Теперь воды в нем было почти до краев, отныне в жару из него будут пить чайки. Оба стояли над колесом притихшие, ждали, пока вода устоится. Постепенно стало проступать из нее глубокое-преглубокое небо, их полуосвещенные солнцем, склоненные над колесом лица. Чайка пролетела в небе, и ее тоже было видно в воде.
— Только найдут ли они этот наш водопой, Виталик, а? — спросила Тоня задумчиво.
Он прогудел каким-то не своим, осипшим голосом:
— Найдут…
Оба еще некоторое время смотрели на это разостланное под ногами небо и уже и сами себя не узнавали в нем — они и уже словно бы не они.
— Крейсер!
— Крейсер в заливе!
Кто-то кричит — оповещает с кургана: там, уже на самой верхушке, собралась гурьба хлопцев и девчат, смотрят куда-то в сторону моря, а к ним остальные сбегаются отовсюду, даже Василий Карпович в своем белом картузе взбирается по крутому склону.
— Айда! — крикнула Тоня и первой бросилась в пшеницу.
Вскоре оба были там, среди одноклассников.
Если взбежать на курган, на самую вершину этого покрытого седыми травами степного глобуса, то увидишь, как марево колышется над степью, а вдали, далеко-далеко на южном горизонте, ракетным ослепительным металлом сверкает полоска моря, морской лиман. Обычно воды лимана блестят пустынно, лишь время от времени, чаще всего летними утрами, появляется там белое крыло рыбацкого парусника, который потом долго-долго, целую вечность, проплывает по линии небосклона…
А теперь вместо крыла парусника Тоня и Виталий видят вдали, прямо посредине залива, какую-то темную неподвижную гору.
Крейсер? Откуда он взялся? Даже не похож на корабль, дикой темной скалой стоит среди сверкания воды, неподвижно громоздится в просторе моря и неба. Ни Виталий, ни Тоня не припомнят, чтобы в эти воды заходили суда такого типа. А этот зашел. И встал. Как загадка. Как сфинкс их далекого, мерцающего моря. Пришел словно бы для того, чтобы взбудоражить их молодое воображение, привлечь любопытные взгляды всех — и подростков-старшеклассников, что затихли на кургане, и даже вон тех трактористов, удивленно остановившихся у обочины дороги, и чабанов всего совхозного побережья.
— Пожаловал гость, — говорит Василий Карпович. — Давно не было. В тридцатых годах заходил такой, а после не припомню.
Уму непостижимо: военное судно таких размеров вошло в тихие, неглубокие воды их залива и бросило якорь на виду у всей степи!
Рассматривая судно, Виталий и Тоня переглядывались, обменивались улыбками, в которых сейчас было что-то похожее на тайну, сближавшую, никому, кроме них, не доступную. Это загадочное появление крейсера казалось им сейчас не случайным, тот крейсер был тоже словно бы причастен каким-то образом к душевному сближению, что так неожиданно возникло между ними и по-новому осветило их друг другу. Чувство близости не проходило, певучий настрой души как бы увенчивался теперь еще и прибытием морского гостя, его величавым визитом; и, кажется, не удивило бы их, если бы он сейчас из всех своих орудий прогрохотал салютом, посылая привет с лиманных разливов солнца их настроению, тайному цветению нового для обоих чувства.
А их друзей интересовало другое.
— Долго он будет здесь стоять, Василий Карпович?
— Что он будет делать, Василий Карпович?
— А какой на нем экипаж?
— Это крейсер или эсминец?
Василий Карпович пожимал плечами. О судне, о намерениях этого судна он знал не больше, чем его ученики. Они сгрудились стайкой, до боли в глазах всматривались в морское диво, тщетно пытаясь разглядеть то, что было скрыто расстоянием.
— Может, там и сигнальщик стоит, — пускался в догадки Кузьма, — сигналы на берег передает азбукой Морзе? Но разве же отсюда разглядишь?
При упоминании об азбуке Морзе уши одного из хлопцев покраснели. И от одной девушки это не укрылось: она прикусила губу, чтоб не рассмеяться.
— Ну, друзья, пора и домой, — напомнил Василий Карпович и, скользя по траве, по серебристой нехворощи, первым стал спускаться с кургана.
— Только здесь под ноги смотрите, — предупредил он своих воспитанников. — Здесь все может быть, ведь до сих пор еще одна важная бумага не подписана — акт о безопасности наших полей… Минеры были, разные комиссии, а заактировать пока никто не решился.
Тревога учителя невольно коснулась души каждого, все сразу увидели, что курган подозрительно изрыт какими-то рвами, рвы уже позарастали травой — это, видно, были солдатские окопы да траншеи; здесь, на этом кургане, во время войны, кажется, стояла зенитная батарея… Земля в таких местах и впрямь могла таить в себе мины, а то и бомбы, начиненные смертоносной взрывчаткой. Полынью порос курган, овсюгом да седою нехворощью, ветерок овевает траву, и она блестит, течет, как вода… Кроме Василия Карповича, никто из них войны не изведал — ребята знают ее только по рассказам и кинофильмам, — но всем вдруг начали приходить на память разные случаи с совхозными детьми, многие из которых покалечились в полях после войны… Вспомнилось, что один учитель, молодой фронтовик, в первые годы после войны погиб вот так в степи: спасая школьников, отбросил от них мину, а сам погиб…
Сходя с кургана, ступали осторожно — после предупреждения учителя каждый чувствовал себя так, будто и вправду идет среди заржавевших невзорвавшихся мин, — и, только очутившись внизу, снова зашумели, с веселым гомоном направились к дороге.
Возвращаясь домой, Тоня и Виталий сидели в кузове порознь, в противоположных углах, словно стеснялись друг друга, хотя ничего между ними как будто и не произошло.
А межнику нет ни конца, ни края, куда-то потянулся он за горизонт, и лишь колосья клонятся из стороны в сторону да полевая вика синеет, вьюнок вьется под ногами, и алыми капельками росно пылает мышиный горошек…
Наконец она останавливается. Ставит бидон и оглядывается вокруг. Высокая могила-курган поднимается невдалеке, среди хлебов, опаханная, нетронутая, заросшая седой полынью. Нигде никого, только грузовик да цистерна виднеются над пшеницей бог весть где, да отдаленные голоса доносятся — будто где-то далеко за краем земли перекликаются хлопцы.
Небо чистое, лишь на горизонте еле заметно проступают неподвижные перламутрово-белые облачка. Коротка их жизнь: как незаметно появились, так незаметно и пропадут, растают до полудня. А сейчас еще белеют, будто ветрила далеких фрегатов, окружают по небосклону этих двух, что на межнике, пленяя взор своими полногрудыми небесными парусами.
— Ну, клади же, — первой опомнилась Тоня. — Сбрасывай свой хомут.
Это она о шине, с которой хлопец так и торчит перед нею, будто забыл, зачем принес её сюда.
Виталий стоит, понурившись. Ему жарко, как-то даже томительно под ее взглядом, словно это перед ним не Тоня, а какая-то незнакомая девушка, разглядывающая его почти критически. Словно бы ее глазами он посмотрел в этот миг на себя и увидел фигуру свою незавидную и как уши горят, а эта дурацкая шина, думается ему, делает его еще меньше; кажется, что Тоня глядит на него из-под черных бровей как бы с пренебрежением и ее, остроглазую, словно бы удивляет, что это за мальчишка напялил на себя шину и стоит перед нею, растерянно переминаясь. Там, где должен бы стоять красавец, полигонный лейтенант какой-нибудь, понуро стоит пацан с пучком соломенного чубчика, нависшего надо лбом, с глазами буднично-серыми, маленькими, с лицом худым, в пятнах веснушек, будто в солончаках.
— Здесь давай положим! — выводя хлопца из оцепенения, указывает Тоня.
Виталий, однако, замечает, что и Тоня сейчас какая-то не такая, настороженная, как птица, серьезная, не улыбается Виталию беззаботно, как бывало в школе на переменках.
— Да живее поворачивайся! Не позавтракал?
Хлопец, чувствуя себя косноязычным и ничтожным, молча сбрасывает разогретую резину, послушно кладет колесо в пырей, где указала Тоня, потом, наклонившись, еще зачем-то и поправляет его, будто это имеет какое-то значение. Тоня деловито наливает в корытце воду для чаек, оставив малость, чтобы и самим напиться, и сразу же припадает к бидону, пьет жадно. И пока она пьет, Виталий неотрывно смотрит на нее, на вытянутую к бидону тонкую смуглую шею. Тоня вся облилась, вода за ворот ей потекла, стало щекотно, и она, утратив строгость, звонко рассмеялась.
— Хочешь? — глянула она на Виталия, когда напилась.
И, передавая бидон, невзначай или нарочно коснулась рукой его руки. Чуть-чуть прикоснулась, а хлопец от того прикосновения так и вспыхнул, затрепетал, им овладела какая-то неведомая доселе нежность ко всему.
Собственно, пить ему не хотелось, но он тоже принялся тянуть уже теплую воду, набранную сегодня на Центральной из артезиана, а когда напился, остатки воды осторожно вылил в резиновый круг, в это распластанное среди пырея их колесо фортуны. Теперь воды в нем было почти до краев, отныне в жару из него будут пить чайки. Оба стояли над колесом притихшие, ждали, пока вода устоится. Постепенно стало проступать из нее глубокое-преглубокое небо, их полуосвещенные солнцем, склоненные над колесом лица. Чайка пролетела в небе, и ее тоже было видно в воде.
— Только найдут ли они этот наш водопой, Виталик, а? — спросила Тоня задумчиво.
Он прогудел каким-то не своим, осипшим голосом:
— Найдут…
Оба еще некоторое время смотрели на это разостланное под ногами небо и уже и сами себя не узнавали в нем — они и уже словно бы не они.
— Крейсер!
— Крейсер в заливе!
Кто-то кричит — оповещает с кургана: там, уже на самой верхушке, собралась гурьба хлопцев и девчат, смотрят куда-то в сторону моря, а к ним остальные сбегаются отовсюду, даже Василий Карпович в своем белом картузе взбирается по крутому склону.
— Айда! — крикнула Тоня и первой бросилась в пшеницу.
Вскоре оба были там, среди одноклассников.
Если взбежать на курган, на самую вершину этого покрытого седыми травами степного глобуса, то увидишь, как марево колышется над степью, а вдали, далеко-далеко на южном горизонте, ракетным ослепительным металлом сверкает полоска моря, морской лиман. Обычно воды лимана блестят пустынно, лишь время от времени, чаще всего летними утрами, появляется там белое крыло рыбацкого парусника, который потом долго-долго, целую вечность, проплывает по линии небосклона…
А теперь вместо крыла парусника Тоня и Виталий видят вдали, прямо посредине залива, какую-то темную неподвижную гору.
Крейсер? Откуда он взялся? Даже не похож на корабль, дикой темной скалой стоит среди сверкания воды, неподвижно громоздится в просторе моря и неба. Ни Виталий, ни Тоня не припомнят, чтобы в эти воды заходили суда такого типа. А этот зашел. И встал. Как загадка. Как сфинкс их далекого, мерцающего моря. Пришел словно бы для того, чтобы взбудоражить их молодое воображение, привлечь любопытные взгляды всех — и подростков-старшеклассников, что затихли на кургане, и даже вон тех трактористов, удивленно остановившихся у обочины дороги, и чабанов всего совхозного побережья.
— Пожаловал гость, — говорит Василий Карпович. — Давно не было. В тридцатых годах заходил такой, а после не припомню.
Уму непостижимо: военное судно таких размеров вошло в тихие, неглубокие воды их залива и бросило якорь на виду у всей степи!
Рассматривая судно, Виталий и Тоня переглядывались, обменивались улыбками, в которых сейчас было что-то похожее на тайну, сближавшую, никому, кроме них, не доступную. Это загадочное появление крейсера казалось им сейчас не случайным, тот крейсер был тоже словно бы причастен каким-то образом к душевному сближению, что так неожиданно возникло между ними и по-новому осветило их друг другу. Чувство близости не проходило, певучий настрой души как бы увенчивался теперь еще и прибытием морского гостя, его величавым визитом; и, кажется, не удивило бы их, если бы он сейчас из всех своих орудий прогрохотал салютом, посылая привет с лиманных разливов солнца их настроению, тайному цветению нового для обоих чувства.
А их друзей интересовало другое.
— Долго он будет здесь стоять, Василий Карпович?
— Что он будет делать, Василий Карпович?
— А какой на нем экипаж?
— Это крейсер или эсминец?
Василий Карпович пожимал плечами. О судне, о намерениях этого судна он знал не больше, чем его ученики. Они сгрудились стайкой, до боли в глазах всматривались в морское диво, тщетно пытаясь разглядеть то, что было скрыто расстоянием.
— Может, там и сигнальщик стоит, — пускался в догадки Кузьма, — сигналы на берег передает азбукой Морзе? Но разве же отсюда разглядишь?
При упоминании об азбуке Морзе уши одного из хлопцев покраснели. И от одной девушки это не укрылось: она прикусила губу, чтоб не рассмеяться.
— Ну, друзья, пора и домой, — напомнил Василий Карпович и, скользя по траве, по серебристой нехворощи, первым стал спускаться с кургана.
— Только здесь под ноги смотрите, — предупредил он своих воспитанников. — Здесь все может быть, ведь до сих пор еще одна важная бумага не подписана — акт о безопасности наших полей… Минеры были, разные комиссии, а заактировать пока никто не решился.
Тревога учителя невольно коснулась души каждого, все сразу увидели, что курган подозрительно изрыт какими-то рвами, рвы уже позарастали травой — это, видно, были солдатские окопы да траншеи; здесь, на этом кургане, во время войны, кажется, стояла зенитная батарея… Земля в таких местах и впрямь могла таить в себе мины, а то и бомбы, начиненные смертоносной взрывчаткой. Полынью порос курган, овсюгом да седою нехворощью, ветерок овевает траву, и она блестит, течет, как вода… Кроме Василия Карповича, никто из них войны не изведал — ребята знают ее только по рассказам и кинофильмам, — но всем вдруг начали приходить на память разные случаи с совхозными детьми, многие из которых покалечились в полях после войны… Вспомнилось, что один учитель, молодой фронтовик, в первые годы после войны погиб вот так в степи: спасая школьников, отбросил от них мину, а сам погиб…
Сходя с кургана, ступали осторожно — после предупреждения учителя каждый чувствовал себя так, будто и вправду идет среди заржавевших невзорвавшихся мин, — и, только очутившись внизу, снова зашумели, с веселым гомоном направились к дороге.
Возвращаясь домой, Тоня и Виталий сидели в кузове порознь, в противоположных углах, словно стеснялись друг друга, хотя ничего между ними как будто и не произошло.
 Товарищи не докучали им, в кузове снова царило веселье, а когда на поворотах их сваливало в кучу, то из этой кучи раздавались озорные выкрики парней:
— И тепе! И тепе!
Довольно бессмысленные выкрики на слух постороннего, а для них это излюбленное учительницей русского языка «и тепе» было как пароль, как призыв к веселью, вместе с тем словечком они будто бы слышат и выразительно размеренный голос своей Марии Алексеевны, которая диктует им контрольную, слышат из ее суровых уст и свой шутливый, самими же коллективно выдуманный текст диктанта: «Он ее об-ни-мал, при-жи-мал, брал за талию и тому подобное…»
— И тепе! И тепе! И тепе! — скандируют они уже все вместе, и в кузове снова взрывается хохот.
В другой раз Виталий тоже смеялся бы, а сейчас от грубоватых этих дурачеств стало ему даже неловко: наверно, хлопец все еще был полон той особой нежностью, что пробудилась в нем. Тоня, эта непоседа, эта смуглянка, была виновницей всего, она наполнила его новым, ни с чем не сравнимым чувством. Просто удивительно: столько лет проучились вместе, и Тоня была для него ну как все, только приходилось чаще ее выручать — ведь училась она кое-как и всегда клянчила, чтобы подсказывали; кроме того, ей просто, наверное, нравилось получать тайком записки во время контрольных или быть в центре внимания всего класса, который силился ее выручить. Вызванная к доске, Тоня развлекала всех своими героическими увертками, и хотя ребята дружно подсказывали ей подмигиванием и жестами, но она и жестов тех не могла взять в толк, с недоумением разводила руками за спиной учителя, невпопад хватая на лету подсказки, покуда и сама не расхохочется. Ровесница своих одноклассниц, она, однако, раньше расцвела, похорошела; выровнялся девичий стан, налилась тугая грудь; хлопцы говорили, что она на свидания бегает, что и военные, приезжая с полигона, уже заглядываются на нее. Замороченный своими антеннами, соседскими примусами и техническими журналами, Виталий до сих пор всего этого не замечал, а теперь вдруг заметил. Тоня стала для него лучше всех. Что-то теперь будет? Захочет ли Тоня дружить? Или только поманит, вскружит голову и отвернется? Ведь для нее одно удовольствие — кружить головы парням, даже сами девчата говорят: «Наш вихрь! Не знает, на ком и остановиться…»
Машина приближается к Центральной. Дождевальные установки в огородной бригаде гонят в небо высоченные струи, водяной прохладной пылью так и повеяло оттуда на всех. Девчата завизжали. Сразу после этого сверкающего дождя пришлось вылезать из кузова: приехали.
Тоня соскочила с машины возле подворья старшей сестры, у которой живет во время занятий, а Виталик спрыгнул у радиоузла — не мог же он проехать, не повидав своего закадычного друга Сашка Литвиненко. В конторе пусто, как раз обеденный перерыв, дверь в радиорубку открыта настежь, но Сашка нет, лишь наушники лежат на столе да инструментов брошенных груда — признак, что и хозяин где-то поблизости. Контральтовый голос Сашка слышен откуда-то из комнаты бухгалтерии, он там балагурит с девчатами, а здесь только птенцы пищат в гнезде, прилепленном в углу, под самым потолком. Надо же было додуматься прилепить его там к пучку проводов, среди рисованных виноградных листьев на обоях… Белогрудые ласточки, не боясь ни аппаратуры, ни человека, так и сверкают, влетая и вылетая через окно, только слышно — вжик да вжик! Усевшись на Сашкином месте, Виталик сосредоточенно изучает гнездо, ласточки всегда удивляют его своим инженерным мастерством — нужно же суметь так сделать, чтобы гнездо не отлепилось от переплетенных проводов, не упало! Над засохшим илом, который ласточки будто цементируют своей слюной, еще и конский волос протянут, как антенна, — этим волосом ласточка птенцов своих привязывает, чтоб не вывалились из гнезда. Такая заботливая мать!
От ласточкина гнезда взгляд Виталия переносится — уже в который раз! — на грамоты и дипломы, развешанные по стенам. Эти дипломы в разное время присуждены Сашку за победы в соревнованиях радиолюбителей-коротковолновиков. Получить их было триумфом не только для хозяина, но и для Виталия, ведь с тех пор как Сашко Литвиненко, закончив школу, начал работать радистом на совхозном радиоузле, эта радиорубка стала для Виталия вторым домом, и все, связанное с нею, он близко принимает к сердцу. Сколько вечеров провел он здесь вдвоем с Сашком, налаживая приемники да изучая статьи в технических журналах, сколько раз, склонив головы, до поздней ночи разбирали они за этим столом разные схемы и решали задачи, которые получает Сашко как заочник!.. Среди дипломов бросаются в глаза не совсем обычные, полученные из стран народной демократии: земной шар, опоясанный лентой с надписью «авиа», грамота в виде полусвернутого папируса с красной сургучной печатью — эта пришла из Варшавы, Сашко и там известен…
Одна беда — на костылях прыгает Сашко. Мина искалечила его еще мальчишкой (в тот день, когда погиб фронтовик-учитель), ногу повредило, остался на всю жизнь калекой. Но каков характер! Другой в таком положении пал бы духом, стал бы нытиком, пессимистом черным, а Сашко вот не сдался. Из всех своих друзей Виталий не знает человека жизнерадостнее, человека такой чистой и светлой души. К костылям Сашко относится насмешливо, с каким-то веселым презрением. Вот и сейчас, влетев в радиорубку, он с порога швыряет оба костыля в самый угол, будто хочет забросить их на край света. Схватившись одной рукой за спинку стула, он другой радостно бьет Виталика по плечу.
— Здоров!
— Здоров.
— Майора поборол?
— Чуть-чуть не доборол.
И при этом — для пробы силы — крепкое рукопожатие.
От пожатия друга у Виталия слипаются пальцы, — летая на своих костылях, Сашко натренировал мышцы, руки у него как у спортсмена. Виталик, правда, тоже не какой-то там белоручка и в ответ стиснул руку друга так, что радист даже удивился:
— О, да ты сегодня, брат, силен!
Усаживаясь, Сашко по привычке встряхивает прядью мягкого волнистого чуба — он умеет вот так артистически взмахивать этим чубом, отбрасывать всю волну назад легким, лихим движением головы. Черты лица у него тонкие, глаза синие, веселые, полны горячего блеска. За время их дружбы Виталий сегодня, кажется, впервые обратил внимание, что друг его просто красив, впервые подумалось: «Такой синеглазый парень должен нравиться девчатам».
— Слыхал новость?
— Ты о крейсере? — Сашко надевает наушники. — Да, событие. Всех тут взбудоражил своим появлением. Я даже пробовал связаться с ним — не отвечает.
В наушниках Сашко сразу же становится серьезным, официальным, сосредоточенным — он теперь уже весь там, в эфире. Скупые привычные движения рукой, и некоторое время он слушает, нахмурясь.
— Нет, молчит, — говорит Сашко, и Виталий догадывается, что он снова пытался ловить радиорубку крейсера.
После этого, сняв наушники, Сашко сразу же погружается в свою стихию, выкладывает другу все, что думает об идее космического ретранслятора — чью-то статью об этом он только что прочитал в журнале. Сашко распаляется, он словно бы видит перед собой автора статьи, жарко полемизирует, ловит его на чем-то, высмеивает, а Виталий тем временем думает: «Зачем ты мне все это говоришь, друг? Зачем мне твой ретранслятор, и статья, и вся эта музыка, когда есть на свете Тоня и мы сегодня с ней вместе были в степи среди колосьев, стояли над резиновым колесом с водой и видели себя в нем, вместе — в глубоком-глубоком небе…»
— Ты не слушаешь? — удивился Сашко. — Тебе это неинтересно? Ну, марш отсюда! Терпеть не могу людей рассеянных! Ты ему о серьезных вещах, а он потолок изучает, на птенцов уставился со своей идиотской улыбкой…
— Неужели я улыбался? — удивляется Виталик. — Извини.
И улыбается снова.
После того как они договорились вместе пойти вечером в кино, после того как вынутый Сашком из ящика стола свежий номер журнала «Радио» оказался в руках у Виталия и взмахом карандаша была очерчена статья, которую «непременно, непременно нужно прочесть», после этого:
— Будьте здоровы, гражданин!
— Я вам не гражданин!
— А кто?
— Я начзаготскот!
И под этим «начзаготскот» опять-таки нужно подразумевать не настоящего заготовителя, а отставника Яцубу, который в сражении с Виталиком из-за антенны вышел пока победителем.
Шагает домой Виталик. Идет, и счастливая улыбка блуждает на мальчишеских устах. В задумчивости хлопец касается рукой пушистых ветвей туи, гладит ноздреватый горячий камень оград, пока рука не коснулась каменной скифской бабы, что стоит у двора старой Дорошенчихи, приспособленная вместо столбика для калитки. Наткнувшись на нее, Виталий даже отпрянул, поглядел на каменную бабу так, будто не видел ее тысячу раз прежде. Седой, изъеденный временем камень, грубая работа, следы стертой вековыми ветрами улыбки. Столетиями где-то на кургане в степи стояла идолом скифским или половецким, а ныне едва сохранились следы какого-то узора на каменном уборе, обыкновенным столбиком стоит, для калитки приспособленным… Кто-то придумал, вкопал у двора, и теперь даже ночью, когда пьянчуга, возвращаясь из чайной, наткнется на этот приметный столбик, он сразу определит свои координаты.
— Виталик!
В глубине двора, на ступеньках веранды, сидит и сама Чабаниха Дорошенчиха, она тоже будто из камня высечена. Целыми часами сидит вот так — спиной к степи, глазами к морю, — высматривает сына, который где-то в дальнем плавании. Загадочно улыбается, молчит скифская баба в своей каменной узорчатой одежде, молчит целыми днями и Чабаниха в суровой грусти, в старческой неподвижности вечного своего ожидания. Сына из плаваний ждет. А если он не прибудет, то, кажется, она тоже превратится в камень и будет тогда вдвоем со скифской бабой безмолвствовать здесь у ворот, будет и тогда ожидать сына.
Опрятная, принаряженная, сидит Дорошенчиха в белом чистом платочке, завязанном по-старушечьи.
— А подойди-ка сюда, сынок…
Когда хлопец подходит, старуха спрашивает, видел ли он то судно в лимане да что слыхал о нем, и, узнав, что хлопец своими глазами видел, начинает с необычайной живостью допытываться, какое оно из себя, то судно? Может, белое? С высокими мачтами? Такое, как то океанское, фотография которого висит в хате и которое водит ее сын… Для нее не было б, кажется, дивом, когда б это именно он, ее сын, капитан Дорошенко, прибыл из дальних плаваний прямо домой, прибыл и бросил бы якорь на виду у родной степи, вблизи от материнского дома.
Хлопец, однако, должен разочаровать Чабаниху. Не белое оно. И не с высокими мачтами. Темная железная гора застыла средь моря. Боевое судно, на котором в бинокль, наверно, можно заметить и жерла орудий.
Товарищи не докучали им, в кузове снова царило веселье, а когда на поворотах их сваливало в кучу, то из этой кучи раздавались озорные выкрики парней:
— И тепе! И тепе!
Довольно бессмысленные выкрики на слух постороннего, а для них это излюбленное учительницей русского языка «и тепе» было как пароль, как призыв к веселью, вместе с тем словечком они будто бы слышат и выразительно размеренный голос своей Марии Алексеевны, которая диктует им контрольную, слышат из ее суровых уст и свой шутливый, самими же коллективно выдуманный текст диктанта: «Он ее об-ни-мал, при-жи-мал, брал за талию и тому подобное…»
— И тепе! И тепе! И тепе! — скандируют они уже все вместе, и в кузове снова взрывается хохот.
В другой раз Виталий тоже смеялся бы, а сейчас от грубоватых этих дурачеств стало ему даже неловко: наверно, хлопец все еще был полон той особой нежностью, что пробудилась в нем. Тоня, эта непоседа, эта смуглянка, была виновницей всего, она наполнила его новым, ни с чем не сравнимым чувством. Просто удивительно: столько лет проучились вместе, и Тоня была для него ну как все, только приходилось чаще ее выручать — ведь училась она кое-как и всегда клянчила, чтобы подсказывали; кроме того, ей просто, наверное, нравилось получать тайком записки во время контрольных или быть в центре внимания всего класса, который силился ее выручить. Вызванная к доске, Тоня развлекала всех своими героическими увертками, и хотя ребята дружно подсказывали ей подмигиванием и жестами, но она и жестов тех не могла взять в толк, с недоумением разводила руками за спиной учителя, невпопад хватая на лету подсказки, покуда и сама не расхохочется. Ровесница своих одноклассниц, она, однако, раньше расцвела, похорошела; выровнялся девичий стан, налилась тугая грудь; хлопцы говорили, что она на свидания бегает, что и военные, приезжая с полигона, уже заглядываются на нее. Замороченный своими антеннами, соседскими примусами и техническими журналами, Виталий до сих пор всего этого не замечал, а теперь вдруг заметил. Тоня стала для него лучше всех. Что-то теперь будет? Захочет ли Тоня дружить? Или только поманит, вскружит голову и отвернется? Ведь для нее одно удовольствие — кружить головы парням, даже сами девчата говорят: «Наш вихрь! Не знает, на ком и остановиться…»
Машина приближается к Центральной. Дождевальные установки в огородной бригаде гонят в небо высоченные струи, водяной прохладной пылью так и повеяло оттуда на всех. Девчата завизжали. Сразу после этого сверкающего дождя пришлось вылезать из кузова: приехали.
Тоня соскочила с машины возле подворья старшей сестры, у которой живет во время занятий, а Виталик спрыгнул у радиоузла — не мог же он проехать, не повидав своего закадычного друга Сашка Литвиненко. В конторе пусто, как раз обеденный перерыв, дверь в радиорубку открыта настежь, но Сашка нет, лишь наушники лежат на столе да инструментов брошенных груда — признак, что и хозяин где-то поблизости. Контральтовый голос Сашка слышен откуда-то из комнаты бухгалтерии, он там балагурит с девчатами, а здесь только птенцы пищат в гнезде, прилепленном в углу, под самым потолком. Надо же было додуматься прилепить его там к пучку проводов, среди рисованных виноградных листьев на обоях… Белогрудые ласточки, не боясь ни аппаратуры, ни человека, так и сверкают, влетая и вылетая через окно, только слышно — вжик да вжик! Усевшись на Сашкином месте, Виталик сосредоточенно изучает гнездо, ласточки всегда удивляют его своим инженерным мастерством — нужно же суметь так сделать, чтобы гнездо не отлепилось от переплетенных проводов, не упало! Над засохшим илом, который ласточки будто цементируют своей слюной, еще и конский волос протянут, как антенна, — этим волосом ласточка птенцов своих привязывает, чтоб не вывалились из гнезда. Такая заботливая мать!
От ласточкина гнезда взгляд Виталия переносится — уже в который раз! — на грамоты и дипломы, развешанные по стенам. Эти дипломы в разное время присуждены Сашку за победы в соревнованиях радиолюбителей-коротковолновиков. Получить их было триумфом не только для хозяина, но и для Виталия, ведь с тех пор как Сашко Литвиненко, закончив школу, начал работать радистом на совхозном радиоузле, эта радиорубка стала для Виталия вторым домом, и все, связанное с нею, он близко принимает к сердцу. Сколько вечеров провел он здесь вдвоем с Сашком, налаживая приемники да изучая статьи в технических журналах, сколько раз, склонив головы, до поздней ночи разбирали они за этим столом разные схемы и решали задачи, которые получает Сашко как заочник!.. Среди дипломов бросаются в глаза не совсем обычные, полученные из стран народной демократии: земной шар, опоясанный лентой с надписью «авиа», грамота в виде полусвернутого папируса с красной сургучной печатью — эта пришла из Варшавы, Сашко и там известен…
Одна беда — на костылях прыгает Сашко. Мина искалечила его еще мальчишкой (в тот день, когда погиб фронтовик-учитель), ногу повредило, остался на всю жизнь калекой. Но каков характер! Другой в таком положении пал бы духом, стал бы нытиком, пессимистом черным, а Сашко вот не сдался. Из всех своих друзей Виталий не знает человека жизнерадостнее, человека такой чистой и светлой души. К костылям Сашко относится насмешливо, с каким-то веселым презрением. Вот и сейчас, влетев в радиорубку, он с порога швыряет оба костыля в самый угол, будто хочет забросить их на край света. Схватившись одной рукой за спинку стула, он другой радостно бьет Виталика по плечу.
— Здоров!
— Здоров.
— Майора поборол?
— Чуть-чуть не доборол.
И при этом — для пробы силы — крепкое рукопожатие.
От пожатия друга у Виталия слипаются пальцы, — летая на своих костылях, Сашко натренировал мышцы, руки у него как у спортсмена. Виталик, правда, тоже не какой-то там белоручка и в ответ стиснул руку друга так, что радист даже удивился:
— О, да ты сегодня, брат, силен!
Усаживаясь, Сашко по привычке встряхивает прядью мягкого волнистого чуба — он умеет вот так артистически взмахивать этим чубом, отбрасывать всю волну назад легким, лихим движением головы. Черты лица у него тонкие, глаза синие, веселые, полны горячего блеска. За время их дружбы Виталий сегодня, кажется, впервые обратил внимание, что друг его просто красив, впервые подумалось: «Такой синеглазый парень должен нравиться девчатам».
— Слыхал новость?
— Ты о крейсере? — Сашко надевает наушники. — Да, событие. Всех тут взбудоражил своим появлением. Я даже пробовал связаться с ним — не отвечает.
В наушниках Сашко сразу же становится серьезным, официальным, сосредоточенным — он теперь уже весь там, в эфире. Скупые привычные движения рукой, и некоторое время он слушает, нахмурясь.
— Нет, молчит, — говорит Сашко, и Виталий догадывается, что он снова пытался ловить радиорубку крейсера.
После этого, сняв наушники, Сашко сразу же погружается в свою стихию, выкладывает другу все, что думает об идее космического ретранслятора — чью-то статью об этом он только что прочитал в журнале. Сашко распаляется, он словно бы видит перед собой автора статьи, жарко полемизирует, ловит его на чем-то, высмеивает, а Виталий тем временем думает: «Зачем ты мне все это говоришь, друг? Зачем мне твой ретранслятор, и статья, и вся эта музыка, когда есть на свете Тоня и мы сегодня с ней вместе были в степи среди колосьев, стояли над резиновым колесом с водой и видели себя в нем, вместе — в глубоком-глубоком небе…»
— Ты не слушаешь? — удивился Сашко. — Тебе это неинтересно? Ну, марш отсюда! Терпеть не могу людей рассеянных! Ты ему о серьезных вещах, а он потолок изучает, на птенцов уставился со своей идиотской улыбкой…
— Неужели я улыбался? — удивляется Виталик. — Извини.
И улыбается снова.
После того как они договорились вместе пойти вечером в кино, после того как вынутый Сашком из ящика стола свежий номер журнала «Радио» оказался в руках у Виталия и взмахом карандаша была очерчена статья, которую «непременно, непременно нужно прочесть», после этого:
— Будьте здоровы, гражданин!
— Я вам не гражданин!
— А кто?
— Я начзаготскот!
И под этим «начзаготскот» опять-таки нужно подразумевать не настоящего заготовителя, а отставника Яцубу, который в сражении с Виталиком из-за антенны вышел пока победителем.
Шагает домой Виталик. Идет, и счастливая улыбка блуждает на мальчишеских устах. В задумчивости хлопец касается рукой пушистых ветвей туи, гладит ноздреватый горячий камень оград, пока рука не коснулась каменной скифской бабы, что стоит у двора старой Дорошенчихи, приспособленная вместо столбика для калитки. Наткнувшись на нее, Виталий даже отпрянул, поглядел на каменную бабу так, будто не видел ее тысячу раз прежде. Седой, изъеденный временем камень, грубая работа, следы стертой вековыми ветрами улыбки. Столетиями где-то на кургане в степи стояла идолом скифским или половецким, а ныне едва сохранились следы какого-то узора на каменном уборе, обыкновенным столбиком стоит, для калитки приспособленным… Кто-то придумал, вкопал у двора, и теперь даже ночью, когда пьянчуга, возвращаясь из чайной, наткнется на этот приметный столбик, он сразу определит свои координаты.
— Виталик!
В глубине двора, на ступеньках веранды, сидит и сама Чабаниха Дорошенчиха, она тоже будто из камня высечена. Целыми часами сидит вот так — спиной к степи, глазами к морю, — высматривает сына, который где-то в дальнем плавании. Загадочно улыбается, молчит скифская баба в своей каменной узорчатой одежде, молчит целыми днями и Чабаниха в суровой грусти, в старческой неподвижности вечного своего ожидания. Сына из плаваний ждет. А если он не прибудет, то, кажется, она тоже превратится в камень и будет тогда вдвоем со скифской бабой безмолвствовать здесь у ворот, будет и тогда ожидать сына.
Опрятная, принаряженная, сидит Дорошенчиха в белом чистом платочке, завязанном по-старушечьи.
— А подойди-ка сюда, сынок…
Когда хлопец подходит, старуха спрашивает, видел ли он то судно в лимане да что слыхал о нем, и, узнав, что хлопец своими глазами видел, начинает с необычайной живостью допытываться, какое оно из себя, то судно? Может, белое? С высокими мачтами? Такое, как то океанское, фотография которого висит в хате и которое водит ее сын… Для нее не было б, кажется, дивом, когда б это именно он, ее сын, капитан Дорошенко, прибыл из дальних плаваний прямо домой, прибыл и бросил бы якорь на виду у родной степи, вблизи от материнского дома.
Хлопец, однако, должен разочаровать Чабаниху. Не белое оно. И не с высокими мачтами. Темная железная гора застыла средь моря. Боевое судно, на котором в бинокль, наверно, можно заметить и жерла орудий.
Вечером Сашко и Виталий спешат в кино. Сашко даже не подозревает, как друг его ждал этого вечера. Не было сомнения у Виталия, что Тоня непременно прибежит в клуб: она же бегает на все фильмы подряд, хороший фильм или плохой. По дороге к ним присоединяются еще несколько хлопцев, и они идут к клубу целой ватагой. Сашко размашисто прыгает между ними на своих костылях, весело критикует название фильма: — Посмотрим еще одну любовь. «Любовь в сентябре», «Любовь в марте» — это уже было… Уже я видел не меньше как тысячу и одну любовь! Все смеются, и Сашко тоже. Посмотреть со стороны, для него будто даже развлечение скакать на этих костылях, так привычно-размашисто бросает он себя вперед, встряхивает буйным чубом. Были они уже возле клуба, когда Виталик вдруг, к удивлению хлопцев, круто сменил курс, рванулся в сторону. — Ты куда? — Идите без меня. — Гражданин! — Идите! И, залившись краской, кинулся от них в парк, в заросли туи. Хлопцы не успели даже спросить, какая муха его укусила. А муха эта была здесь, неподалеку… Хлопцы, кажется, и не заметили, а Виталий тотчас отыскал глазами в толпе именно ту, которую видеть хотел. Обожгло парня, ошеломило то, что он увидел. Тонька стояла возле клуба! Стояла в окружении сержантов с полигона, выкаблучивалась беззаботно перед ними, слышны были ее хиханьки-хаханьки. А они, бравые, красовались перед ней, как на параде, куда Виталию до них — хлопец до боли ощутил свою ничтожность, готов был сквозь землю провалиться, убедившись, что он лишний. В парке безлюдно, весь парк еще накален после знойного дня. Опьяняюще дышит жаркодушистый тамариск, туя дурманит своим ароматом так, что голова кругом идет. Тоннелями потянулись аллеи можжевельника и туи, оставшиеся еще от давнишней планировки. Высокий пирамидальный дуб, а внизу вокруг него — поясом снова туя, скрюченная, мускулистая, в ее тропически густых кустах детвора любит собираться по вечерам, и Виталик еще недавно здесь носился, играл с мальчишками в прятки. Частенько озорники залезали в кусты и ревели «тарзанами», стараясь перекричать громкоговоритель, который днем и ночью надрывается возле чайной, а за ними гонялся директор — он ревностно охраняет этот парк. Вот софора, диковинное южное дерево, цветущее в июле душистым белым цветом. Внешне софора немного похожа на акацию, только молодые ветки софоры нарочно скручивают да вяжут, и она тогда растет, как плакучая… А плоды софоры — сочные ягодки, ими можно чистить обувь, кожа от них блестит, как покрытая лаком, — вот чего, видно, еще не знают форсистые сержанты с полигона, закупающие в рабкоопе весь гуталин. Как затравленный, блуждал Виталий по закоулкам парка, места себе не находил. Который же из тех сержантов его соперник? Которому из них она воровато-счастливо пожмет руку в темном кинозале? Кто же с нею рядом? Наверно, этот, цыганистый, что в «газике» к рабкоопу еженедельно подкатывает как раз за гуталином, весь гуталин забрал… Даже возле клуба стоит, стоит, а потом — раз! — за кустик, вытащит суконку из заднего кармана и уже наяривает свои хромовые, а затем, оглянувшись, еще и присадит голенище, чтобы гармошкой было… Однако Тонька тоже хороша: изменница, ветрогонка, как она могла так легко сменить паруса? Если б знал, ни шагу сегодня не ступил бы за ней на межнике… А то сама подсела к нему на шину, глазки строила, а он и растаял… Дома Виталика никто не встретил. Мать еще не вернулась с работы. Заглянул в кастрюли, перехватил того-сего и присел к приемнику, окунулся в звуковой хаос эфира. Музыка, позывные, мешанина языков, джазы, церковные богослужения… Живет планета своей жизнью, веселится, молится, и нет ей никакого дела до того, что творится у какого-то там хлопца на душе. Что человечеству до переживаний Виталика, что ему до этой маленькой, микроскопической драмы, которая разыгрывается где-то в овцеводческом степном совхозе? Тоня сейчас в клубе, сидит в темноте между своими сержантами. Виталий отчетливо представляет, как горит Тонино лицо, как возбужденно сверкают во тьме глаза, как дышит она взволнованно… Однажды, еще в седьмом классе, были они вместе на детском сеансе в кино, и тогда Виталию выпало сидеть рядом с Тоней; когда потушили свет, она была непривычно притихшая и, кажется, не дышала, а потом, уже когда фильм шел, наклонилась к Виталику и в темноте вдруг хвать его за руку! Его так и обдало жаром! И фильма уже не видел и не слыхал ничего… И после того никогда больше не садились рядом в кино и ни разу не вспоминали о том, похожем на сновидение случае, хотя где-то, словно бы в подсознании, эта их тайна между ними жила. Казалось, забыли о ней, отошли от того детского, но все же тайна существовала, и, быть может, как раз с той поры что-то и теплилось в душе, чтобы сегодня так молниеносно вспыхнуть во время поездки в степь на том разрезанном колесе фортуны. Представляя Тоню в клубной тесноте, Тоню, что так и тает от счастья, вбирая обоими ушами горячее нашептывание сержантов, Виталий и не подозревал, что сержанты томятся сейчас в клубе с довольно-таки кислыми минами, потому что место, где должна была сидеть между ними Тоня, безнадежно пустует. А Тоня в это время была уже дома, сидела в грустном одиночестве, притаившись в темноте сестриной, увитой виноградом веранды, и взгляд девушки был обращен через Чабанихино подворье на окна Виталиковой хаты. Потом и свет в его окнах погас, а Тоня все сидела, как та Чабаниха, мать капитана Дорошенко, которая и до сих пор маячит на ступеньках крыльца, тускло освещенного выщербленной луной. Поздно уже, тихая, наполненная стрекотом ночь вокруг, а Чабаниха сидит, ожидает. Вот так всегда ей не спится перед приездом сына. До глубокой ночи не заходит старуха в хату, ей кажется, будто в хате постоянно что-то тикает, вроде бы ходики считают время (а ходиков в доме и нет). — Тикает и тикает где-то, а не найду где, — иной раз жалуется она Тоне. Как же нужно любить сына, чтобы вот так сидеть день за днем, по ночам звезды считать и все смотреть да смотреть на дорогу!.. Наверно, уже сто лет Чабанихе — так она стара, и о ней еще при жизни в совхозе сложены легенды. Откуда-то она из тех невероятно далеких для Тони времен, когда степь была еще совсем дикой и чабаны жили в землянках, где в окнах вместо стекол натягивали овечьи пузыри. А посреди степи стоял дворец белоколонный, окруженный парком, а в парке был бассейн для панского купания. Летом в степь из города приезжали панычи и, разгулявшись, наполняли тот бассейн не водой, а настоящим виноградным вином и ночью при луне заставляли горничных купаться. Голые, как русалки, девчата с пьяным визгом барахтались в вине, а панычи удили их удочками, для приманки нацепив царские трешки да червонцы. Кто снимет деньги с железного крючка губами, тому они и принадлежат — такое было правило. Пьяный гам и визг в парке не утихали всю ночь, не давали спать сторожам, весело было пьяным рыболовам-слюнтяям под яркими южными звездами, но степные горемычные русалки выбирались из купели залитые кровью, с порванными, окровавленными губами. Была будто там и молодая Домаха, вот эта Чабаниха: если днем присмотреться, можно заметить рубчик у старухи на губе. И оттого еще суровей выглядит ее скуластое, смуглое, почти черное лицо. Рассказывают, будто один из панычей поглумился над нею, опоив зачерпнутым из бассейна вином, и она исчезла потом из имения и в степи, в чабанской землянке стала женою чабана-вдовца… Вот из какой дали она, из тех времен, когда людей удочками удили, когда железными крюками хватали окровавленную девичью молодость и красоту… — Уплыли мои годы, что вешние воды, — иной раз вздохнет старуха, рассказав Тоне что-нибудь из той давней давности. «А мои как пронесутся? — думает Тоня, впервые в жизни охваченная душевным смятением, измученная, внутренне распаленная всем, что сегодня произошло. — Как буду жить я? Будет ли счастье?» Тоня думает о старшей своей сестре, в чьем доме ночует. Клава вышла замуж за демобилизованного шофера, с которым теперь то скандалит, то мирится трижды на день, нередко втягивая и Тоню в свои семейные неурядицы. Неужели и ей попадется такой грубиян да ругатель, хотя, пока не выпьет, он симпатяга-человек, душа нараспашку… Вспоминается Тоне и таинственная, туманная история отношений председателя рабочкома Лукии и капитана Дорошенко, между которыми, по слухам, в молодости что-то было, но то ли война, то ли другое что помешало, так и не сошлись, так и носят свою любовь порознь — однажды взлетела в поднебесье их песня, да и осталась там, чтобы звенеть всю жизнь… Ну, а где же он, ее Виталик? Почему не пришел в кино? Снова отдал предпочтение своим приемникам, винтам да шурупам, над которыми вечно сидит? А она его так ждала! Шутила и смеялась с сержантами, хотя в душе все горело, ждала только его! Не до фильма ей было, все стало немилым, когда он не явился, и до сих пор еще не знает, что с ним случилось. Неужто все, что произошло между ними в степи и по дороге и что так много сказало сердцу, неужели все ей только показалось? Неужели это только ее собственная пылкая фантазия? Совсем внезапно захватило сегодня Тоню новое это чувство и жарко всколыхнуло душу. Нет, это не назовешь игрой в любовь, еще одним минутным увлечением, легкомысленной девичьей прихотью. Это и вправду для нее что-то новое, прежде неизведанное, такое, что может весь мир вдруг тебе сиянием озарить или же болью раздирать, жечь душу, как сейчас. И если ей хочется, чтобы поскорее настал новый день, так только для того, чтобы встретить, увидеть Виталика, его соломенный чубчик, к которому так и хочется прикоснуться… А следующий день начинается для них снова работой, только на этот раз десятиклассники трудятся на школьном винограднике — подвязывают виноградную лозу. Широколистый чауш, или «бычий глаз», как его здесь называют, буйно разросся этой весной, завязь на нем богатая, предвещает крупные кисти, большущие гроздья, а сейчас ягодки мелкие, зеленые. Это еще только будет — виноградины туго нальются соком, покроются седой пыльцой, подернутся туманом, и потянут весь куст к земле налившиеся гроздья, выглядывая из-под листьев и тускло лоснясь на солнце. А пока — нежная веточка и на ее разветвлениях — зеленые шарики, как схема формулы сложной молекулы… Нужно прикасаться к этой завязи осторожно, чтобы не обломить. Старшеклассники, хлопцы и девчата, разбрелись, скрылись в зеленых виноградных зарослях. И, конечно же, было чистейшей случайностью, что Тоня с Виталиком обрабатывают один ряд, девушка сама как-то оказалась в этом ряду в последний миг. После вчерашнего они словно бы сердились друг на друга и работали молча, хлопец приподнимал куст со всеми его листьями, со всеми теми зелеными пупырышками, что потом нальются соком и станут полными гроздьями, а Тоня подвязывала тот куст шпагатом. Руки у нее полные, смуглые, тугие. Юная грудь, совсем уже по-девичьи упругая, сквозь виноградные листья видна ему. Губы запеклись у него и у нее — жарко. И вдруг девушка улыбнулась ему как-то особенно, необычно. — Что же вчера в кино не был? — Я был… Возле кино. — Как же это я тебя не видела? — А я тебя видел. Видел, как с сержантами кокетничала. В голосе его послышалось нечто похожее на ревность, и Тоню это даже обрадовало. — Но, между прочим, в кино я не пошла. — Почему? — Да так, расхотелось. Передумала. В последнюю минуту передумала. Это многое ему сказало. И она видела, какую радость этими словами принесла ему, как он ожил, просветлел сразу. Чтобы скрыть волнение, хлопец с озабоченным видом выбрал из множества хвостиков ровно нарезанного шпагата один кусочек и долго, старательно подвязывал старую крепкую лозу. Давно подвязан куст к бетонному столбику, а Тоня все не двигалась, смотрела сквозь листья на Виталия так, словно сожалела, что они разделены кустом. — Признайся, Виталик… Это ты мне прислал письмо? — Какое письмо? — Азбукой Морзе. — Я тебе еще и иероглифами напишу… Она засмеялась, и рука ее, будто ненароком, как вчера, возле бидона, коснулась его пальцев между листьями куста. Руки их сблизились, слились в нервно-горячем пожатии и сжимались все крепче и крепче. Жарко ему стало, закружилась голова. А глаза ее, приближаясь, сияли уже близко, ошалело, влажно… И хотя парнишка перед нею был и незавидный — тощий да вихрастый, с худым обветренным лицом в белесых пятнах, и хотя губы у него тоже были сухие и жесткие, она вдруг привлекла его, прижала к себе и так и прикипела к этим губам!
 Потом сама и оттолкнула, в смятении огляделась вокруг: не увидел ли кто?
И, залитая жарким румянцем, перебежала к другому кусту, схватила тот куст и, не зная, что с ним делать, все крутила и вертела в руках, пока Виталий не догадался наконец его подвязать, и они молча, неумело счастливо снова взялись за работу, обнимали, подвязывали уже новый куст чауша-винограда, а он, буйно разросшийся, ласково шелестел им листьями и тянулся молодыми побегами.
Потом сама и оттолкнула, в смятении огляделась вокруг: не увидел ли кто?
И, залитая жарким румянцем, перебежала к другому кусту, схватила тот куст и, не зная, что с ним делать, все крутила и вертела в руках, пока Виталий не догадался наконец его подвязать, и они молча, неумело счастливо снова взялись за работу, обнимали, подвязывали уже новый куст чауша-винограда, а он, буйно разросшийся, ласково шелестел им листьями и тянулся молодыми побегами.
Красная торпеда
Неподалеку от Горпищенковой кошары, на развилке степных дорог, стоит чабанский колодец; издалека краснеет на нем ведро странной конической формы. Ярко-красная точка, жаркий уголек среди бесцветности, среди величавой безбрежности степных просторов. После каждой войны колодец чистят. Собираются чабаны, по очереди обвязываются веревками, становясь похожими на затянутых в лямки парашютистов, и спускаются во влажную колодезную глубину, чтобы извлечь оттуда разную нечисть, ил, железо… После первой войны выбрасывали из колодца одни железки, после второй — иные, а после третьей… «Да пропади она пропадом! — думает Горпищенко-чабан, работая у колодца. — Пускай лучше никто ее не увидит — после нее, пожалуй, и чистить было бы нечего, все колодцы на земле повыгорали бы…» С самого рассвета трудятся они вдвоем с Корнеем, заменяют трос, который удалось наконец раздобыть у директора, прилаживают к нему свое необычное, красное, как жар, ведро, сделанное из оболочки морской торпеды. Издалека заметно оно в степи, цветком горит, невольно привлекая взгляды прохожих, и когда на Центральной рассказывают новому человеку, как найти в степи кошару знатного чабана Горпищенко, то говорят: — Там, где колодец с красной торпедой. Целое лето льется из этой торпеды вода в желоб, и чабаны пьют из этой торпеды; еще и проезжий — какой-нибудь механик с автолетучки, или агроном, или зоотехник, разъезжающий по степи на своей двуколке, случается, специально завернет сюда, сделает крюк, чтобы напиться. Вода здесь и вправду вкусная, сладкая, не отдает, как в иных степных колодцах, тухлыми яйцами, в жару ее пьешь не напьешься. Весь день пересохшие уста, мужские и женские, припадают к этой торпеде, тяжелое ведро на стальном тросе то и дело опускается в тенистую, прохладную глубину колодца, черпает и черпает свежую родниковую воду. И чем больше ее берут, тем она, кажется, еще чище и холоднее становится. А чабан Горпищенко только радуется в душе, глядя, как люди наслаждаются его водой, ведь ее нисколько не убывает оттого, что все лето берут и берут.После Отечественной войны он попыхтел-таки, очищая колодец, доискиваясь заиленного родничка, пока не нашел наконец, не дал ему волю. Только от военной грязи вычистил, как пошли черные бури — пришлось еще чистить и после них, ведь они здесь такие, что тысячи тонн пылищи в воздухе висит, пруды засыпает, степные лесополосы заметает до самых верхушек, а с хат, случается, крыши срывает — летят, как аэропланы… Наметет, навалит и в колодец, не один день потом минет, пока ведро за ведром вытаскаешь, выберешь весь тот ил, и снова пойдет вода, как слеза. Никто доподлинно не знает, как появился этот колодец, в наследство от дедов, прадедов достался он теперешним чабанам. Только глухое эхо преданий говорит, что когда-то вырыли колодец чумаки, чьи дороги пролегали в этих седых степях. И когда молодой Горпищенко спрашивает у отца: «Кто этот колодец, тату, рыл?» — то старик, не колеблясь, отвечает: — Чумаки, сынок, чумаки. Пращуры твои. Летчику странно слышать, что пращуры его были чумаками, хотя знает об этом еще с детства. Те усатые, под горшок остриженные люди в полотняных, пропитанных дегтем (против чумы) рубашках, что из года в год ходили через слепящие степи на своих круторогих, были для летчика где-то в смутной дали прошлого, терялись для него в такой исторической древности… ну, как античные какие-нибудь Гомеры и Демокриты. Но еще труднее, наверно, было бы представить самим чумакам, что кто-нибудь из их потомков станет крылатым, будет летать в воздухе, прыгать ночью с парашютом с таких высот, где лютует мороз, в то время как земля дышит теплом зрелого лета и кузнечики стрекочут в траве… Разве ж прадеды могли бы вообразить, что он движением руки станет приводить в действие фантастические силы, станет раскалывать небо адским грохотом двигателей и что собственный организм будет подвергать неслыханным испытаниям, ощущая такие перегрузки, при которых в полете на какой-то миг теряешь сознание, не видишь никаких приборов, а потом придешь в себя — глядь, есть скорость! Есть нужная скорость… А раз есть скорость — есть и жизнь! — у летчиков это так. Расстояние, которое чумаки проходили за целое лето, он пролетает в один рейс — бывает, хлопцы не успеют сыграть и партию в шахматы… И все же в душе он глубоко гордится своими предками, мужественными людьми, которые через чуму, через безводье, через степные стремительные пожары прокладывали дорогу на крымские озера, рыли по пути колодцы, несли сюда жизнь. И когда к нему приезжают товарищи с полигона и после зноя наслаждаются свежей водой из колодца, не забывает молодой Горпищенко весело помянуть добрым словом своего неведомого пращура, который этот колодец вырыл в степи, а отец, если он случится здесь, и от себя добавит: — Доброе дело люди не забывают. Доброе дело навек. Какое наследство лучше, какое богатство больше может быть для чабана, чем колодец, круглый, просторный, с венцом желтого ноздреватого камня, плотно уложенного, слежавшегося, будто высеченного из одной глыбы… И чабан бережет его. Внимательно следит старый Горпищенко, чтобы все здесь было в порядке — и в колодце и у колодца. Закончив возиться с тросом и ведром, они с Корнеем принимаются чинить желоб-корыто, в которое иной раз, бывает, овцы заскакивают, так он осел, врос в землю от собственной тяжести, ведь сделан из тяжелой двутавровой балки, ее в свое время трактором тащили сюда с Центральной усадьбы. Пользуясь домкратом, чабаны приподняли сперва один конец корыта, подложили кирпичи, потом подняли другой таким же способом, выровняли, и тогда Горпищенко выпрямился, потный, веселый. — Видал, Корней, не так силой, как умом подняли такую тяжесть. Недаром же говорят: «Дай мне точку опоры, земной шар всколыхну!» Стоять теперь нашему желобу век. Еще, может, когда-нибудь и нас вспомнят… — Таких, как мы, не вспоминают, — пробубнил Корней, держась рукою за щеку: снова разболелись зубы. — Мы — трава. — Чепуху городишь! — возразил Горпищенко. — Почему трава? А что без нас было бы тут? Пил бы кто воду из этого колодца? Давно бы затянуло, замело… А так вся степь пьет. — Пить пьют… А мы? Разве так человеку жить? Из молочая — в чайную, а оттуда снова в молочай, снова к герлыге… — А что герлыга? — вскипел Горпищенко. — В наше время герлыга и ракета рядом стоят! Это он имеет в виду серебристые те самолеты, что сверкают в степи полигонной, да тех командиров, которые иногда оттуда заезжают к нему и почтительно здороваются со стариком за руку, и не только потому, что он знатный чабан и награжден — еще до войны — за свой труд орденом да умеет, как никто, варить «кашу в кожухе», более всего за разум они почитают старика, за характер да еще, конечно, за сына. Никого из чабанов так далеко не пускают с отарами на территорию полигона, как Горпищенко, лишь ему (когда там тихо) разрешают заходить с овцами туда, куда другим заказана дорога. Так, по крайней мере, Корнею кажется. И его чуть-чуть даже ревность берет к бригадиру, который водит дружбу с военными. — Отчего ж тогда, по-вашему, — обращается он к Горпищенко, — так мало охотников идти к нам, чтобы век с герлыгой маяться? — А давай вот Мишутку спросим, — улыбается Горпищенко и подзывает Демидова сынка, что неподалеку воюет с гусаком: — А ну-ка, Мишка, вытри нос да отвечай: хотел бы стать, вот как я, чабаном? Мальчуган молчит, сопит носом: видно, вопрос застал его врасплох. А Горпищенко думает тем временем о своих вечных чабанских стычках с дирекцией, о сапогах, что горят всю зиму от навоза в кошарах, да о лихорадке, что трясет чабанов, когда начинается стрижка овец. В трудовом чабанском сезоне стрижка — это работа самого высокого накала, весь совхоз тогда будто в штурме, стригалями идут и комбайнеры, и шоферы, и чабанские жены, так как чабанов для этой работы не хватает: ведь овец тысячи! Каторга, ад, тяжелейший труд, даже при механизации. Целодневное блеяние, духота, запах серы, жиропота, крови, карболки… Стригали, мотористы, точильщики — все угорают от спертого воздуха, от овечьей серы, пот заливает глаза, трижды на день люди должны бегать к этому колодцу, обливаться водой, как прокатчики на заводе… Их комбинезоны — сплошной мазут, никто и стирать не берется, темп работы такой, что некогда и слово вымолвить, некогда шуткой перекинуться. Ни единого лишнего слова, ни единого лишнего движения. — Нож! — кричишь, и это означает — давай нож. — Руно! — и это означает — забирай руно. Если ты специалист неважный, то, как только электромашинка загудит, овечка у тебя рвется, бьется под руками, ты вынужден ее вязать. А самый высокий класс — это когда стрижешь и не вяжешь. К таким принадлежит он, Горпищенко. Замордованный такой работой, выйдешь из кошары, и даже пошатывает тебя… чабанский «вальс» невольно танцуешь… Зато каково весной, когда степь тюльпанами цветет, а ты выведешь отару на простор, стоишь возле ягнят, а ветер струится, овевает тебя, поет в травах. Разве эта работа не может сделать человека счастливым? Герлыга? Ну и что же? Колодец этот — мое богатство, степь — моя светлица. Такова моя жизнь на этой планете! Пускай другой живет иначе, а я так ее проживу! — Ну как, Михаил? Будешь чабаном? Мальчонка пятится от Горпищенко. — Я летчиком буду… Как Петро ваш… — Ага! — хихикает Корней. — Под стол пешком ходит, а уже и оно разобралось, где сливки, а где снятое молоко. — Зачем же тебе летчиком? — допытывается Горпищенко. — Куда ты летать хочешь? — На Луну. — О! Ты что там забыл? — Не знаю. — А очень хочешь? — Очень! И малыш, считая разговор исчерпанным, пускается наутек к своему гусаку. — Летать, всем летать, — размышляет вслух Горпищенко. — Само не знает, чего ему нужно на той Луне, а уже замахнулось… Уже что-то его тянет туда, куда-то оно порывается… — Меньше б порывались, легче б жилось на свете, — бубнит Корней. — Для школьников и студентов — все эти порывы, пока узнают почем фунт лиха да поумнеют… Покой, достаток, тишина — вот что человеку нужно! Сколько живу — то одно, то другое людей баламутит. Хочу быть уверенным, что ночью никто не постучит и не прикажет собираться… Одних только исполнителей сколько за жизнь перебывало под моими окнами, перед сколькими начальниками Корней навытяжку стоял… Тот тебя учит, тот приказывает, тот повестку вручает… А вы мне покой дайте. Ничего не прошу, вы пришли на свет, чтобы пожить, и я пришел пожить, так не трогайте меня. Дело делаю, профсоюзные плачу, а что я думаю… какое кому дело? Может, моя чабанская радость — это просто вон такой тополь, а под тополем стол, а на столе бутылка… Холодок, тень, и я там после работы сижу, пью свою честно заработанную рюмку… — Мало этого человеку, мало, Корней! — говорит Горпищенко. — Вот они, сыновья наши, их стограммовым счастьем не удовлетворишь, им тесно на земле, к другим планетам порываются, в ореоле хотят землю свою увидеть. Спроси у него, зачем ему тот ореол? Зачем ему планеты? Ты счастья ищи, правды доискивайся во всем, а не новых миров. Да только, быть может, в том поиске как раз и счастье его самое большое… Такая уж, видно, природа людская: отпер девять замков, хочется отпереть и десятый… На что вот я, в каком уж возрасте, а и то стою иногда в степи, засмотрюсь в небо, и — сознаться даже стыдно — самого полетать подмывает. Хоть бы один-единственный разок там, где они летают, и мне побывать… Ну, пускай бы парубком был — оно бы и не диво, а то вот сколько живу, столько и смятение в душе, и куда-то тебя тянет, чего-то жаждет душа… Живешь здесь, а влечет тебя нездешнее, края далекие, и хочется узнать, как люди далекие живут. — А очутишься там — обратно домой потянет. — Это верно. Во время войны, когда в Будапеште да в Вене я снаряды подвозил, ох, Корней, как оттуда сюда порывался, в эти наши степи! Окаянные солончаки, а и по ним скучал. Эти просторы, это небо, разве ж их забудешь… Старик выпрямился, взгляд у него растревоженный, он заметно взволнован: чабан издавна чуток к ней, к этой извечной красоте степи. — Крутит, ой, и крутит же, стерва! — Корней сокрушенно мотает головой: это зуб у него ноет. — Хотя бы капельку спиртомицину на корень, может, занемел бы… Да, видать, забыли про нас, — это он о том, что завтракать долго не зовут. Ради летчиков, которые приедут завтракать, кажется, будет сегодня чабанская каша, хотя, конечно, женщины вряд ли приготовят ее так, как сам Горпищенко. Собственноручно варить кашу вожак чабанский берется лишь в редких случаях, и уж когда начнет, то будет колдовать возле нее, никого не подпуская, приготовит, отхлебнет, а отставив с огня, еще и в кожух завернет, чтобы томилась-допревала; приготовив, еще и похвалить сумеет, гордый своей работой: — Такой каши не отведаешь ни в каком ресторане, она в кожухе варена! А покамест у Корнея кишки играют, и настроение у него явно портится. Отставив лопату, он начинает привычно жаловаться на солнце, которое уже печет с самого утра, на климат, что заметно меняется к худшему. — Доигрались с природой: лето придет — дождь не брызнет, зимой снега не увидишь… Буйные зимы, какие были раньше, где они теперь? — Всех перевоспитали. Говорят, и солнце активнее стало, — шутит Горпищенко и подзадоривает напарника: — Давай уж добьем. И они снова берутся за лопаты, засыпают грязь вокруг желоба сухой землей, выравнивают — овцы даже яму выбили на том месте, где был когда-то бугорок. Хоть какие маленькие копытца, а пылинку за пылинкой разнесли от колодца землю по степи, и приходится снова подсыпать, заравнивать. Зато когда придет отара, то и не узнают овцы своего водопоя: где вчера месили грязь, сегодня стало сухо и опрятно, а перекошенный стальной их желоб кто-то приподнял да закрепил, и ветерок теперь под ним провевает. Но вот наконец можно и пошабашить: хозяйка, жена Горпищенко, идет с ведрами к колодцу набрать воды, а заодно велит и чабанам собираться на завтрак. — А то Петрусь что-то задержался. Может, опять только вечером вернется, — невесело говорит она, медленно опуская торпеду в глубину. Вытянула, налила свеженькой из торпеды в ведра, взяла их на коромысло, понесла, все время на ходу словно бы разыскивая кого-то взглядом в степи. С той поры, как сын приехал, еще и не нагляделась на него, сын дома почти не живет — за эти три дня больше был на полигоне, чем здесь. Отпуск и на отпуск не похож, хотя, правда, и сам он говорит, что очутился здесь по делам службы, только заездом. Авось еще отпустят его, и, освободившись от хлопот, он сможет отдохнуть как следует, приедет на несколько недель, целыми днями будет читать или играть под тополями в шахматы со своим другом Серобабой, летчиком сельскохозяйственной авиации, который при случае прилетает с Центральной проведать друга и сажает свой полотняный аэроплан у самой чабанской хаты. В свое время они вместе были в училище и еще там дружили, а потом, когда была сессия и был принят закон о миллионе двухстах тысячах, то Серобаба попал в тот миллион под сокращение, переквалифицировался и теперь возит почту в совхоз, подкармливает посевы и опыляет виноградники. Веселый такой этот Серобаба, со всеми шутит, и она рада, что Петро с ним дружит. Сидят себе, играют в шахматы или просто беседуют, а она что-нибудь делает поблизости и краешком уха слушает их разговор, тогда сын раскрывается больше, чем когда-либо, в каких-то тайнах своих, в чем-то малопонятном матери. Она слышит о каких-то перегрузках, когда даже глаз нельзя закрыть, и мышцы на лице перекашиваются, и кровь становится тяжелой в жилах… Или, наоборот, слышит от них о красоте полетов, о том, как бывает им приятно, когда рано утром полный штиль, «колбаса-зебра» над аэродромом опускается, утро погожее и ты — «летишь, как в масле!». Но не всегда они там купаются, как в масле. Она уже привыкла, что отец без конца дирекцию критикует и управляющего отделением разносит на все корки, думала, что хоть у сына там согласие во всем, а выходит, и у них по-разному бывает, чем-то их «намордники» Серобабе не нравятся, «не та, говорит, система», хотя и более новая. Серобаба до сих пор плюется, вспомнив, как однажды взял старый кислородный прибор, он якобы удобней, а начальник увидел — из рук выхватил, разорвал… И не потому, что начальник тот плохой, а потому, что аппарат не для самых больших высот, с таким, мол, нельзя… ка-та-пуль-ти-ро-вать-ся! А сын в том «наморднике», тяжелом, неудобном, иногда летает по многу часов, не вылезая из самолета, на железе сидит, одетый железом. Да ты иного заставь в ресторане за столом высидеть, не вставая, двадцать часов, так и то навряд ли выдержит, а тут — еще и работай! Такова его жизнь. Не удивительно, что уже и лысеет малость, — совсем молодой, а чубчик стал как шелк. Но сам ведь выбрал себе такую жизнь, согласен изо дня в день через аппарат дышать, лишь бы только быть на тех высоченных высотах. Говорят: соколы! Куда соколам до них! Когда здесь вот, в степи, черная буря идет, клубится, и небо все от нее черное, и кажется, что ввысь конца нет этой черной метели, они, летчики, оказывается, и над нею, над бурей, ходят. — Неужели же тебе, сынок, не страшно там, когда под тобой вся земля бурей окутана? — Десяти тысяч метров высоты достигают эти песчаные бури, мама, а выше — там небо чистое, солнце светит, мы там по приборам идем. Такой он у нее. Больше всего беспокоится она о его здоровье, пускай бы без аппаратов здесь полнее надышался чистым степным воздухом. Пока он тут, и на душе спокойно. А когда в полетах, тревожно на сердце и часами не выходит из головы та женщина, у которой тоже был сын летчик, а в позапрошлом году разбился. Как она кричала на все село, когда приехали за нею товарищи сына, летчики из части! Рассказывала потом, что видела лишь цинковый ящик-гроб, а в нем наглухо запечатано все, что осталось от ее сына на девяносто третьем его вылете… Девяносто два было счастливых, а из девяносто третьего — цинковый ящик запечатанный. Батько не хочет и думать о таком, ведь это же не война и несчастные случаи — только случаи, всюду они могут быть, а сколько их, соколов, целое лето носится под самым небом, и даже зимой слышишь их грохот за тучами, там, где вечно светит солнце! Сегодня за сыном еще до рассвета заезжали летчики с полигона, все в офицерских чинах, один, командир, седоватый уже, с майорскими звездами на погонах, а, однако, все между собой как равные, как братья, — шутят, смеются. Тот для них просто Павлик, этот Петрусь, тот Королек. Она, мать, сказала им: — И не узнать, кто между вами старший. — В небе, мамаша, мы все равны, — улыбнулся командир. — Сколько бы ни было нас в самолете, а крылья одни на всех. Они торопились, выпили наспех по стакану молока, сказали — приедут на завтрак… Взгляд матери то и дело обращается туда, в сторону полигона, который давно уже стал частицей чабанской жизни, властно вошел в нее своим грохотом, загадочностью, суровым распорядком… Сын все шутит, говорит, что приехал с товарищами из своего полка вызывать здешних, полигонных, на соцсоревнование… Шутит он или, может, и вправду по такому делу прибыл — матери до этого нет дела, а вот когда его тот полигон отпустит… Только поставила ведра возле хаты, как, глядь, — катит из степи машина, открытый «газик» военный, и в нем полно: начальник полигона Уралов, и Петрусь, и товарищи его, а между офицерскими фуражками и Тонины волосы развеваются. Летчики все веселые, один Уралов между ними немного грустный: видно, потому, что уже не летает, хотя по возрасту еще молодой. Роста невысокого, щуплый и все время словно бы напряжен — лицо белое, острое, худощавое, почти мальчишечье; и каждый раз, когда мать видит Уралова, ей почему-то становится жаль его, как родного сына. — Как там ваша девочка? — спрашивает она Уралова про его маленькую дочурку. И тот сразу смущается от счастья: — Растет. Уже смеется… Старый Горпищенко не успел и переодеться, предстал перед летчиками в обыденном рабочем: ситцевая, серая от пыли рубашка да залатанные штаны, сандалии на босу ногу; и никаких на нем не было сегодня чабанских доспехов — ничто не отягощало его коренастую фигуру. Тоня, соскочив с машины, сразу подбежала к отцу, защебетала, еще и под руку демонстративно взяла, чтоб показать летчикам, что не стесняется отца, хотя он и в таком виде. «Ну и пусть он в этой незавидной рабочей одежде, а я горжусь им!» — словно бы говорит девушка, уцепившись за отца. У Тони с отцом дружба своеобразная, без нежностей лишних, до сих пор с ремнем еще наготове, но знает девчонка, что хотя отец у нее и строгий, а защитит, если нужно. Как-то, еще в восьмом классе, подружки обидели ее: задавака, длинными ресницами кичится, думает, если ресницы длинные, так уж и на экран! Была в этих нападках доля правды, и, может, потому девушку задело за живое, прибежала из школы в горючих слезах и скорей к ножницам. Из-под рук отца схватила чабанские ножницы и уже готова была одним махом отхватить, укоротить свои матерью дарованные ресницы. — Ты что, с ума сошла? Отец отнял ножницы, дал подзатыльник. Дочь огрызнулась: — А чего же они дразнятся! — и разрыдалась безудержно. Прервав работу, отец пошел тогда в школу, аж на Центральную, чтоб восстановить справедливость. Впрочем, иной раз любовь к дочери проявляется у него и по-другому: прошлый год довела до того, что за кнут схватился, отстегал ее при людях возле кошары. Он на арбе стоит, силос сбрасывает, оглянулся, а старшеклассница его внизу, как на качелях, на рогах вола колышется. Получила тогда от него кнутом… Однако и это их дружбы не поколебало: сама знает, что заслужила. И сейчас Тоня радушно — отцу первому — поливает из кружки. — Умойтесь, тату, чтоб еще красивее были! Корней тем временем к чабанкам подмазывается: — Не будет ли там, хозяюшки, капельки лекарства на зуб? Когда на столе появилась бутылка с белой головкой и старый Горпищенко попытался было наполнить летчикам рюмки, они дружно один за другим отказались: — Я пас. — И я пас. — Кого это вы пасете? — пошутил старик. Летчик с седыми висками, поблагодарив, объяснил: — Сегодня мы непьющие. Чабан удивленно посмотрел на сына. И тот подтвердил: — Правда, тату. — Чего же это? — Мы, тату… летим. Было это как гром среди ясного неба. Однако отец и виду не подал, только утерся молча. А у матери и ложка выпала из рук. — Вот так отдых! Только на порог — и назад! Как же это? Отзывают вас, что ли? — Так нужно, мамо, — сказал сын, спокойно разрезая на сковородке яичницу, а старый Горпищенко взглянул на жену сурово-успокаивающе: не суйся, мол, не в свое дело, так нужно, ясно тебе? Не стал и сам допытываться, неприлично: всю свою чабанскую жизнь он прожил и живет под знаком этого «так нужно». Старый солдат, он хорошо знает, как много подчас кроется за этими словами и сколь важен для человека долг — невидимый командир его жизни. Мыслями, опытом, душой старого солдата, чьи кони не раз влетали под артиллерийским обстрелом на огневую и, беснуясь от ужаса, вихрем проносились через пылающие мосты Европы, тяжким солдатским опытом он сразу понял скупое объяснение сына, и, хотя душа его тоже сжималась от боли и досады, внешне он оставался спокойным, сумрачно-невозмутимым, только насупился больше да еще и прикрикнул на Тоню, когда она сболтнула что-то неуместное о «ракетном отпуске» брата. Из солидарности с летчиками хозяин не налил стопку и себе. Пришлось Корнею лечить свой зуб в одиночестве, а выпив стопку, приложил он ладонь к щеке и долго мотал головой. — Еще сильнее крутит, — виновато заговорил он средь тишины под уничтожающим взглядом своей молодицы и, держась за щеку, пожаловался летчикам: — Вот как нас лечат! Приехала из самой области на санитарной летучке какая-то вертихвостка: «Товарищи чабаны, ежели у кого пеньки, подходите». Вот это, думаю, внимание к чабану: всех чабанов по кошарам объезжает, на месте зубы рвет, без отрыва от производства. А у меня как раз пенек коренного зуба давал о себе знать… «Начинайте с меня», — говорю. Приглашает меня в свою летучку, велит хвататься за какую-то перекладину: «Держись, чабан, покрепче!» А сама тем временем зажгла спиртовку, щипцы туда — раз! два! Все чин чином, и хотя сама тонкорукая, а как ухватила за корень, скрутила, как добрый мужик. Аж затрещало, всю челюсть, казалось, выворачивает… А болит — криком кричал бы… Отплевываю кровь да ругаюсь — чего, мол, не заморозила, или, может, думаете, как чабан, так ему и не больно? А она: «Простите, забыла захватить то, чем замораживают, сейчас поеду, мигом привезу». Да как махнула, так и по сию пору везет… Ну что про такую сказать, а? — Потому что хлопцы у нее в голове, а не ваши чабанские зубы, — говорит Демидиха сердито. — Не один же ты у нее, Корней, — заступается за врача Демид. — Сколько тех больных теперь… Фронты, окопы, голодовки — все вылазит боком… Приехала, попрактиковалась — и дальше. — Не имеют права на мне практиковаться! — возмущенно воскликнул Корней, шепелявя. — Потребую теперь, пускай вместо пенька целую челюсть вставит. Вот только как ее найти? Тоня, ты там не видела на Центральной эту вертихвостку? — Не до нее было, — сверкнула Тоня на всех орехово-карими глазами. — У меня экзамен был. — Ну как? — поинтересовался отец. — Можете поздравить. Хоть и жарко было, а сдала! — Что ж ты сдавала? — Сочинение, — засмеялась Тоня и добавила многозначительно: — На свободную тему! — И писала его, видно, азбукой Морзе? — весело заметил брат. Тоня залилась румянцем. — Ты угадал. Матери не нравилось, что они разговаривают намеками да загадками, и, строго взглянув на дочь, она обратилась к сыну: — Ты ж, сынок, хоть пиши почаще. Да больше описывай про себя. А то и в госпитале лежал, и рука была в гипсе, а мы вон когда узнали… Так и не рассказал толком, что у тебя с рукой. Летчик молча переглянулся с седоватым своим командиром. — Ничего страшного, мама. Рука нормальная. Срослась как следует. Видите, пальцы все работают. — Повеселевший, он шевельнул в воздухе пальцами, демонстрируя матери руку. — Рука как рука. Такая, как и до того была. Не длиннее и не короче. — И взяток не берет, — подбросил один из летчиков. Все за столом засмеялись, а более всего эти слова пришлись по душе отцу. Он даже плечи расправил от гордости за сына, за его руки, что могут ломаться, но не обесчестят отца, как бывает у других… Ежели у кого бездельники да хапуги подчас вырастают, ресторанные лоботрясы в разрисованных рубашках, то у него сын знает, для чего живет, не даром ест хлеб народный… — А своему командованию передайте, — нахмурившись, говорит отец, — что мы здесь тоже не трава, не заслонили нам свет овечьи хвосты… Видим, что к чему. И трудимся тоже на совесть. Потому как лучше уж сгореть на работе, чем заржаветь от безделья. Демид тем временем придвинулся к своему соседу-летчику, молчаливому, белобровому, которого товарищи называют просто Павликом, начал назойливо допытываться, не знает ли он чего-нибудь о теперешней судьбе какого-то генерала Иванищева, с которым он вместе в сорок первом в окружении воевал… Едва ли не с каждым приезжим заводит Демид речь о том своем генерале и удивляется, что никто о нем не слыхал и не знает, хотя генерал был настоящий, не покинул солдат в беде. Не слыхал о нем и Павлик. Слушая Демида, он не сводит глаз с его сынишки, который как заколдованный стоит перед ним, уставившись глазенками в одну точку, а точка та — значок у Павлика на груди, значок в форме маленькой бомбы, что, будто капля, вот-вот сорвется наземь. — Чего смотришь? — наконец не выдерживает Павлик. — Скажите, а бомба тяжелая? — Нелегкая. — Это у нас мудрец, — замечает Демидиха с лаской в голосе. — Вчера подошел ко мне, в одной руке птенец, а в другой ржавый патрон, еще и пуля торчит в нем… «Скажите, мама, что тяжелее: пуля или голубь?» — Действительно, вопрос, — чуть улыбнулся Уралов своими бледными губами. — Не сразу и ответишь… Еще не поднялись из-за стола, как задребезжал в воздухе над самой хатой пропеллер, качнулись крылья, приветствуя товарищество авиаторским приветом: Серобаба прилетел. Уже все видят в кабине голову в шлеме, и черные усы, и белозубую улыбку. Летчики встали из-за стола, зашумели: — Можайский прилетел! — Батя отечественной авиации! Королек закричал в воздух, указывая Серобабе прямо на стол: — Садись! Садись! Для Тони это было сущее кино — смотреть, как Серобаба, посадив неподалеку свой кукурузник, вылезает из кабины, спрыгивает на землю, срывает с головы шлем и вразвалку идет к товарищам, широко улыбаясь, а в обеих руках блестят, как гранаты, бутылки шампанского. Красавец летчик! Весь пышет здоровьем, щеки цветут, как мальвы, а усы пышные, пушистые, что называется, благородные. Такие усы лишь в кино можно увидеть за двадцать копеек. — Я же говорю: кто не рискует, тот шампанского не пьет! — приободрился Корней, словно бы завороженный Серобабиными бутылками. — В том-то и дело, что этот как раз не рискует, — засмеялся летчик с монгольскими глазами, а старший, командир, добавил с добродушным превосходством: — Этот только при солнце летает… Когда «чуден Днепр при тихой погоде». — А когда черные бури? — Тогда сидит и не шелохнется… Отдав кому-то из женщин бутылки, Серобаба пошел обнимать летчиков: все они, оказывается, его знакомые да приятели по прежней службе. — Цыплят возишь? — спросил Серобабу Королек, когда снова сели за стол. — Не только, — возразил Серобаба, бесцеремонно накладывая себе в тарелку яичницу с салом. — Разный бывает груз. И цыплят из инкубатора, и сперму в термосах из лаборатории, а то еще бабу какую-нибудь с заворотом кишок к хирургу. На носилки ее и в кассету под крыло, пускай там накричится вволю… А чаще всего, братцы, с гербицидами имею дело. Вы же тут все невежды, откуда вам знать, что такое гербицид? А гербицид — это, братцы, такой препарат, которым бывший военный летчик Серобаба ведет химическую прополку полей. Беда только, что гербицидов этих покамест больше нет, чем есть. — Вы же и почту возите, — подсказала Тоня. — Что почту! Я первую клубнику вожу! Я даже горох опыляю, и по виноградникам химикатом сыпануть — это тоже мое амплуа. Вы не забывайте, что перед вами человек широчайшего трудового профиля, летчик-универсал, — продолжал он, завладев беседой. Выстрелив из бутылки пробкой, поналивал всем кипящей пены с такой уверенностью, что даже летчики не решились отказаться. — Ну, поживем! Полетаем! За тебя, Уралов! За здоровье твоей дочки, — поднял стакан Серобаба. — У него ж там такая степнячка растет… Уралов снова расцвел при упоминании о дочурке, а Серобаба стал аппетитно закусывать, приглашая и летчиков тоже: — Это вам не спецконсервы, которые сто лет на складе лежали, а потом их бортовику дают… — Да ты, вижу, полностью здесь акклиматизировался, — промолвил старший из летчиков. — А что же теряться? — глянул на него Серобаба большими, как у вола, чистыми глазами. — Бывшему истребителю теряться не к лицу. Да и чем у нас плохо? Тут ежели жара, так уж жара! Ежели ветер, так уж ветер! Раздолье, простор, где хочешь, там и садись. И люди в степях — где еще встретишь людей такой широкой натуры! Где красавицы такие, как наши? Вишь, какая мулатка! — взглянул он на Тоню, и девушка вспыхнула. — Усы мои, вижу, тебе нравятся, — провел Серобаба рукой по своим пушистым усам. — Нравятся, да? — Да… — Только мала ты еще для этих усов, — сменив тон, строго бросил он девушке, и она зарделась еще больше. А Серобаба уже говорил летчикам: — Сначала, когда отчислили, ох, как кисло было, братцы, вашему Серобабе! Ну, как это гордый реактивный летчик-истребитель да станет истребителем комаров? Приехал домой, места не нахожу. Мама, правда, радуется, на седьмом небе старушка! — Да как же и не радоваться ей, — тихо заметила Петрова мать. — А мне, чувствую, без крыльев жизни нет, — вел Серобаба дальше. — Иду на аэродром, на ближайший аэродромишко, где отряд эс-ха авиации базируется. Тихо, все в разлете, лишь кое-где самолеты, как цикады, дремлют по степи да под кустами пассажиры клюют носом на котомках. Наш пассажир, знаете, непривередливый, берет с собой торбу с харчами. Туман? Нелетная погода? Он и побрел к автобусу… Сначала гоняли меня по наземным работам. Глянешь, как самолет взмоет в воздух, и здесь вот засосет-заноет… Потом курсы по переподготовке таких гавриков, как я. Были среди нас и майоры и капитаны — все переучивались на гражданский манер… Представляете, реактивнику, скоростнику на полотняном АН-2 очутиться! Полное с моей стороны презрение. Однако потом, как присмотрелся… Да ведь он трудяга! Да на нем ведь полетать утром над полем — одно наслаждение! Цыплят возить? Ну и что же? Да здравствует цыпленок, утенок и индюшонок — вот мой девиз. — Что ни говори, а трудно в тебе узнать бывшего военного летчика, — заметил подтянутый, подобранный Королек. — Ну, ты не думай, что Серобаба стал здесь каким-нибудь баптистом, — быстро отреагировал Серобаба. — Он ценит и твое дело, но и в свою кашу плюнуть не даст. Ежели хочешь знать, здесь летчик тоже должен быть не шаляй-валяй, а классный! Тут у тебя ни штурмана, ни радиста, сам за всех — и швец и жнец. Зато уж тренируешь глаз в ориентации, налегаешь на технику пилотирования, на дядьку не надеешься — только на себя. Это тебе не просто слетал, отбомбился, попал не попал, и возвращайся назад… Мы тоже бомбим, но не по пустому месту, не по макетам, а по живым врагам — по осоту, сурепке, по гусенице, по плодожорке! — После этого, друзья, — посмотрел старший на своих летчиков, — нам остается подавать командованию рапорты да переходить на переобучение к Серобабе. Возьмешь? — Придет еще время — все вы на мирные крылья пересядете… Еще вместе будем доставлять цыплят на Марс… — На таких вот таратайках? — улыбнулся Павлик в сторону зеленовато-серого самолета Серобабы, возле которого уже вертелась чабанская детвора. — Ничего ты не понимаешь, — возразил Серобаба. — Ежели по сути разобраться, так это у меня как раз и есть настоящий самолет. Он тебе не болванка какая-нибудь, он с крыльями, создание действительно крылатое! И хотя с высоты моего полета земля не круглая и не в голубом ореоле, но, уверяю вас, она прекрасна! Летишь и любуешься всем — и серебристой нехворощью, и лесополосами, и ворохами золотыми на токах, и белой девичьей косынкой, что мелькнет будто чайка. Ну и, конечно же, — он подмигнул чабану, — этими вашими тополями, что так упрямо в небо растут. — Серобаба! Да ты поэтом стал! — восклицает Королек, а Павлик спокойно замечает: — Это он здесь, а у нас ему, помните, сколько раз попадало… Сколько взбучек получал за озорство в воздухе. — И все же ваши самолеты красивее, — говорит Тоня брату, словно бы утешая. — Верно ли, что вы могли бы через океан — туда и назад — без заправки? — Тебе это зачем? — покосился на дочь чабан Горпищенко и, отодвинув стакан с недопитым шампанским, тяжело положил на стол свои узловатые руки. А Демид курил цигарку за цигаркой и грустно размышлял:
— Расточительство какое на свете, ох, расточительство!.. На одни бомбы сколько денег зря идет!..
— Один только он и занят настоящей работой, — кивнул Корней на Серобабу.
Летчик с поседевшими висками, видно, обиделся; окинув Корнея строгим взглядом, спросил:
— Вы были на фронте?
— Был.
— Скрежетали зубами в окопах, что авиация вас не прикрывает? То-то!.. Хотелось бы и нам, как Серобабе, штурмовать плодожорку да бурьяны, а приходится вместо этого тяжелые бомбардировщики в небо подымать. И поднимаем, потому что нужно, потому что мы из тех летчиков, — голос его зазвенел, — которые на фанере летали, в сорок первом лоскутка брони не было на нас. Зубы крошились от ярости, а что мы могли? Сколько нас, охваченных пламенем, на глазах войск в воздухе взрывалось, на деревьях повисало, белеет где-нибудь на опушке только комок оплавленного дюраля после нас, — резко закончил он.
— Да я что? — пробормотал Корней. — Нужно так нужно.
— Детей жалко, — вздохнула Демидиха.
После этого все приумолкли.
Старший летчик оперся щекой о стиснутый кулак, затуманился невеселым раздумьем, будто говоря: снова полет. Но и быть не может иначе, ведь где-то там чужие летчики готовы по первой команде поднять в воздух ядерный груз… А может, дума его была о фронтовых летчиках, — скольких он знал за войну! — полетят вот так днем или в лунную ночь — и нет их, не возвращаются. Мертвыми он их не видел, и потому иногда по ночам кажется, что где-то и до сих пор летают они, молодые, вечные, в лунном звездном небе…
Секунды идут. Командир посмотрел на часы, другие — тоже, и, обменявшись взглядами, летчики встали, поблагодарили хозяйку.
Снова бортовой саквояжик у Петра в руке.
— Ты ж там межу не перелетаешь? — напутственно посмотрел отец на сына.
— У нас, тату, без нарушений.
— То-то же!
И уже, как в нелегком, слепом сне, идут отец, мать и Тоня с летчиками к колодцу — ведь нужно же Петру напиться воды на прощание, чтобы не забывал дороги домой. В земную глубину, где виднеется клочок степного неба, медленно-медленно опускается ведро-торпеда и так же медленно поднимается оттуда, тяжело раскачиваясь. Вот уже она стоит сверху на бетонном круге, и ключевую воду, добытую из глубин, пронизывает солнце. Глаза режет ведро ярко-красной своей оболочкой, мокро сверкая на солнце. Молча пьют все, пьет Петрусь, пьют друзья его летчики, пьет и Серобаба, обняв ведро руками, и капельки остаются на черных пушистых усах.
А Демид курил цигарку за цигаркой и грустно размышлял:
— Расточительство какое на свете, ох, расточительство!.. На одни бомбы сколько денег зря идет!..
— Один только он и занят настоящей работой, — кивнул Корней на Серобабу.
Летчик с поседевшими висками, видно, обиделся; окинув Корнея строгим взглядом, спросил:
— Вы были на фронте?
— Был.
— Скрежетали зубами в окопах, что авиация вас не прикрывает? То-то!.. Хотелось бы и нам, как Серобабе, штурмовать плодожорку да бурьяны, а приходится вместо этого тяжелые бомбардировщики в небо подымать. И поднимаем, потому что нужно, потому что мы из тех летчиков, — голос его зазвенел, — которые на фанере летали, в сорок первом лоскутка брони не было на нас. Зубы крошились от ярости, а что мы могли? Сколько нас, охваченных пламенем, на глазах войск в воздухе взрывалось, на деревьях повисало, белеет где-нибудь на опушке только комок оплавленного дюраля после нас, — резко закончил он.
— Да я что? — пробормотал Корней. — Нужно так нужно.
— Детей жалко, — вздохнула Демидиха.
После этого все приумолкли.
Старший летчик оперся щекой о стиснутый кулак, затуманился невеселым раздумьем, будто говоря: снова полет. Но и быть не может иначе, ведь где-то там чужие летчики готовы по первой команде поднять в воздух ядерный груз… А может, дума его была о фронтовых летчиках, — скольких он знал за войну! — полетят вот так днем или в лунную ночь — и нет их, не возвращаются. Мертвыми он их не видел, и потому иногда по ночам кажется, что где-то и до сих пор летают они, молодые, вечные, в лунном звездном небе…
Секунды идут. Командир посмотрел на часы, другие — тоже, и, обменявшись взглядами, летчики встали, поблагодарили хозяйку.
Снова бортовой саквояжик у Петра в руке.
— Ты ж там межу не перелетаешь? — напутственно посмотрел отец на сына.
— У нас, тату, без нарушений.
— То-то же!
И уже, как в нелегком, слепом сне, идут отец, мать и Тоня с летчиками к колодцу — ведь нужно же Петру напиться воды на прощание, чтобы не забывал дороги домой. В земную глубину, где виднеется клочок степного неба, медленно-медленно опускается ведро-торпеда и так же медленно поднимается оттуда, тяжело раскачиваясь. Вот уже она стоит сверху на бетонном круге, и ключевую воду, добытую из глубин, пронизывает солнце. Глаза режет ведро ярко-красной своей оболочкой, мокро сверкая на солнце. Молча пьют все, пьет Петрусь, пьют друзья его летчики, пьет и Серобаба, обняв ведро руками, и капельки остаются на черных пушистых усах.
 Потом Серобаба запускает свой биплан. Все смотрят, как пыль вздымается вместе с его самолетом, и потом уже в воздухе из этого пыльного хаоса вдруг выныривает — крылатое! Помахав крыльями всем стоящим у колодца, он берет курс на столицу совхоза — Центральную, а летчики, попрощавшись, садятся в свой открытый новенький армейский автомобиль, и голос матери прерывается от волнения, когда она говорит:
— В добрый час!
И уже дорогами разгонными стелется перед ними степь. Помчались в направлении полигона, и пока едут, отдаляясь в глубь степную, молодой Горпищенко, оглядываясь, все видит у колодца мать в ливнях полуденного солнца, и Тоню возле нее, и взлохмаченного, без картуза, отца. Он стоит на возвышении около сруба, а над ним на стальном тросе ярким жаром горит, пылает на всю степь красная, как сердце, торпеда.
Потом Серобаба запускает свой биплан. Все смотрят, как пыль вздымается вместе с его самолетом, и потом уже в воздухе из этого пыльного хаоса вдруг выныривает — крылатое! Помахав крыльями всем стоящим у колодца, он берет курс на столицу совхоза — Центральную, а летчики, попрощавшись, садятся в свой открытый новенький армейский автомобиль, и голос матери прерывается от волнения, когда она говорит:
— В добрый час!
И уже дорогами разгонными стелется перед ними степь. Помчались в направлении полигона, и пока едут, отдаляясь в глубь степную, молодой Горпищенко, оглядываясь, все видит у колодца мать в ливнях полуденного солнца, и Тоню возле нее, и взлохмаченного, без картуза, отца. Он стоит на возвышении около сруба, а над ним на стальном тросе ярким жаром горит, пылает на всю степь красная, как сердце, торпеда.
Лукия, председатель рабочкома
Океан степей застыл в полуденном блеске. Все живое спряталось в тень, только на северной меже совхозных земель, там, где пролегает трасса будущего канала, стоит железный грохот бульдозеров. Могучие, подвластные человеку механизмы то и дело появляются на валу с надсадным ревом и, грозно сверкнув ножами на солнце, снова проваливаются, разом глохнут, исчезают в земляном хаосе своих циклопических работ. Пройдет время, и будет здесь русло, будет сверкать до самого горизонта светлая вода, тихо плывя в степь, утоляя жажду окрестных полей. А пока здесь лишь свежий котлован, похожий на воронку после чудовищного взрыва, нарушил извечную дремоту земли. Нелегко покамест угадать будущие берега канала, между которыми еще только ходят бульдозеры и рыхлители, выбирая грунт с того места, где будет русло, рассекая его поперек глубоченными траншеями-штреками. Бульдозер за бульдозером появляются сверху, чтобы за минуту уже ринуться стремглав в глубокие забои, а оставленные между ними валы рыхлой необваленной земли все подымаются, растут. Кажется, к такой стене лишь прикоснись, разом и обвалится, но попробуй — там тонны грунта. Были, правда, случаи, что и заваливало людей, как-то придавило двух рабочих, усевшихся в тени позавтракать, — так и откопали их с разрезанной надвое буханкой хлеба, с надкусанной колбасой в руках. Долго потом следствие велось, все искали виновных… Духота здесь. Сверху на валах хоть ветерком тебя овеет, а в котловане, на дне бульдозерных траншей, жара налита до краев, ветерок не дохнет, непривычный человек там просто сварился бы, а ты еще ведь и в кабине бульдозера, в пылище, в грохоте, в испарениях горючего, тебе еще и рычагами работать все время. И ты стараешься, переворачиваешь степь, ведь нормы за тебя никто не даст. Одни работают, а другие, ввиду обеденного перерыва, вывели своих роботов из канала, выстроили их вдоль вала в ряд, и ножи их теперь сверкают, как один нож. Сами же бульдозеристы тем временем сгрудились в тени под полевым вагончиком, который заменяет им здесь все: и общежитие, и буфет, и клуб. Тень от вагончика такая куцая, что не может при крыть всех: сидят кто в тени, а кто на солнцепеке, кто хлеб жует с краковской колбасой, а кто сосет из бутылки пиво «жигулевское»; тот раскинулся — спит, похрапывает уже, а тот, прилепив на губы сигарету, просто лежит, разморенно отдыхает, выставив себя немилосердному солнцу, будто оно ему еще мало осточертело там, в духоте и безветрии канала. А над совхозной степью тем временем вихрится клубочком пыль, мчится вылинявшая директорская «победа», подкатывает, останавливается перед табором каналостроителей. Только из машины выходит не директор, а председатель рабочкома Лукия Назаровна Рясная, высокая, полнолицая женщина привядшей красоты. Косы, уложенные на голове тугими витками, делают ее еще выше. Подходит к рабочим, здоровается. В движениях, в разговоре у нее природное достоинство, непринужденность. Она не улыбается рабочим угодливо, как иной раз бывает с другими начальниками, ей ни к чему так улыбаться. Впрочем, она для них и не начальство, у них свое СМУ — Строительно-монтажное управление, приютившееся где-то в курортном городке у берега синего моря, где меньше пыли, — оттуда руководить якобы удобнее. Прямое начальство не очень балует их своими посещениями, а она вот приехала, потому что они избирали ее, голосовали за нее — она их депутат. Стройная, с густыми бровями степнячка, лицо, как у большинства здешних женщин, обветрено, щеки горят вишневым загаром. Только взглянула на их трапезу, сразу все поняла: — Всухомятку? Рабочие, разморенные солнцем и пивом, отвечают неохотно: — Да ведь канал-то не готов… — Воду не подвели… — Сами виноваты… Стрелочник всегда виноватый. Она мимоходом заглянула в вагончик, в их холостяцкое логово. Видно, пересчитала постели и прикинула в уме, что далеко не на всех хватает даже этих спартанских коек. — Где спите? Снова отвечают лениво, со скрытой насмешкой: — В будке. — На будке… — Под будкой… — Кой-кому нравится сидя. — Кой-кому на кулаке. — Правда, еще вагончиков подбросить обещают. — Один обещал, да умер, теперь другой обещает. И хохот. Тяжелый, неторопливый. Смеются зубы белые, и глаза искрятся смехом из-под запыленных бровей, смеются их майки просмоленные и руки, пропеченные в мазуте. А за их спинами беззвучно хохочут их бульдозеры сверкающим блеском ножей. Они, как и хозяева, тоже отдыхают. Шутки Лукия выслушивает без улыбки. — Что-то парторга вашего не вижу… — У него отгул. Вчера две смены ишачил. — А там что? — кивает Лукия на вал и неторопливо идет туда, ноги ее проваливаются в разрыхленном, вязком грунте. Вся компания, в которой никто и не шевельнулся, следит из-под вагончика, как Лукия Назаровна останавливает на валу одного из бульдозеристов, что как раз выгреб землю, перекидывается с ним словом, после чего открывается дверца и Лукия Назаровна садится рядом с водителем под тент — бульдозер сразу же со скрежетом исчезает из глаз в пыли, в бурлящем кратере изрытой трассы. Без привычки в той яме можно сомлеть, но председатель рабочкома не сомлела — сделав несколько ходок, она снова появляется на валу; зато не с чужих слов знает теперь, как бульдозерист зарабатывает на хлеб, какой у него труд и как необходимо ему после смены отдохнуть по-человечески, на кровати, а не на собственном кулаке. Речь заходит снова о вагончиках для ночевки, да о кухне, которой вовсе нет, да о том, что после смены даже умыться негде. Она слушает внимательно, запоминает их жалобы и чувствует, как постепенно сокращается расстояние между ними и ею, как словно бы смягчаются, отходят душой эти люди, которым, кажется, и жаловаться надоело.
— Попробую что-нибудь сделать, — говорит она почти хмуро;знает, что сдержать слово будет ей нелегко.
Столкнется со лбами покрепче железобетона, с бездушными людьми, которых ничем не проймешь. Разве мало этого железобетона в кабинетах, где ей приходится бывать по своим депутатским делам? Ей ли в диковинку холодные глаза, ледяное равнодушие или те пустые, казенные улыбки, что появляются автоматически вместе с обещаниями, которые тебе дают, хотя и не собираются выполнять?
Развелась целая порода пустозвонов, закованных в панцирь инструкций, служак, которых голыми руками не возьмешь, с которыми нужно уметь воевать, и Лукия воюет! Когда она выступает на совещании, не одного из присутствующих бросает в жар, не один из ответственных втягивает голову в плечи: знают, что Лукия, поднявшись на трибуну, оглядываться не станет, выдаст по заслугам хоть кому.
С комсомольских времен сохранилась в ней бурная горячность и острое, бескомпромиссное отношение к людям, сохранилась чистая вера ее молодости — вера, что жизнь, которую она строит, которую со всей страстью утверждает, эта жизнь может и должна быть совершенной, дающей человеку радость и полное счастье. И какую же вызывает досаду, как возмущает ее всякий беспорядок, что еще так часто встречается!.. Хоть бы и канал, это стойбище, куда люди с чудесною новейшей техникой выведены, брошены и забыты. В годы войны она сама была трактористкой, знает, что такое высидеть смену за рулем… И вот негде умыться, отдохнуть, похлебать горячей пищи. Разговаривая с рабочими, Лукия внешне спокойна, скупа на обещания, но внутри у нее все клокочет. Такое строительство, самый большой в Европе канал, в газетах о нем пишут, и такое безразличие к этим поистине героическим людям!.. Она уже прикидывает, куда нужно обратиться, с кем говорить, чтобы были здесь кухня, жилые вагончики, газеты, радио, уже зреют в ней те горячие слова, которые она скажет где следует.
А покамест говорит строителям:
— Будем поправлять. Однако вы тоже ушами не хлопайте. Вместе с вами будем поправлять. Ну, пока!
— Спасибо, что проведали, — слышит она вдогонку, и в этих словах нет уже ни капли насмешки.
— Ох, орлы! — говорит водитель Федя, когда «победа» снова помчалась по совхозным землям. — Механизмов нагнали, а умывальник за три копейки прихватить забыли… Ну, это похоже на нас…
Федя отличается тем, что частенько выбирает направление совершенно самостоятельно и все-таки привозит начальство как раз туда, куда нужно. Секрет своей интуиции Федя объясняет очень просто:
— Где непорядок, туда и везу. Хлеб залеживается на токах — директора туда. Где силосуют — туда обязательно. Если мы вчера, скажем, были с директором на Третьей ферме и Пахом Хрисанфович давал кому-то нагоняй, нужно его везти туда и сегодня, пускай проверит, как выполнили распоряжение.
Вот только у Лукии Назаровны бывают такие душевные завихрения, что даже и Федя не угадает. Доярок где-нибудь увидит — к ним; увидит чабана, что стоит среди поля, не минет и его, велит свернуть — не обидит человека, ведь он один-одинешенек в степи весь день, живое слово рад услышать.
Сейчас Лукия распорядилась ехать прямо на Центральную. Дорогой она расспрашивает Федю о его сыне: Федя один из самых молодых отцов в совхозе, сын его начинает уже лепетать, говорит «баба» и «мама», а батька называет покамест не «татом», а просто «есть», это потому, что отец забежит на минутку домой, и тогда он в самом деле есть, а так все больше в разъездах.
Лукию Назаровну Федя возит с особенным удовольствием. Ему нравится ее манера разговаривать с людьми, с которыми она держится словно бы даже сурово. Ей не нужно подбирать какие-то там ключи к людским душам, искать доверия, все и так знают, что она справедлива, не даст человека в обиду, заступится за честного работягу перед кем угодно. Чего-чего, а хлопот у нее хоть отбавляй. Если муж запил, жена бежит с жалобой прежде всего к ней, к депутатке. Если тебе нужна путевка на лечение, тоже, кроме врача, и к ней пойдешь еще, к председателю рабочкома, и она выслушает не менее внимательно, чем лучший врач. На что уж грызется с директором, никогда, казалось бы, нет мира между ними, а если б не она, то Пахом Хрисанфович с треском слетел бы в прошлом году весною, когда начался падеж скота из-за нехватки кормов. Лукия Назаровна тогда, даром что на собраниях мочалила его, первой же и заступилась в области:
— Если снимать, то сразу всех нас снимайте, потому что не один он в этом виноват.
Директор — трудяга, только болезнь замучила; у него застарелая язва желудка, а все некогда поехать подлечиться. Как только скажет ему Лукия Назаровна о курорте, он тотчас же подскакивает, руками отмахивается, будто перед ним закружились осы:
— После силосования! После жатвы! После обмолота!
И этих «после» у него не счесть.
— Ох, и дает она ему, эта язва! — рассказывает сейчас Федя про директора. — Бывает, в степи упадет на землю и катается возле машины, извиняюсь, аж воет, аж корчит его, прямо доходит, а чем я помогу? Пошлите вы его, в конце концов!
— Ты же знаешь, сколько раз ему путевку выделяли: не хочет — и все… Упрямый, несносный человек!
Ни с кем у нее не бывает столько стычек, сколько с директором, ни с кем в жизни она не ссорилась столько, сколько ссорится с ним, но и уважает она Пахома Хрисанфовича, как немногих. Из тех он, кто надрывается на работе, из тех, кто, не дожив до пенсии, падает на ходу. Вся душа его в хозяйстве, о чем бы ни шла речь, а на уме у него силос, механизмы, скаты, корма… Сейчас та самая пора, когда он от множества хлопот чумеет, глохнет; он не слышит тебя, если только твоя речь не про силос, не про шерсть. Он, так сказать, рыцарь силоса и жертва его. Директор совхоза-гиганта, а ходит в костюмчике потертом, никогда не поест вовремя, не отдохнет по-человечески, а дочери, которые, казалось бы, должны прежде всего о нем позаботиться, словно бы и не замечают, что отец валится с ног, что после приступа болезни, когда глаза ввалятся и желтоватую бледность щек покроет черная щетина, на него и глянуть страшно — будто из Освенцима.
Целое лето у него во дворе не умолкают радиола, гомон и смех — одни зятья выезжают, а другие приезжают, им здесь хорошо, здесь вроде курорта, во всем достаток. Влюбленный во внуков, Пахом Хрисанфович ни в чем дочерям не отказывает. Дошло было до того, что дочери сами и в бухгалтерию стали приходить, получать за отца зарплату (правда, потом, когда Лукия пристыдила, перестали). Дочери и зятья у Пахома Хрисанфовича вполне современные, поклонники модерна, читают модных поэтов, разбираются в музыке и живописи и вполне резонно требуют внимания и чуткости к себе и своим вкусам. Вот только им самим как-то не приходит в голову поинтересоваться здоровьем отца, обедал ли он нынче, какое у него настроение. Никто и не подумает об этом, когда вся компания весело, будто в ресторане, садится за щедрый родительский стол, в то время как отец, посеревший от пыли, на себя не похожий, где-то под колючей лесополосой, в степи наспех глотает позапрошлогодние консервы из банки — какую-нибудь «салаку» или «печень трески», — чтобы после этого снова впрячься в работу, снова — в разгон…
А самая большая радость его во внуках, в которых души не чает, да еще, быть может, в том, что на полях Пятого отделения кукуруза стоит как лес, аж лоснится… Ведь бывает и совсем не так. Возвращалась Лукия как-то с сессии раннею весною, над югом как раз шла черная буря, или, как говорят здесь, «наш черный степной дождь»… Курит, метет, заметает посадки, и видит Лукия, у дороги стоит по колеса заметенный «газик», а чуть дальше, в посевах, которые губит буря, ссутулился какой-то человек. Подошла — Пахом Хрисанфович! Ветер бьет, сечет его пылью, а он, согнувшись, стоит, и черные, как грязь, слезы текут по щекам… Никогда не забудет Лукия этих его черных слез, ведь и у самой подчас горло перехватывает от ярости, когда задуют, накатят неотвратимыми валами эти пыльные бури, эти азиатские самумы… Когда же наука их обуздает?
Бывали черные бури и раньше. Сызмальства помнит их Лукия, выросшая в этих степях, но сейчас стихийные бедствия участились, бури идут неслыханной силы. «Откуда они? — порой невольно возникает мысль. — Не отзвук ли это атомных ураганов, загадочных тайфунов, берущих начало где-то там, над Тихим океаном, в тех атмосферных ямах, где от бомб выгорел воздух?»
Машина мчится краем степи, во всю ширь видны морской залив и крейсер, скалой возвышающийся в ослепительной дали.
Слыхала она, что совхозные сорвиголовы уже донага раздели это списанное судно, ходят туда рубить свинец для грузил да раздобывать всякую всячину, слыхала, что и ее Виталик уже успел там с трактористами побывать, хотя про свои походы не сказал матери ни слова, совсем случайно узнала она об этом. Последнее время сын вообще словно бы отдаляется от нее, и Лукия замечает, как постепенно утрачивает свою материнскую власть над ним. Для нее становится неуловимым то, чем сын живет, что думает, что замышляет, все это каждый раз как-то выскальзывает из-под ее контроля. Может, и вправду она уже не в силах дальше его удерживать, нужны мужской опыт, отцовская рука… Многим Виталик тревожит ее, тревожит все острее, потому что нет для нее на свете никого дороже, чем он, ее нежный, тихий, душевный Виталик. Когда получила извещение о гибели мужа, сама себе поклялась: «Для сына буду жить. Для него, для него… Сама воспитаю, сама выведу в люди, как бы тяжело ни пришлось!» Не столько для себя жила все эти годы, сколько для него; он был окружен ее лаской, любовью, он рос в атмосфере любви. Так быстро вырос! Еще словно бы вчера мастерил модели игрушечных кораблей, детекторный приемник собирал, а теперь вот уже десятый класс заканчивает и антенны такие для телевизора ставит, что только неприятности из-за них, майор Яцуба даже в район нажаловался, а Лукия с досады, может, и слишком круто с сыном обошлась — наложила запрет на телевизор до конца учебы. Неугомонный хлопец… В позапрошлом году, еще совсем подростком, подвозил летом воду трактористам, а чтобы веселее было, на бочке написал мазутом: ТУ-104. И до сих пор как только увидит Лукия эту бочку, так и улыбнется.
Плывут и плывут думы материнские… Одни веселят Лукию, другие навевают грусть, наполняют грудь теплым волнением… Вот Виталий совсем еще маленький, идет она по улице с ним, откуда ни возьмись — гусак! Шипит, норовит ущипнуть! Люто наступает гусак, а мальчонка, стиснув кулачки, храбро идет на того гусака. И хотя сам побледнел, боится, да только любовь к матери сильнее страха… Белоголовый, нахохлившийся, кулачки стиснул, а в кулачке — что там у него? Гвоздь! С гвоздем на гусака!..
Вот так был совсем малышом, а теперь за один год подрос, вытянулся, выровнялся с хлопцами-ровесниками… Сколько радости материнскому сердцу оттого, что он хорошо учится, что учителя его хвалят, говорят, у него есть математические способности, а то, что у него есть склонности ко всякой механике, радиотехнике — это она и сама знает; когда едет на сессию, от сына поручений не счесть: «Зайди, мама, в радиомагазин, купи то да купи это». И как привезет ему разных шурупов да винтиков — нет для него лучших гостинцев. Целыми днями во дворе толкутся школьные друзья, которым он помогает, особенно по физике и математике; он делает это всегда будто шутя, с улыбочкой, поглаживая рукой подбородок (и никогда не обидит товарища, даже если тот и туповат), и только когда решает задачу нелегкую, вдруг становится серьезным, нахмуренным; в тот момент Лукия как бы видит его совсем взрослым, в будущем, в завтрашней самостоятельной жизни. Кем он станет? Выдающимся математиком или обыкновенным бухгалтером? Пройдет ли его жизнь здесь, в совхозе, или будет он в далеких, быть может, даже космических странствиях, и она станет высматривать его, как высматривает Дорошенчиха своего сына Ивана из дальних плаваний?.. Лукию детство лаской не баловало, родителей потеряла еще в первую голодовку, испытала всякое, когда батрачила у кулаков, работала в коммуне, училась в агротехникуме, оттого и хочет, чтоб молодость Виталика не знала лишений: Лукия убеждена, что умного ребенка достаток не испортит, даже мотоцикл сыну купила, пускай катается, лишь бы только учился хорошо… Лежит сейчас, наверно, где-то там на спорыше-траве среди товарищей, среди разбросанных учебников, помахивает ногами, задумавшись над какой-то задачей, а когда уж очень устанет, тогда поднимет голову:
— Ну, антракт. Может, малость похохочем?
И кто-нибудь из хлопцев уже откликается в ответ:
— Ха!
А второй его поддержит:
— Ха! Ха!
И вскоре они уже катаются по траве от озорства, от искреннего молодого смеха. Нахохотавшись, спохватятся:
— Ну, довольно! А то уже кишки болят.
И снова примутся за работу.
Захваченная своими материнскими думами-заботами, Лукия и забыла о соседе, который застыл над баранкой, пока он сам не напомнил о себе.
— Слыхали, Лукия Назаровна? — Водитель улыбнулся, видно представив что-то потешное. — На территории нашего совхоза радиосверчок появился.
— Что, что? Какой сверчок?
— Знаете, как вот, бывает, в хате заведется: свиристит и свиристит. Вы — к нему, а его нет… Вот так и он, радиосверчок, — Федя снова улыбнулся. — И такие коленца откалывает по своей программе, что будь здоров! Вчера, к примеру, передал: «Граждане пчелы! Будьте бдительны! На улице Пузатых окопался трутень…»
— Я и не знала, что у нас такая улица есть…
— А как же! Та, что шлагбаумом перекрыта… Где Пахом Хрисанфович живет…
— Вот уж нашли пузатого. Живот к спине присох! Ходит как с креста снятый…
— Да не о нем же… Завпочтой пузатый? Пузатый! Главбух толстяк? Толстяк! Ветврач тоже на витаминах брюшко отпустил. А Яцуба, отставник наш? За хвост быка еще удержит — это же про него сказано… Ох, и бесится же он! «Чтобы какой-нибудь, говорит, сморчок, да меня в эфире трутнем обзывал? Я его и под землей найду!» И уже ищет…
Мчится автомашина. По сторонам появляются домики переселенцев — стандартные коттеджики, которыми разрастается по степи усадьба Центральная. Председателю рабочкома приходится заниматься и переселенцами. Немало усилий приложила Лукия, чтобы эти аккуратные домики наконец поднялись здесь… Скоро их будут заселять, а пока большинство переселенцев с семьями ютится у старожилов совхоза в тесноте. Только успевай улаживать конфликты между соседями… Ткачуки, старая и молодая, уже сторожат у ворот, ждут, пока Лукия подъедет, чтоб пожаловаться на какие-то новые несправедливости. Молодая — здоровая носатая молодица — работает на свиноферме и уже завоевала там уважение, а мать, хоть тоже еще не старуха, вынуждена сидеть дома — есть кого нянчить, внук на руках, его они тоже привезли с Западной Украины. Нет только отца у малыша, отец где-то скрывается от алиментов.
Лукия останавливает машину возле насупленных переселенок, выходит к ним, пытаясь разгадать, чем они на этот раз обозлены, на кого посыплются жалобы. Она уже мирила Ткачуков с их соседями Кухтиями, которые принялись было всячески выживать переселенцев со двора; после того как будто были приняты надежные предупредительные меры: чтобы не путать кур (они и были причиной ссоры), их выкрасили в разные цвета. Вот теперь и бегают по двору белые леггорны, как войско, что перемешалось на поле битвы: у одних крылышки помечены чем-то красным, а у других шейки обведены ученическими фиолетовыми чернилами… Так что ж у них еще?
— Не зря нынче курица пела… Курица завсегда поет к беде! — говорит старая переселенка.
— Что случилось? Снова соседи?
— Не от соседей нынче кривда…
Лукия заходит с женщинами в хату: грязно, воздух спертый, постель не убрана, только и веселят глаз яркие рушники на стенах. Миловидный ребенок спит в колыбели.
— Так чего же курица пела?
— А пела… Яцуба с обыском приходил… Вот как Ядзю отблагодарили за то, что из свинарника днем и ночью не вылазит!
Лукия удивлена: «Обыск? С какой стати? И по какому праву? Откуда у него такие полномочия?»
Женщины, захлебываясь, наперебой изливают ей свое возмущение. Ну да, обыскивал! Зашел, под печку заглянул, и в корзинку, и на лежанку — радио какое-то искал. Стасик (у них есть еще и Стасик, ровесник Виталика, в одном классе учатся и даже дружат), возмущенный самоуправством отставника, что-то сказал наперекор ему. И уж как они сцепились здесь, хоть людей зови на помощь! Наш ему — «бериевец», а он нашему — «бандеровец». Может, попади хлопцу что под руку, то и без греха не обошлось бы, все мог бы сделать за такую тяжкую обиду… Однажды Кухтий тоже обозвал было Стасика этим бранным словом, так мальчик всю ночь содрогался в рыданиях. Каково ему было слышать такое, когда именно бандиты-бандеровцы отца его замордовали насмерть!.. А Яцуба еще и рану растравляет. «Все вы, говорит, такие, никому из вас верить нельзя…»
«Что-то разошелся наш отставник, — с досадой думает Лукия. — Нужно вызвать на бюро да объяснить, что время произвола миновало!»
Она еще некоторое время говорит с переселенками, слушает односложные ответы молодой об отце ребенка, который снова куда-то переехал, скрываясь от алиментов, хотя его, постылого, она не хочет и разыскивать. Упрямая, гордая, видать, эта Ядзя… А старуха тем временем лопочет о своем, о том, что ей здесь «не по нутру», потому как «криницы глубокие» да «ветры лютые», из-за того она постоянно хворает.
— Скорей бы уж в новую хату, — заканчивает она певуче, а Лукия, недовольно оглядывая неубранную комнату, отвечает:
— Только не забудьте веник туда прихватить, чтобы мусор не заводился.
И переселенки поняли намек, покраснели обе от стыда, провожая ее к машине.
Надеялась Лукия застать сына дома, а увидела его еще издалека на металлической вышке, которую он сооружает с хлопцами во дворе бабки Чабанихи для телевизионной антенны. Сидит на самом верху, белеет чубчиком и что-то клепает.
Речь заходит снова о вагончиках для ночевки, да о кухне, которой вовсе нет, да о том, что после смены даже умыться негде. Она слушает внимательно, запоминает их жалобы и чувствует, как постепенно сокращается расстояние между ними и ею, как словно бы смягчаются, отходят душой эти люди, которым, кажется, и жаловаться надоело.
— Попробую что-нибудь сделать, — говорит она почти хмуро;знает, что сдержать слово будет ей нелегко.
Столкнется со лбами покрепче железобетона, с бездушными людьми, которых ничем не проймешь. Разве мало этого железобетона в кабинетах, где ей приходится бывать по своим депутатским делам? Ей ли в диковинку холодные глаза, ледяное равнодушие или те пустые, казенные улыбки, что появляются автоматически вместе с обещаниями, которые тебе дают, хотя и не собираются выполнять?
Развелась целая порода пустозвонов, закованных в панцирь инструкций, служак, которых голыми руками не возьмешь, с которыми нужно уметь воевать, и Лукия воюет! Когда она выступает на совещании, не одного из присутствующих бросает в жар, не один из ответственных втягивает голову в плечи: знают, что Лукия, поднявшись на трибуну, оглядываться не станет, выдаст по заслугам хоть кому.
С комсомольских времен сохранилась в ней бурная горячность и острое, бескомпромиссное отношение к людям, сохранилась чистая вера ее молодости — вера, что жизнь, которую она строит, которую со всей страстью утверждает, эта жизнь может и должна быть совершенной, дающей человеку радость и полное счастье. И какую же вызывает досаду, как возмущает ее всякий беспорядок, что еще так часто встречается!.. Хоть бы и канал, это стойбище, куда люди с чудесною новейшей техникой выведены, брошены и забыты. В годы войны она сама была трактористкой, знает, что такое высидеть смену за рулем… И вот негде умыться, отдохнуть, похлебать горячей пищи. Разговаривая с рабочими, Лукия внешне спокойна, скупа на обещания, но внутри у нее все клокочет. Такое строительство, самый большой в Европе канал, в газетах о нем пишут, и такое безразличие к этим поистине героическим людям!.. Она уже прикидывает, куда нужно обратиться, с кем говорить, чтобы были здесь кухня, жилые вагончики, газеты, радио, уже зреют в ней те горячие слова, которые она скажет где следует.
А покамест говорит строителям:
— Будем поправлять. Однако вы тоже ушами не хлопайте. Вместе с вами будем поправлять. Ну, пока!
— Спасибо, что проведали, — слышит она вдогонку, и в этих словах нет уже ни капли насмешки.
— Ох, орлы! — говорит водитель Федя, когда «победа» снова помчалась по совхозным землям. — Механизмов нагнали, а умывальник за три копейки прихватить забыли… Ну, это похоже на нас…
Федя отличается тем, что частенько выбирает направление совершенно самостоятельно и все-таки привозит начальство как раз туда, куда нужно. Секрет своей интуиции Федя объясняет очень просто:
— Где непорядок, туда и везу. Хлеб залеживается на токах — директора туда. Где силосуют — туда обязательно. Если мы вчера, скажем, были с директором на Третьей ферме и Пахом Хрисанфович давал кому-то нагоняй, нужно его везти туда и сегодня, пускай проверит, как выполнили распоряжение.
Вот только у Лукии Назаровны бывают такие душевные завихрения, что даже и Федя не угадает. Доярок где-нибудь увидит — к ним; увидит чабана, что стоит среди поля, не минет и его, велит свернуть — не обидит человека, ведь он один-одинешенек в степи весь день, живое слово рад услышать.
Сейчас Лукия распорядилась ехать прямо на Центральную. Дорогой она расспрашивает Федю о его сыне: Федя один из самых молодых отцов в совхозе, сын его начинает уже лепетать, говорит «баба» и «мама», а батька называет покамест не «татом», а просто «есть», это потому, что отец забежит на минутку домой, и тогда он в самом деле есть, а так все больше в разъездах.
Лукию Назаровну Федя возит с особенным удовольствием. Ему нравится ее манера разговаривать с людьми, с которыми она держится словно бы даже сурово. Ей не нужно подбирать какие-то там ключи к людским душам, искать доверия, все и так знают, что она справедлива, не даст человека в обиду, заступится за честного работягу перед кем угодно. Чего-чего, а хлопот у нее хоть отбавляй. Если муж запил, жена бежит с жалобой прежде всего к ней, к депутатке. Если тебе нужна путевка на лечение, тоже, кроме врача, и к ней пойдешь еще, к председателю рабочкома, и она выслушает не менее внимательно, чем лучший врач. На что уж грызется с директором, никогда, казалось бы, нет мира между ними, а если б не она, то Пахом Хрисанфович с треском слетел бы в прошлом году весною, когда начался падеж скота из-за нехватки кормов. Лукия Назаровна тогда, даром что на собраниях мочалила его, первой же и заступилась в области:
— Если снимать, то сразу всех нас снимайте, потому что не один он в этом виноват.
Директор — трудяга, только болезнь замучила; у него застарелая язва желудка, а все некогда поехать подлечиться. Как только скажет ему Лукия Назаровна о курорте, он тотчас же подскакивает, руками отмахивается, будто перед ним закружились осы:
— После силосования! После жатвы! После обмолота!
И этих «после» у него не счесть.
— Ох, и дает она ему, эта язва! — рассказывает сейчас Федя про директора. — Бывает, в степи упадет на землю и катается возле машины, извиняюсь, аж воет, аж корчит его, прямо доходит, а чем я помогу? Пошлите вы его, в конце концов!
— Ты же знаешь, сколько раз ему путевку выделяли: не хочет — и все… Упрямый, несносный человек!
Ни с кем у нее не бывает столько стычек, сколько с директором, ни с кем в жизни она не ссорилась столько, сколько ссорится с ним, но и уважает она Пахома Хрисанфовича, как немногих. Из тех он, кто надрывается на работе, из тех, кто, не дожив до пенсии, падает на ходу. Вся душа его в хозяйстве, о чем бы ни шла речь, а на уме у него силос, механизмы, скаты, корма… Сейчас та самая пора, когда он от множества хлопот чумеет, глохнет; он не слышит тебя, если только твоя речь не про силос, не про шерсть. Он, так сказать, рыцарь силоса и жертва его. Директор совхоза-гиганта, а ходит в костюмчике потертом, никогда не поест вовремя, не отдохнет по-человечески, а дочери, которые, казалось бы, должны прежде всего о нем позаботиться, словно бы и не замечают, что отец валится с ног, что после приступа болезни, когда глаза ввалятся и желтоватую бледность щек покроет черная щетина, на него и глянуть страшно — будто из Освенцима.
Целое лето у него во дворе не умолкают радиола, гомон и смех — одни зятья выезжают, а другие приезжают, им здесь хорошо, здесь вроде курорта, во всем достаток. Влюбленный во внуков, Пахом Хрисанфович ни в чем дочерям не отказывает. Дошло было до того, что дочери сами и в бухгалтерию стали приходить, получать за отца зарплату (правда, потом, когда Лукия пристыдила, перестали). Дочери и зятья у Пахома Хрисанфовича вполне современные, поклонники модерна, читают модных поэтов, разбираются в музыке и живописи и вполне резонно требуют внимания и чуткости к себе и своим вкусам. Вот только им самим как-то не приходит в голову поинтересоваться здоровьем отца, обедал ли он нынче, какое у него настроение. Никто и не подумает об этом, когда вся компания весело, будто в ресторане, садится за щедрый родительский стол, в то время как отец, посеревший от пыли, на себя не похожий, где-то под колючей лесополосой, в степи наспех глотает позапрошлогодние консервы из банки — какую-нибудь «салаку» или «печень трески», — чтобы после этого снова впрячься в работу, снова — в разгон…
А самая большая радость его во внуках, в которых души не чает, да еще, быть может, в том, что на полях Пятого отделения кукуруза стоит как лес, аж лоснится… Ведь бывает и совсем не так. Возвращалась Лукия как-то с сессии раннею весною, над югом как раз шла черная буря, или, как говорят здесь, «наш черный степной дождь»… Курит, метет, заметает посадки, и видит Лукия, у дороги стоит по колеса заметенный «газик», а чуть дальше, в посевах, которые губит буря, ссутулился какой-то человек. Подошла — Пахом Хрисанфович! Ветер бьет, сечет его пылью, а он, согнувшись, стоит, и черные, как грязь, слезы текут по щекам… Никогда не забудет Лукия этих его черных слез, ведь и у самой подчас горло перехватывает от ярости, когда задуют, накатят неотвратимыми валами эти пыльные бури, эти азиатские самумы… Когда же наука их обуздает?
Бывали черные бури и раньше. Сызмальства помнит их Лукия, выросшая в этих степях, но сейчас стихийные бедствия участились, бури идут неслыханной силы. «Откуда они? — порой невольно возникает мысль. — Не отзвук ли это атомных ураганов, загадочных тайфунов, берущих начало где-то там, над Тихим океаном, в тех атмосферных ямах, где от бомб выгорел воздух?»
Машина мчится краем степи, во всю ширь видны морской залив и крейсер, скалой возвышающийся в ослепительной дали.
Слыхала она, что совхозные сорвиголовы уже донага раздели это списанное судно, ходят туда рубить свинец для грузил да раздобывать всякую всячину, слыхала, что и ее Виталик уже успел там с трактористами побывать, хотя про свои походы не сказал матери ни слова, совсем случайно узнала она об этом. Последнее время сын вообще словно бы отдаляется от нее, и Лукия замечает, как постепенно утрачивает свою материнскую власть над ним. Для нее становится неуловимым то, чем сын живет, что думает, что замышляет, все это каждый раз как-то выскальзывает из-под ее контроля. Может, и вправду она уже не в силах дальше его удерживать, нужны мужской опыт, отцовская рука… Многим Виталик тревожит ее, тревожит все острее, потому что нет для нее на свете никого дороже, чем он, ее нежный, тихий, душевный Виталик. Когда получила извещение о гибели мужа, сама себе поклялась: «Для сына буду жить. Для него, для него… Сама воспитаю, сама выведу в люди, как бы тяжело ни пришлось!» Не столько для себя жила все эти годы, сколько для него; он был окружен ее лаской, любовью, он рос в атмосфере любви. Так быстро вырос! Еще словно бы вчера мастерил модели игрушечных кораблей, детекторный приемник собирал, а теперь вот уже десятый класс заканчивает и антенны такие для телевизора ставит, что только неприятности из-за них, майор Яцуба даже в район нажаловался, а Лукия с досады, может, и слишком круто с сыном обошлась — наложила запрет на телевизор до конца учебы. Неугомонный хлопец… В позапрошлом году, еще совсем подростком, подвозил летом воду трактористам, а чтобы веселее было, на бочке написал мазутом: ТУ-104. И до сих пор как только увидит Лукия эту бочку, так и улыбнется.
Плывут и плывут думы материнские… Одни веселят Лукию, другие навевают грусть, наполняют грудь теплым волнением… Вот Виталий совсем еще маленький, идет она по улице с ним, откуда ни возьмись — гусак! Шипит, норовит ущипнуть! Люто наступает гусак, а мальчонка, стиснув кулачки, храбро идет на того гусака. И хотя сам побледнел, боится, да только любовь к матери сильнее страха… Белоголовый, нахохлившийся, кулачки стиснул, а в кулачке — что там у него? Гвоздь! С гвоздем на гусака!..
Вот так был совсем малышом, а теперь за один год подрос, вытянулся, выровнялся с хлопцами-ровесниками… Сколько радости материнскому сердцу оттого, что он хорошо учится, что учителя его хвалят, говорят, у него есть математические способности, а то, что у него есть склонности ко всякой механике, радиотехнике — это она и сама знает; когда едет на сессию, от сына поручений не счесть: «Зайди, мама, в радиомагазин, купи то да купи это». И как привезет ему разных шурупов да винтиков — нет для него лучших гостинцев. Целыми днями во дворе толкутся школьные друзья, которым он помогает, особенно по физике и математике; он делает это всегда будто шутя, с улыбочкой, поглаживая рукой подбородок (и никогда не обидит товарища, даже если тот и туповат), и только когда решает задачу нелегкую, вдруг становится серьезным, нахмуренным; в тот момент Лукия как бы видит его совсем взрослым, в будущем, в завтрашней самостоятельной жизни. Кем он станет? Выдающимся математиком или обыкновенным бухгалтером? Пройдет ли его жизнь здесь, в совхозе, или будет он в далеких, быть может, даже космических странствиях, и она станет высматривать его, как высматривает Дорошенчиха своего сына Ивана из дальних плаваний?.. Лукию детство лаской не баловало, родителей потеряла еще в первую голодовку, испытала всякое, когда батрачила у кулаков, работала в коммуне, училась в агротехникуме, оттого и хочет, чтоб молодость Виталика не знала лишений: Лукия убеждена, что умного ребенка достаток не испортит, даже мотоцикл сыну купила, пускай катается, лишь бы только учился хорошо… Лежит сейчас, наверно, где-то там на спорыше-траве среди товарищей, среди разбросанных учебников, помахивает ногами, задумавшись над какой-то задачей, а когда уж очень устанет, тогда поднимет голову:
— Ну, антракт. Может, малость похохочем?
И кто-нибудь из хлопцев уже откликается в ответ:
— Ха!
А второй его поддержит:
— Ха! Ха!
И вскоре они уже катаются по траве от озорства, от искреннего молодого смеха. Нахохотавшись, спохватятся:
— Ну, довольно! А то уже кишки болят.
И снова примутся за работу.
Захваченная своими материнскими думами-заботами, Лукия и забыла о соседе, который застыл над баранкой, пока он сам не напомнил о себе.
— Слыхали, Лукия Назаровна? — Водитель улыбнулся, видно представив что-то потешное. — На территории нашего совхоза радиосверчок появился.
— Что, что? Какой сверчок?
— Знаете, как вот, бывает, в хате заведется: свиристит и свиристит. Вы — к нему, а его нет… Вот так и он, радиосверчок, — Федя снова улыбнулся. — И такие коленца откалывает по своей программе, что будь здоров! Вчера, к примеру, передал: «Граждане пчелы! Будьте бдительны! На улице Пузатых окопался трутень…»
— Я и не знала, что у нас такая улица есть…
— А как же! Та, что шлагбаумом перекрыта… Где Пахом Хрисанфович живет…
— Вот уж нашли пузатого. Живот к спине присох! Ходит как с креста снятый…
— Да не о нем же… Завпочтой пузатый? Пузатый! Главбух толстяк? Толстяк! Ветврач тоже на витаминах брюшко отпустил. А Яцуба, отставник наш? За хвост быка еще удержит — это же про него сказано… Ох, и бесится же он! «Чтобы какой-нибудь, говорит, сморчок, да меня в эфире трутнем обзывал? Я его и под землей найду!» И уже ищет…
Мчится автомашина. По сторонам появляются домики переселенцев — стандартные коттеджики, которыми разрастается по степи усадьба Центральная. Председателю рабочкома приходится заниматься и переселенцами. Немало усилий приложила Лукия, чтобы эти аккуратные домики наконец поднялись здесь… Скоро их будут заселять, а пока большинство переселенцев с семьями ютится у старожилов совхоза в тесноте. Только успевай улаживать конфликты между соседями… Ткачуки, старая и молодая, уже сторожат у ворот, ждут, пока Лукия подъедет, чтоб пожаловаться на какие-то новые несправедливости. Молодая — здоровая носатая молодица — работает на свиноферме и уже завоевала там уважение, а мать, хоть тоже еще не старуха, вынуждена сидеть дома — есть кого нянчить, внук на руках, его они тоже привезли с Западной Украины. Нет только отца у малыша, отец где-то скрывается от алиментов.
Лукия останавливает машину возле насупленных переселенок, выходит к ним, пытаясь разгадать, чем они на этот раз обозлены, на кого посыплются жалобы. Она уже мирила Ткачуков с их соседями Кухтиями, которые принялись было всячески выживать переселенцев со двора; после того как будто были приняты надежные предупредительные меры: чтобы не путать кур (они и были причиной ссоры), их выкрасили в разные цвета. Вот теперь и бегают по двору белые леггорны, как войско, что перемешалось на поле битвы: у одних крылышки помечены чем-то красным, а у других шейки обведены ученическими фиолетовыми чернилами… Так что ж у них еще?
— Не зря нынче курица пела… Курица завсегда поет к беде! — говорит старая переселенка.
— Что случилось? Снова соседи?
— Не от соседей нынче кривда…
Лукия заходит с женщинами в хату: грязно, воздух спертый, постель не убрана, только и веселят глаз яркие рушники на стенах. Миловидный ребенок спит в колыбели.
— Так чего же курица пела?
— А пела… Яцуба с обыском приходил… Вот как Ядзю отблагодарили за то, что из свинарника днем и ночью не вылазит!
Лукия удивлена: «Обыск? С какой стати? И по какому праву? Откуда у него такие полномочия?»
Женщины, захлебываясь, наперебой изливают ей свое возмущение. Ну да, обыскивал! Зашел, под печку заглянул, и в корзинку, и на лежанку — радио какое-то искал. Стасик (у них есть еще и Стасик, ровесник Виталика, в одном классе учатся и даже дружат), возмущенный самоуправством отставника, что-то сказал наперекор ему. И уж как они сцепились здесь, хоть людей зови на помощь! Наш ему — «бериевец», а он нашему — «бандеровец». Может, попади хлопцу что под руку, то и без греха не обошлось бы, все мог бы сделать за такую тяжкую обиду… Однажды Кухтий тоже обозвал было Стасика этим бранным словом, так мальчик всю ночь содрогался в рыданиях. Каково ему было слышать такое, когда именно бандиты-бандеровцы отца его замордовали насмерть!.. А Яцуба еще и рану растравляет. «Все вы, говорит, такие, никому из вас верить нельзя…»
«Что-то разошелся наш отставник, — с досадой думает Лукия. — Нужно вызвать на бюро да объяснить, что время произвола миновало!»
Она еще некоторое время говорит с переселенками, слушает односложные ответы молодой об отце ребенка, который снова куда-то переехал, скрываясь от алиментов, хотя его, постылого, она не хочет и разыскивать. Упрямая, гордая, видать, эта Ядзя… А старуха тем временем лопочет о своем, о том, что ей здесь «не по нутру», потому как «криницы глубокие» да «ветры лютые», из-за того она постоянно хворает.
— Скорей бы уж в новую хату, — заканчивает она певуче, а Лукия, недовольно оглядывая неубранную комнату, отвечает:
— Только не забудьте веник туда прихватить, чтобы мусор не заводился.
И переселенки поняли намек, покраснели обе от стыда, провожая ее к машине.
Надеялась Лукия застать сына дома, а увидела его еще издалека на металлической вышке, которую он сооружает с хлопцами во дворе бабки Чабанихи для телевизионной антенны. Сидит на самом верху, белеет чубчиком и что-то клепает.
 Отпустив машину, Лукия вошла во двор.
— Эй, верхолаз! Это так ты к экзаменам готовишься?
— Мама, труд облагораживает!
Кузьма Осадчий и Грицько Штереверя, которые возятся внизу у лебедки, начинают выгораживать Виталика, весело рассказывают, что он на этот раз изобрел антенну совсем особенную: ничегошеньки не ловит! Стасик-переселенец тоже здесь, сидит в сторонке, молча сверлит сверлом металл и лишь изредка посматривает на Лукию, посматривает как-то затравленно; глаза у него грустные, а голова втянута в плечи, она у него всегда так немножко втянута, словно бы ждет откуда-то удара. А сам он хлопец славный, покладистый, со склонностью к музыке, в приливе откровенности как-то стыдливо признался, что очень любит скрипку и дудку и что после переселения с гор сюда, в степи, ему еще долго по ночам слышались звуки трембиты…
Лукия с любопытством осматривает вышку. Действительно, сооружение! Всю весну хлопцы строят и никак не достроят. Последнее время и вовсе работа прекратилась из-за недостатка материалов — все, что только можно было использовать из утиля, который валяется возле мастерских, уже использовано — целыми секциями таскала оттуда бригада Виталия сваренные автогеном ржавые трубы и угольники от старых культиваторов. Вышка высоченная, когда разгулялся сильный ветер, ее стало раскачивать, и была угроза, что упадет и хату старой Чабанихи развалит. Сбежались сюда любопытные посмотреть, что будет с вышкой, а хлопцы и при таком ветре клепали, спасая свое сооружение, крепили болты, связывали узлы покрепче. Теперь, чтобы было надежнее, они натянули тросы, закрепили их для оттяжки, и вышка стоит, распятая на них, будто мачта корабельная. Внутри вышки проходит труба длиннющая, и где-то там, вверху, на конце трубы, узором застыла сама антенна.
Виталик, спустившись с вышки, показывает матери все, что, по его мнению, должно ошеломить ее:
— Смотри, мама, вот это лебедка и трос: нужно выше поднять антенну — пожалуйста! Нужно ниже — даем ниже… Хочешь повернуть антенну? Поворачиваешь трубу и вместе с нею, вот так, поворачиваешь антенну…
— Поворачивай, да на Яцубу оглядывайся, — шутит Осадчий. — Он подскажет, что можно ловить, а что нельзя.
— А это вот стержневая труба, — словно бы не слыша, объясняет дальше Виталик. — Стальную раздобыли у бурильщиков, потому что простую водопроводную ветер сгибает. А сама антенна, знаешь, мама, из чего она?
— Из чего же?
— Из старого генератора… Медь! — восклицает он и видно, что все это ему небезразлично.
Затея ребят и в самом деле заинтересовывает Лукию — мастера, да и только! Она и не представляла себе, что здесь такой размах… Еще сын объясняет ей, почему их башня высокая: низкая здесь не примет, хотя и степь. Буря? Теперь и буря не страшна, все сооружение надежно закреплено: в них, в этих тросах, вся сила, вся мощь против ветра. Почему так много антенн? Ее вопрос смешит Виталия.
— Антенна, мама, одна, а то — приемные рамки! Чем больше их, тем чище она принимает.
Лукия чувствует, что Виталий просто счастлив своей работой, своей башней.
— Будет как Эйфелева, — говорит он.
Рада Лукия за сына и его друзей, приятно ей знать, что эта смонтированная из разного утиля «Эйфелева башня» расширит мир для старой Чабанихи — для того и строится, чтобы могла старуха по вечерам видеть на маленьком экране те далекие моря, где плавает ее сын, капитан дальнего плавания. Виталик с капитаном в давней дружбе, и эта башня сооружается — Лукии хорошо известно — не только из уважения к матери капитана, но словно бы и в его, капитана, честь. А где же старушка? Ага, вон за хатой, на пасеке!.. За хатой у Дорошенчихи несколько ульев стоит среди кустов винограда, и сейчас старуха суетится там, между ульями, в сетке металлической, что, подобно парандже, закрывает все лицо и придает Чабанихе несколько зловещий вид.
— Салют космонавту! — говорит Виталик, когда старуха выходит из виноградника в своем скафандре и направляется к ним.
Подошла к Лукии, сняла сетку, стала без нее доброй, улыбающейся.
— Все потешается над бабкой Виталик. Уже и бабка ему космонавт… Ну, а ты, Лукия, не брани его, что все здесь да здесь… Кто же без него наладит? Целый вечер сижу, а в том окошечке только волны да волны бегут…
Лукии известна эта страсть Чабанихи — каждый вечер сторожить перед экраном телевизора, до поздней ночи может она неподвижно смотреть на слепые волны света, которые текут, бегут, мелькают без конца — пускай бегут, а старуха сидит да ждет чего-то, ждет, видно, что вот-вот среди этих волн появится родное лицо сына — капитана Дорошенко!
С таинственным видом старуха отзывает Лукию в сторонку.
— Приезжает же… Я вот ему и медку хочу собрать…
Лукия чувствует, как буйная горячая волна обдает ее. Ни с того ни с сего зарделась перед старухой, чувствует, как пылают щеки, и оттого совсем теряется, как девушка.
— Когда он приезжает?
— Про день еще не пишет…
— Что же, рады будем, — говорит Лукия с напускным спокойствием и, позвав Виталика обедать, быстро уходит со двора.
Затейливыми узорами легли на дорогу тени акаций. Лукия торопливо шагает по этим узорам, ощущая, как внутренний огонь жжет щеки.
Сбоку из зарослей сада ее окликает настороженный, сдержанно-властный голос:
— Лукия!
Опершись локтями на зубчатый забор, стоит Яцуба. Лицо аскета, вытянутое, закостенелое. Голодная длинная шея с выпятившимся кадыком. Голова топорщится серой, как сталь, сединой… Взгляд глубоко запавших темных глаз тяжелый, сверлящий. Сколько знает Лукия Яцубу, всегда в этих глазах что-то тяжелое, тревожно-напряженное, будто человек все время ждет беды.
Отпустив машину, Лукия вошла во двор.
— Эй, верхолаз! Это так ты к экзаменам готовишься?
— Мама, труд облагораживает!
Кузьма Осадчий и Грицько Штереверя, которые возятся внизу у лебедки, начинают выгораживать Виталика, весело рассказывают, что он на этот раз изобрел антенну совсем особенную: ничегошеньки не ловит! Стасик-переселенец тоже здесь, сидит в сторонке, молча сверлит сверлом металл и лишь изредка посматривает на Лукию, посматривает как-то затравленно; глаза у него грустные, а голова втянута в плечи, она у него всегда так немножко втянута, словно бы ждет откуда-то удара. А сам он хлопец славный, покладистый, со склонностью к музыке, в приливе откровенности как-то стыдливо признался, что очень любит скрипку и дудку и что после переселения с гор сюда, в степи, ему еще долго по ночам слышались звуки трембиты…
Лукия с любопытством осматривает вышку. Действительно, сооружение! Всю весну хлопцы строят и никак не достроят. Последнее время и вовсе работа прекратилась из-за недостатка материалов — все, что только можно было использовать из утиля, который валяется возле мастерских, уже использовано — целыми секциями таскала оттуда бригада Виталия сваренные автогеном ржавые трубы и угольники от старых культиваторов. Вышка высоченная, когда разгулялся сильный ветер, ее стало раскачивать, и была угроза, что упадет и хату старой Чабанихи развалит. Сбежались сюда любопытные посмотреть, что будет с вышкой, а хлопцы и при таком ветре клепали, спасая свое сооружение, крепили болты, связывали узлы покрепче. Теперь, чтобы было надежнее, они натянули тросы, закрепили их для оттяжки, и вышка стоит, распятая на них, будто мачта корабельная. Внутри вышки проходит труба длиннющая, и где-то там, вверху, на конце трубы, узором застыла сама антенна.
Виталик, спустившись с вышки, показывает матери все, что, по его мнению, должно ошеломить ее:
— Смотри, мама, вот это лебедка и трос: нужно выше поднять антенну — пожалуйста! Нужно ниже — даем ниже… Хочешь повернуть антенну? Поворачиваешь трубу и вместе с нею, вот так, поворачиваешь антенну…
— Поворачивай, да на Яцубу оглядывайся, — шутит Осадчий. — Он подскажет, что можно ловить, а что нельзя.
— А это вот стержневая труба, — словно бы не слыша, объясняет дальше Виталик. — Стальную раздобыли у бурильщиков, потому что простую водопроводную ветер сгибает. А сама антенна, знаешь, мама, из чего она?
— Из чего же?
— Из старого генератора… Медь! — восклицает он и видно, что все это ему небезразлично.
Затея ребят и в самом деле заинтересовывает Лукию — мастера, да и только! Она и не представляла себе, что здесь такой размах… Еще сын объясняет ей, почему их башня высокая: низкая здесь не примет, хотя и степь. Буря? Теперь и буря не страшна, все сооружение надежно закреплено: в них, в этих тросах, вся сила, вся мощь против ветра. Почему так много антенн? Ее вопрос смешит Виталия.
— Антенна, мама, одна, а то — приемные рамки! Чем больше их, тем чище она принимает.
Лукия чувствует, что Виталий просто счастлив своей работой, своей башней.
— Будет как Эйфелева, — говорит он.
Рада Лукия за сына и его друзей, приятно ей знать, что эта смонтированная из разного утиля «Эйфелева башня» расширит мир для старой Чабанихи — для того и строится, чтобы могла старуха по вечерам видеть на маленьком экране те далекие моря, где плавает ее сын, капитан дальнего плавания. Виталик с капитаном в давней дружбе, и эта башня сооружается — Лукии хорошо известно — не только из уважения к матери капитана, но словно бы и в его, капитана, честь. А где же старушка? Ага, вон за хатой, на пасеке!.. За хатой у Дорошенчихи несколько ульев стоит среди кустов винограда, и сейчас старуха суетится там, между ульями, в сетке металлической, что, подобно парандже, закрывает все лицо и придает Чабанихе несколько зловещий вид.
— Салют космонавту! — говорит Виталик, когда старуха выходит из виноградника в своем скафандре и направляется к ним.
Подошла к Лукии, сняла сетку, стала без нее доброй, улыбающейся.
— Все потешается над бабкой Виталик. Уже и бабка ему космонавт… Ну, а ты, Лукия, не брани его, что все здесь да здесь… Кто же без него наладит? Целый вечер сижу, а в том окошечке только волны да волны бегут…
Лукии известна эта страсть Чабанихи — каждый вечер сторожить перед экраном телевизора, до поздней ночи может она неподвижно смотреть на слепые волны света, которые текут, бегут, мелькают без конца — пускай бегут, а старуха сидит да ждет чего-то, ждет, видно, что вот-вот среди этих волн появится родное лицо сына — капитана Дорошенко!
С таинственным видом старуха отзывает Лукию в сторонку.
— Приезжает же… Я вот ему и медку хочу собрать…
Лукия чувствует, как буйная горячая волна обдает ее. Ни с того ни с сего зарделась перед старухой, чувствует, как пылают щеки, и оттого совсем теряется, как девушка.
— Когда он приезжает?
— Про день еще не пишет…
— Что же, рады будем, — говорит Лукия с напускным спокойствием и, позвав Виталика обедать, быстро уходит со двора.
Затейливыми узорами легли на дорогу тени акаций. Лукия торопливо шагает по этим узорам, ощущая, как внутренний огонь жжет щеки.
Сбоку из зарослей сада ее окликает настороженный, сдержанно-властный голос:
— Лукия!
Опершись локтями на зубчатый забор, стоит Яцуба. Лицо аскета, вытянутое, закостенелое. Голодная длинная шея с выпятившимся кадыком. Голова топорщится серой, как сталь, сединой… Взгляд глубоко запавших темных глаз тяжелый, сверлящий. Сколько знает Лукия Яцубу, всегда в этих глазах что-то тяжелое, тревожно-напряженное, будто человек все время ждет беды.
 Переждав, пока Виталик отдалился, Яцуба с суровой доверительностью наклоняется к Рясной:
— Следи за сыном, Лукия.
Глаза его словно бы делаются еще глубже, загораются каким-то тяжким блеском, и Лукия невольно вспоминает, что в молодости, когда Яцуба еще разрушал церкви в этих краях, его называли «фанатом». Уже был он почти забыт людьми, как вдруг, выйдя в отставку, снова появился в совхозе с намерением навсегда осесть здесь. Лукия вспоминает, как пришел их «фанат» в дирекцию требовать для себя работы, «соответствующей» работы, как подчеркнул он. «Что же ты умеешь делать?» — спросила она, и он даже обиделся: «Я умею держать людей в руках». И хотя дали ему тогда полезное дело — пожарную охрану, он, однако, считает, что этого для него недостаточно.
— Чем мой сын провинился?
— По-дружески советую тебе, Лукия: следи. Школьник, а уже на мотоцикле девку по степи катает…
— А от меня тебе, Григорий, тоже совет: брось самоуправство. От беззакония пора отвыкать.
— Это о чем ты?
— Бродить по хатам, обыски устраивать у людей — кто тебе дал право на это? Кто тебя уполномочил?
— Но никто и не говорил, что нужно о бдительности забыть.
— Всех подозреваешь… Уймись ты наконец.
— Вот как! Стало быть, не нужен? В тираж Яцубу? — Грозный баритон его набирал силу.
На громкий Яцубин голос прибежал серый породистый пес: высунул голову над забором, лапы положил на ограду — совсем как человек!
Переждав, пока Виталик отдалился, Яцуба с суровой доверительностью наклоняется к Рясной:
— Следи за сыном, Лукия.
Глаза его словно бы делаются еще глубже, загораются каким-то тяжким блеском, и Лукия невольно вспоминает, что в молодости, когда Яцуба еще разрушал церкви в этих краях, его называли «фанатом». Уже был он почти забыт людьми, как вдруг, выйдя в отставку, снова появился в совхозе с намерением навсегда осесть здесь. Лукия вспоминает, как пришел их «фанат» в дирекцию требовать для себя работы, «соответствующей» работы, как подчеркнул он. «Что же ты умеешь делать?» — спросила она, и он даже обиделся: «Я умею держать людей в руках». И хотя дали ему тогда полезное дело — пожарную охрану, он, однако, считает, что этого для него недостаточно.
— Чем мой сын провинился?
— По-дружески советую тебе, Лукия: следи. Школьник, а уже на мотоцикле девку по степи катает…
— А от меня тебе, Григорий, тоже совет: брось самоуправство. От беззакония пора отвыкать.
— Это о чем ты?
— Бродить по хатам, обыски устраивать у людей — кто тебе дал право на это? Кто тебя уполномочил?
— Но никто и не говорил, что нужно о бдительности забыть.
— Всех подозреваешь… Уймись ты наконец.
— Вот как! Стало быть, не нужен? В тираж Яцубу? — Грозный баритон его набирал силу.
На громкий Яцубин голос прибежал серый породистый пес: высунул голову над забором, лапы положил на ограду — совсем как человек!
 Лукия ушла, не дослушав Яцубу.
Дома у нее тишина, бархатистый мотылек приник к двери, в комнатах солнечно и почти пусто — попробуй здесь купить путную мебель! В самой большой комнате стол да диван и, как всегда, беспорядок, всюду журналы «Радио», книжки и Виталиковы шурупы. На кухне, правда, чистенько, а обед не очень роскошный: утром только и успела приготовить борщ (доваривать его должен был уже Виталик).
— Борщ доварен, — докладывает сын. — А на второе у нас будет… салат! — И он бежит в огород за салатом.
— Попробуем, что тут у тебя вышло, — сама себе улыбается Лукия, наливая борщ в тарелки.
Обедают на веранде. И хотя борщ у Виталика совсем разварился, да еще и пересолен, но оба охотно его хлебают, мать даже похваливает, так что Виталий, ободрившись, заявляет решительно:
— Ей-ей, пойду учиться на кока! Есть такое училище в Симферополе… Кок дальнего плавания, это же дело?
Она воспринимает его слова только как шутку. Ведь настоящая его дорога — в институт, в кораблестроительный, это она решила раньше него. Осенью Виталик будет студентом… Сын — студент, даже самой не верится. А покамест сидит перед нею за столом просто мальчонка сероглазый, лицо обветрено и губы детские, еще никем не целованные, хотя вот этого она наверняка и не знает… Следить? А может, больше доверять — это лучше?
Она любит смотреть на сына, любит слушать его шутки, в которых искрится ум; Лукия чувствует, что и сама она сейчас, несмотря на стычку с Яцубой, чем-то удивительно ободрена. И душа будто молодеет… То ли сын радует, то ли еще и… тот приезд? Хотя подумать, что ей от того, что капитан приезжает? Ведь есть такое в жизни, чего не вернешь. Это только степь даже после черной бури ярко зацветает по весне дикими тюльпанами, разливается за горизонт океаном красоты…
Приедет… Как за утренними туманами проступает в светлеющем небе утренняя заря, так проступает сейчас в воспоминаниях Лукии о далеких годах юности то, что когда-то связывало ее с капитаном. Был он тогда, правда, еще не капитаном, а молодым штурманом Черноморского флота. И в один из его приездов взошла та звезда, которая еще и до сих пор светит и, наверное, будет светить Лукии до конца жизни. Словно вчера было, так отчетливо помнит Лукия, как ее позвали:
— Приходите в рай!
А «рай» у степняка — это когда ребенок родится; тогда у людей в хате и в самом деле как в раю, и они зовут на радостях гостей. И вот Лукия пришла к трактористу Мамайчуку, у которого сын родился, и увидела там молодого Дорошенко в штурманской форме, с ласковой голубизной в глазах. Была и она тогда молодой, незадолго перед тем приехала сюда после агротехникума…
Веселье затянулось, Дорошенко провожал ее домой. Ночь была лунная, светлая. Они остановились на школьной площадке у турника, и Лукия, веселая, хмельная, все пыталась допрыгнуть, ухватиться за металлическую перекладину. Он помог ей достать до турника, и она качалась и смеялась от полноты счастья, а Дорошенко стоял сбоку, смотрел на нее и тоже смеялся.
— Ой, падаю!.. Ой, упаду! — кажется, что-то такое она крикнула тогда, и до сих пор помнит, как штурман подхватил ее на руки и нежно, деликатно поставил на землю.
Несколько вечеров провела она тогда с Иваном. Это были самые счастливые часы ее жизни. И никогда уже после того не было таких ясных, таких бесконечно лунных ночей! Допоздна бродили они по совхозным околицам, заходили далеко в степь и возвращались домой, когда все уже в совхозе спали, и темные заросли совхозного парка встречали их ночной росой. Кто мог подумать тогда, что эти вечера будут для них и прощанием, что останутся они потом друзьями на всю жизнь, но уже никогда вслух даже не вспомнят ни о том счастливом турнике, ни о ясных ночах лунных, когда бродили они в песнях да в туманах!..
К тому времени Дорошенко был уже связан браком, у нее тоже жизнь сложилась по-своему: войну Лукия встретила замужней женщиной с ребенком, хорошенькой дочуркой, которая потом, в годы лихолетья, так у нее на руках и угасла, как свечка, под открытым моросящим небом на одной из заволжских станций. Муж ее, совхозный комбайнер, в это время уже был на фронте. И увидела она его только через три года, когда возвратилась из эвакуации домой, а он приехал из госпиталя долечиваться после ранения. Было это раннею весной, в растаявшем черноземе всюду торчали немецкие танки, погрузившиеся по брюхо в грязь, из всего хозяйства в совхозе сохранилось лишь несколько шелудивых, подобранных на фронтовых дорогах лошаденок, в каждом доме гнездились нищета и неуютность, и вот в это время вернулся из госпиталя ее муж. Раньше у них жизнь как-то не клеилась, он был не в меру ревнивым — даже на расстоянии ревновал к моряку и совсем чужим мужчинам, каждая ее поездка в район вызывала у него подозрение: подчас Лукии казалось, что разрыв неминуем. А тут было какое-то возрождение — возможно, потому, что и он настрадался, и она нагоревалась одна, и когда настало время снова провожать его на фронт, то разлука была тяжелее, чем в первый раз, будто предчувствовала Лукия, что теперь он уйдет и не вернется. Последнее письмо прибыло откуда-то из Венгрии. Муж писал, что лежат они в грязи среди осенних виноградников, уже вечереет, туман и изморось вокруг, и видна ему только скирда мадьярской соломы средь поля да винодельня, которую нужно к утру взять… Мадьярские виноградники, скирда, туман — это был тот мир, который он видел последним. Больше писем не было, а она родила мальчика и назвала Виталием. И вот теперь он заканчивает десятый класс. Сыном, его будущим наполнена вся ее жизнь. Подлинным счастьем стало для Лукии видеть его веселую молодость — собственная молодость прошла как сон, промелькнула так быстро, что порою даже странно становится: в самом ли деле все это было — и девичество, и тот светлый рай-гулянка у молодого тракториста Мамайчука, который теперь мотается без ног по совхозу на скрежещущих — душу режет! — колесиках…
После войны снова стал приезжать Иван (теперь он уже был капитаном дальнего плавания). И хотя он стал к этому времени одиноким — его семья погибла в море во время эвакуации на Кавказ, — к прошлому Лукия теперь не могла вернуться. С живым развестись могла бы, но с погибшим…
— Нет, Иван, — сказала она как-то, когда речь зашла об этом. — Моя судьба на войне убита.
И больше они к этому не возвращались.
Однако с каждым приездом капитана на нее словно бы ветром молодости веет, и сын вот уже замечает зарево материнских щек… Чтобы избежать расспросов, мать первой переходит в наступление:
— Говорят, ты вчера с кем-то на мотоцикле носился по степи? Что это значит?
— Я совершил большой грех?
— Грех не грех, а во время экзаменов… Знай я, получил бы ты у меня мотоцикл!
— Что ты, мама! Мотоцикл на то и изобретен, чтобы на нем ездить, мчаться, лететь, давать самую высокую скорость… Это же просто здорово: руль да два колеса, а само едет, не едет — летит! Представляешь, если бы на таком да влететь куда-нибудь… и очутиться, скажем, среди шатров древних скифов! Появиться вдруг между их кибитками на деревянных колесах! Цари, кони-тарпаны, гепарды — все перед тобою врассыпную!
— Что такое гепарды?
— Это, мама, дикие обученные кошки… С ними на охоту ходили в степях; может, как раз здесь, где мы с тобой обедаем, гепард раздирал свою добычу. И вот на новеньком мотоцикле — да в этот палеолит… Сколько было бы удивления, переполоха! Богом бы сочли, не иначе!
— Еще был бы, пожалуй, и культ твоей личности? — невольно улыбнулась Лукия его фантазии.
— О, без этого не обошлось бы!.. Ну, я хоть кое-чему полезному их научил бы: вот это вам, товарищи скифы, наука алгебра. А это вам теория Эйнштейна. А это мудрейшая наука — не играть с огнем, жить на планете без глобального хулиганства… Ну, конечно, я им радио открыл бы…
— Хватит фантазировать, — оборвала Лукия, убирая посуду со стола. — Садись за книжки. Зубри!
— Мама, эпоха зубрежки миновала. Я не начетчик.
— Смотри ты, как заговорил! — Лукия подошла и села возле сына, рассматривая его даже удивленно. — Это что-то новое, дружок. Зубрить не хочешь. Может, и учиться не желаешь?
— Учиться хочу, но по-настоящему.
— Как это по-настоящему?
— Не по катехизисам. Не по-бурсацки. А так, чтобы своим умом до всего доходить, больше собственным котелком варить…
— Это, конечно, хорошо. Котелок твой варит, других критиковать уже умеешь, а вот сам-то как будешь жить? Чего ты хочешь от жизни?
— Не так уж много: просто жить, работать, как все. Хочу, чтобы вранья от меня не требовали, очень не люблю вранья. Не хочу голодовок, про которые ты рассказывала, войны не хочу, арестов, тюрем… Работать — это да! Труд — мой бог, его люблю.
— Так вот и работай, хлопче, а не разъезжай по степи. Отныне никаких мотоциклов! Слышишь?
— Мама, ты деспот!
— Кого ты вчера по степи катал?
— Одноклассницу, мама. Не бойся, она хорошая.
— Хорошая не села бы в такое время кататься. Порядочная, видно, ветрогонка.
— Ты не имеешь права, мама, так обзывать девушку!
— Кто же хоть она?
Хлопец многозначительно улыбнулся, поняв, что ему расставили силки.
«Придет время — узнаешь», — отбился шуткой, а мать думай теперь. Ведь он же еще совсем дитя, мальчишка доверчивый, а какая-нибудь такая подвернется, что с ума сведет, забаламутит, и где уж ему тогда думать об институте, о науке… Правда, Лукия немного догадывается, кто мог его заманить на эти степные катания, но она и в мыслях даже не допускает, чтобы сыном ее верховодила эта школьная вертушка, которая из троек не вылезает, зато уже научилась хаханьки разводить со взрослыми хлопцами возле клуба.
— Выбрось все это из головы, слышишь? Рано еще!
— Тс-с!.. — настороженно поднял Виталий палец вверх.
Мать прислушалась, но ничего особенного не услышала. Только где-то за виноградными листьями веранды кузнечик тонко, монотонно стрекотал.
— «В полуденной духоте кузнечик, ошалевший от солнца, кричит…» Знаешь, кто это сказал? Товарищ Аристофан. Более двух тысяч лет тому назад… Две тысячи лет, мама, этот его кузнечик кричит!
— Ты мне зубы не заговаривай, я без твоего Аристофана кузнечиков слышала…
— А вето на мотоцикл… Это же ты, мама, пошутила?
— Нисколько. Пока не сдашь всех экзаменов, со двора выводить не смей!
Это был для хлопца удар. Ни слова после этого не промолвил. Обиженно прикусив губу, взглядом на улицу уставился, где на столбе и при дневном свете забыто сверкала электрическая лампочка.
Впервые хлопец открыто не покорился материнской воле. Не за учебники взялся, а, словно бы наперекор матери, побрел в свой угол, уставился в какую-то схему, затем стал со звоном рыться в своем радиохламе, перебирал, соединяя, какие-то провода в металлической большой коробке.
«Вот уже и поругались», — думала Лукия, но на этот раз она ошибалась: хоть и наговорила только что Виталику резких слов, хоть и жестоко наказала, запретив ездить на мотоцикле, сын, однако, не сердился, он прощал ей эту, как всегда, бурную вспышку. Разве ж хлопец не понимает, кто он для матери, разве он не способен оценить ее самоотверженную любовь? Возможно, и замуж не вышла из-за него, убежденная, что никто, даже лучший отчим, не заменил бы сыну родного отца. В душе он гордится своей матерью, ему приятно, что ее уважают рабочие. Как любил Виталик, еще мальчонкой, ждать вечером, пока она, наездившись по степным отделениям, не возвратится, накаленная солнцем, горячая, и от нее пахнет пылью, зерном, бензином, нектарным духом подсолнухов. Он так и окунался в эти запахи. Мать еще и поныне считает его мальчишкой, не принимает всерьез, для нее он просто Виталик, она словно бы не успевает понять, что он уже перерос ее представление о нем, что у него и знаний и чувств больше, чем она думает. Иногда Виталику кажется, что он понимает мать больше, глубже, чем она его. Да, за спиной у нее нелегкая жизнь со своими утратами, горестями… Он знает, на какие жертвы мать шла ради него…
Вот она сейчас хлопочет, вытирает на окнах пыль в своей комнате, где через раскрытую настежь дверь видны этажерка с книгами да высокая кровать с горой белоснежных подушек, которую мать редко и разрушает, — летом чаще всего она спит на этом диване, а Виталик во дворе, на раскладушке. Остановилась у этажерки, перебирает какие-то книжки, Виталика так и подмывает пошутить: «Мама, ты, наверно, „Блокнот агитатора“ снова перечитываешь?» Однако он промолчал, увидев: стоит она сейчас в глубокой задумчивости и на ладони у нее… белоснежный обломок коралловой ветки!
Это подарок капитана Дорошенко. Сколько удивления было в хате, когда капитан привез однажды из своих плаваний этот обломок чего-то белоснежного!.. По форме ветвистый, как рог оленя, только белоснежный. И тяжелый, будто металлом внутри налит. Кусок настоящего кораллового рифа, вот что он ей подарил! Дар океана, дар синих тропических вод…
Преподнося матери коралловую ветку, капитан сказал тогда:
— Бывают они розовые, голубые, а эта, видишь, белая… Много на таких судов погибло… Ведь это сверху цветочки, а внизу — монолит!
— Какая красота! — тихо воскликнула мать. — И это в воде растет? Белая как снег? — И стояла, будто завороженная, а капитан добавил шутливо:
— Только у нас тут пылища, черные бури, коралл у тебя быстро потемнеет… Ну, тогда выбросишь.
— Не потемнеет, — сказала она, и это было сказано с особенной интонацией, и посмотрели они друг другу в глаза тоже как-то необычно.
И в самом деле, хотя прошли с тех пор месяцы и годы, проносятся над степями пыльные черные бури, а подарок капитана все стоит в материной комнате, белоснежный и чистый, будто только что омыт океанской волной, будто только что добыт с океанского дна.
…Белеет, цветет коралловая ветка снова на этажерке, на своем постоянном месте; матери уже нет. Поправив на затылке узел тяжелых волос, она ушла со двора, не будет ее теперь до самого вечера. Поездки, заседания, конфликты, ссоры, бесконечное мотание по отделениям, где она о ком-то заботится, кого-то отчитывает, кого-то мирит — такова ее жизнь. Изо дня в день отдает себя на растерзание обыденщине, кипит в лихорадке дел, ломает голову над чьими-то хлопотами, и нет ей передышки, нет никогда покоя…
Целый вечер она будет совещаться, вести заседание рабочкома, но и там сквозь дым, сквозь заседательский чад нет-нет да и промелькнет перед ее взором образ сына: «Конечно, для тебя я деспот, конечно, тебе это кажется диким, что вот и вечером я заседаю, и речь веду о таких вещах, как валухи, да шерсть, да нормы выработки… Но как же без этого, Виталик? Без наших будней разве были бы праздники?»
А хлопец в это время бродит возле школьного виноградника, там, где недавно они с Тоней кусты подвязывали, где будто нечаянное прикосновение девичьих рук перевернуло его жизнь; потом он прошел мимо клуба, где ничего сегодня нет, мимо домика, где сестра Тони — Клава — в этот момент ссорилась со своим муженьком, а Тони нет, Тоня у родителей, и Виталий, еще немного побродив в парке, послушав чей-то влюбленный шепот в кустах, наконец возвращается домой. Жаль, что Горпищенкова кошара далеко и на мотоцикл наложено вето, — и ничего тебе не остается, как только идти вот так в одиночестве по улице Пузатых да посвистывать возле забора товарища Яцубы, где темнеет его виноградник, который со стороны поля весь обтянут колючей проволокой и напоминает в миниатюре то, что майор строил на Севере… Днем улица перекрыта шлагбаумом, а сейчас шлагбаум кто-то оттянул, и ребята из младших классов, беззвучно как летучие мыши, носятся по темной улице на велосипедах, нарочно пугая девочек-подростков, что, взявшись за руки, вольно ходят здесь и тихо напевают, и словно бы слышат уже те таинственные, возбуждающие призывы-шепоты любви, которыми полнятся заросли садов и, кажется, напоен этот вечерний воздух. Ходят девушки, трепетные, как сама юность, и, как она, слегка окутанные грустью. Идут в обнимку, и песня плывет за ними, негромкая, задумчивая, немножко грустная. Их песня-дума, и чистая ранняя грусть, и это ожидание чего-то неизведанного, манящего так гармонируют со степным покоем вечерним, и звездным простором неба, и с настроением Виталика… Мать сердится, что он не корпит над учебниками, а как он может зубрить сейчас, в такой вечер, когда все вокруг поет и сам он полон чувства нового, ранее не изведанного. Как после черной бури, когда весенняя степь пламенеет до самых горизонтов дикими тюльпанами и будто вся планета цветет красотой, так сейчас на душе у Виталика. Все стало второстепенным, неважным в сравнении с тем, что он приобрел, что у него есть теперь в жизни — Тоня.
Экзамены? Они его не беспокоят. Медаль отличника? Луна на небе — вот его медаль. У каждого человека, наверно, есть своя белая коралловая ветка, раньше или позже, а каждый находит ее, и вот он тоже нашел… Если бы только Тоня была сейчас здесь, рядом с ним! Не попала ли она после вчерашнего катания под домашний арест? Сидит да зубрит девчонка в своей чабанской ссылке, а он еще и до сих пор будто летит на мотоцикле, чувствует на себе ее горячие руки, слышит смех ее серебристый, заливистый, до сих пор ощущает на губах огонь ее поцелуя, которым она обожгла его там, на винограднике… Остановившись, Виталик сам себе улыбается в потемках, видит руку девичью смуглую, что так нежно подвязывает широколистый куст чауша-винограда… Живая, шустрая такая — от куста к кусту, куст за кустом обнимает… Смотрел бы не насмотрелся,как она делает что-нибудь или просто улицей идет: лицо поднято, грудь вперед и руками широко размахивает, аж за спину залетают. И походка такая же размашистая, упругая.
Брезентовая раскладушка ждет своего хозяина в саду. Виталик расставил ее, опробовал, прилег. Ветерок, сорвавшись, нежно шелестит листьями вверху, и среди листьев то и дело сверкает девичья, чуть-чуть лукавая улыбка. Спать? Как можно спать в такую ночь? Звездная высота притягивает взор, как тогда, когда Тоня закричала на всю улицу: «Спутник! Вон он!» И никто в совхозе не спал, в самой природе было что-то необычайное, со всех дворов смотрели, как вдруг появился в небе светлячок, появился и движется прямо по небу, ритмично поблескивая…
О чем бы ни думал, а перед глазами Тоня… Ну пускай и учится кое-как, из троек не вылезает, а разве всем непременно нужно пятерки хватать? Зато она целый год вожатой в третьем «Б». И как малыши ее любят, гурьбой ходят за ней!.. Лучшая девушка на свете! У него и сейчас кровь жарко горит, душа тает от счастья; и он снова видит перед собой те смуглые руки, которые словно бы впервые увидел сквозь куст винограда, и глаз, живой, веселый, орехово-карий, что так светло и доверчиво улыбался ему между листьев; уже не мог бы Виталик теперь поверить ни единому злому слову о ней, о ее легковесной щедрости в чувствах, о способности влюбляться едва ли не в каждого встречного… Кого угодно за такое оборвал бы, заставил умолкнуть! Тот глаз, сверкавший сквозь виноград на него, не мог бы ни на кого другого с такой нежностью смотреть — в этом он уверен.
Ну, как же ты там, Тоня? Может, припугнутая отцом, сидишь и зубришь, а может, украдкой у приемника ловишь музыку — это больше на тебя похоже! Или, быть может, слушаешь вместо музыки сухие директорские распоряжения, которые передает на отделения в этот момент Сашко Литвиненко? Взять бы да шепнуть в микрофон Тоне что-нибудь, одно имя ее, прошелестеть, как ветерок, что по верхушке яблони пробежал. Шепнешь, а она там в чабанской своей бригаде уже слышит тебя; не может же быть, чтобы она спала в такую ночь! И если у тебя есть хоть кое-как слепленный, но честно, своими руками сделанный передатчик, работающий на частоте одному тебе известных мегагерц, то…
Соскочив с раскладушки, Виталик в три прыжка пересекает двор, вбегает на веранду. Вот он уже в комнате, включает свет, бросается в свой заваленный радиохламом уголок, и через некоторое время весь звездный степной эфир принимает взволнованные, нежностью налитые слова:
— Той, которая меня слышит!.. Той, что лучше всех на свете… Тоня! Слушай меня!
А через некоторое время в накуренное, задымленное цигарками помещение рабочкома вбегает запыхавшаяся семиклассница Нина Чумак и с порога бросается к Рясной:
— Тетка Лукия, скорее домой!.. Виталик ваш… за… за… запеленгован!!!
Не чуя под собой ног, примчалась Лукия домой. Стоит чей-то «газик», во дворе гомон, во всех окнах свет горит, в открытых настежь дверях видны фигуры военных, и между ними торчит стриженная под ежик голова Яцубы в стальной седине.
— Так вот, милейший, — слышит она баритон Яцубы, и в ответ ему откуда-то из угла звенит протестующе:
— Не называйте меня «милейший»!
— А кто же ты есть? — И, заметив Лукию или, быть может, просто ощутив на себе пламя ее гнева, Яцуба оборачивается к ней: — Вот, полюбуйся на своего… Настоящий радионарушитель, хотя и несовершеннолетний… Он со своими штучками в эфир… Ну, а мы его, голубчика, и запеленговали.
— Не так вы, как мы, — поправил Яцубу офицер с полигона и улыбнулся своим товарищам, которые окружали Виталика, но, видно, вовсе не собирались хватать да вязать этого нарушителя.
Кое-кого из военных Лукия знала в лицо, ведь не раз они появлялись в совхозе на запыленном «газике», а с их старшим она встречалась на шефских собраниях. Теперь все они были официальными, исполненными сознания своих прав, — постороннее вторжение в эфир не могли никому разрешить, — но их загорелые лица снова озарились улыбками, когда они, наклонившись, стали рассматривать передатчик Виталия, примитивное кустарное сооружение в грубой коробке, которая, однако, давала возможность хозяину посылать слова привета и музыку в степь той, недостижимой для других девушке Тоне.
— Акт составлен. А это мы конфискуем, — говорит Яцуба и обеими руками берет со стола Виталиков передатчик.
— Поставь на место, — остановила Яцубу Лукия.
— Нет, прости, милейшая, конфискуем, — с ударением повторил Яцуба, нацелив на нее черные сверкающие скважины глаз. — Если уж ты малолетку разрешаешь любовные шуры-муры, то пускай себе на мотоцикле и мчится на свидание, а эфир засорять посторонними словами… нет, шалишь, парень!.. Много ты, Лукия, своему малолетку позволяешь! Любовные шуры-муры по радио разводить, эфир засорять никому не позволим!
Лукия посмотрела на сына: «Это правда?»
«Да, он говорит правду, — открытым взглядом ответил ей сын, — я обращался к ней через эфир, я говорил ей слова любви, и этот передатчик еще полон моей нежности, моих признаний…»
Яцуба, нагруженный вещественным своим доказательством, сделал было шаг к порогу, но Лукия преградила ему путь, приблизилась почти вплотную к его худому, по-волчьи вытянутому лицу — чуть не обожгла его пылающими щеками.
— Дай сюда!
И не успел Яцуба опомниться, как Лукия выдернула передатчик у него из рук и со всего размаха трахнула об пол.
Это был конец. Разбежались понятые, поспешили попрощаться военные. Их «газик» как-то даже весело рванул от двора, сделал разворот возле конторы, поднял пыль на улице Пузатых и пропал в степи.
Все затихло. Прошло немного времени, и свет погас в окнах Лукии, но долго еще и после этого — мать из темноты веранды, а сын со своей раскладушки в саду — слышали, как ровно, неутомимо стрекочет где-то в кустах кузнечик, тот самый, которому две тысячи лет…
Лукия ушла, не дослушав Яцубу.
Дома у нее тишина, бархатистый мотылек приник к двери, в комнатах солнечно и почти пусто — попробуй здесь купить путную мебель! В самой большой комнате стол да диван и, как всегда, беспорядок, всюду журналы «Радио», книжки и Виталиковы шурупы. На кухне, правда, чистенько, а обед не очень роскошный: утром только и успела приготовить борщ (доваривать его должен был уже Виталик).
— Борщ доварен, — докладывает сын. — А на второе у нас будет… салат! — И он бежит в огород за салатом.
— Попробуем, что тут у тебя вышло, — сама себе улыбается Лукия, наливая борщ в тарелки.
Обедают на веранде. И хотя борщ у Виталика совсем разварился, да еще и пересолен, но оба охотно его хлебают, мать даже похваливает, так что Виталий, ободрившись, заявляет решительно:
— Ей-ей, пойду учиться на кока! Есть такое училище в Симферополе… Кок дальнего плавания, это же дело?
Она воспринимает его слова только как шутку. Ведь настоящая его дорога — в институт, в кораблестроительный, это она решила раньше него. Осенью Виталик будет студентом… Сын — студент, даже самой не верится. А покамест сидит перед нею за столом просто мальчонка сероглазый, лицо обветрено и губы детские, еще никем не целованные, хотя вот этого она наверняка и не знает… Следить? А может, больше доверять — это лучше?
Она любит смотреть на сына, любит слушать его шутки, в которых искрится ум; Лукия чувствует, что и сама она сейчас, несмотря на стычку с Яцубой, чем-то удивительно ободрена. И душа будто молодеет… То ли сын радует, то ли еще и… тот приезд? Хотя подумать, что ей от того, что капитан приезжает? Ведь есть такое в жизни, чего не вернешь. Это только степь даже после черной бури ярко зацветает по весне дикими тюльпанами, разливается за горизонт океаном красоты…
Приедет… Как за утренними туманами проступает в светлеющем небе утренняя заря, так проступает сейчас в воспоминаниях Лукии о далеких годах юности то, что когда-то связывало ее с капитаном. Был он тогда, правда, еще не капитаном, а молодым штурманом Черноморского флота. И в один из его приездов взошла та звезда, которая еще и до сих пор светит и, наверное, будет светить Лукии до конца жизни. Словно вчера было, так отчетливо помнит Лукия, как ее позвали:
— Приходите в рай!
А «рай» у степняка — это когда ребенок родится; тогда у людей в хате и в самом деле как в раю, и они зовут на радостях гостей. И вот Лукия пришла к трактористу Мамайчуку, у которого сын родился, и увидела там молодого Дорошенко в штурманской форме, с ласковой голубизной в глазах. Была и она тогда молодой, незадолго перед тем приехала сюда после агротехникума…
Веселье затянулось, Дорошенко провожал ее домой. Ночь была лунная, светлая. Они остановились на школьной площадке у турника, и Лукия, веселая, хмельная, все пыталась допрыгнуть, ухватиться за металлическую перекладину. Он помог ей достать до турника, и она качалась и смеялась от полноты счастья, а Дорошенко стоял сбоку, смотрел на нее и тоже смеялся.
— Ой, падаю!.. Ой, упаду! — кажется, что-то такое она крикнула тогда, и до сих пор помнит, как штурман подхватил ее на руки и нежно, деликатно поставил на землю.
Несколько вечеров провела она тогда с Иваном. Это были самые счастливые часы ее жизни. И никогда уже после того не было таких ясных, таких бесконечно лунных ночей! Допоздна бродили они по совхозным околицам, заходили далеко в степь и возвращались домой, когда все уже в совхозе спали, и темные заросли совхозного парка встречали их ночной росой. Кто мог подумать тогда, что эти вечера будут для них и прощанием, что останутся они потом друзьями на всю жизнь, но уже никогда вслух даже не вспомнят ни о том счастливом турнике, ни о ясных ночах лунных, когда бродили они в песнях да в туманах!..
К тому времени Дорошенко был уже связан браком, у нее тоже жизнь сложилась по-своему: войну Лукия встретила замужней женщиной с ребенком, хорошенькой дочуркой, которая потом, в годы лихолетья, так у нее на руках и угасла, как свечка, под открытым моросящим небом на одной из заволжских станций. Муж ее, совхозный комбайнер, в это время уже был на фронте. И увидела она его только через три года, когда возвратилась из эвакуации домой, а он приехал из госпиталя долечиваться после ранения. Было это раннею весной, в растаявшем черноземе всюду торчали немецкие танки, погрузившиеся по брюхо в грязь, из всего хозяйства в совхозе сохранилось лишь несколько шелудивых, подобранных на фронтовых дорогах лошаденок, в каждом доме гнездились нищета и неуютность, и вот в это время вернулся из госпиталя ее муж. Раньше у них жизнь как-то не клеилась, он был не в меру ревнивым — даже на расстоянии ревновал к моряку и совсем чужим мужчинам, каждая ее поездка в район вызывала у него подозрение: подчас Лукии казалось, что разрыв неминуем. А тут было какое-то возрождение — возможно, потому, что и он настрадался, и она нагоревалась одна, и когда настало время снова провожать его на фронт, то разлука была тяжелее, чем в первый раз, будто предчувствовала Лукия, что теперь он уйдет и не вернется. Последнее письмо прибыло откуда-то из Венгрии. Муж писал, что лежат они в грязи среди осенних виноградников, уже вечереет, туман и изморось вокруг, и видна ему только скирда мадьярской соломы средь поля да винодельня, которую нужно к утру взять… Мадьярские виноградники, скирда, туман — это был тот мир, который он видел последним. Больше писем не было, а она родила мальчика и назвала Виталием. И вот теперь он заканчивает десятый класс. Сыном, его будущим наполнена вся ее жизнь. Подлинным счастьем стало для Лукии видеть его веселую молодость — собственная молодость прошла как сон, промелькнула так быстро, что порою даже странно становится: в самом ли деле все это было — и девичество, и тот светлый рай-гулянка у молодого тракториста Мамайчука, который теперь мотается без ног по совхозу на скрежещущих — душу режет! — колесиках…
После войны снова стал приезжать Иван (теперь он уже был капитаном дальнего плавания). И хотя он стал к этому времени одиноким — его семья погибла в море во время эвакуации на Кавказ, — к прошлому Лукия теперь не могла вернуться. С живым развестись могла бы, но с погибшим…
— Нет, Иван, — сказала она как-то, когда речь зашла об этом. — Моя судьба на войне убита.
И больше они к этому не возвращались.
Однако с каждым приездом капитана на нее словно бы ветром молодости веет, и сын вот уже замечает зарево материнских щек… Чтобы избежать расспросов, мать первой переходит в наступление:
— Говорят, ты вчера с кем-то на мотоцикле носился по степи? Что это значит?
— Я совершил большой грех?
— Грех не грех, а во время экзаменов… Знай я, получил бы ты у меня мотоцикл!
— Что ты, мама! Мотоцикл на то и изобретен, чтобы на нем ездить, мчаться, лететь, давать самую высокую скорость… Это же просто здорово: руль да два колеса, а само едет, не едет — летит! Представляешь, если бы на таком да влететь куда-нибудь… и очутиться, скажем, среди шатров древних скифов! Появиться вдруг между их кибитками на деревянных колесах! Цари, кони-тарпаны, гепарды — все перед тобою врассыпную!
— Что такое гепарды?
— Это, мама, дикие обученные кошки… С ними на охоту ходили в степях; может, как раз здесь, где мы с тобой обедаем, гепард раздирал свою добычу. И вот на новеньком мотоцикле — да в этот палеолит… Сколько было бы удивления, переполоха! Богом бы сочли, не иначе!
— Еще был бы, пожалуй, и культ твоей личности? — невольно улыбнулась Лукия его фантазии.
— О, без этого не обошлось бы!.. Ну, я хоть кое-чему полезному их научил бы: вот это вам, товарищи скифы, наука алгебра. А это вам теория Эйнштейна. А это мудрейшая наука — не играть с огнем, жить на планете без глобального хулиганства… Ну, конечно, я им радио открыл бы…
— Хватит фантазировать, — оборвала Лукия, убирая посуду со стола. — Садись за книжки. Зубри!
— Мама, эпоха зубрежки миновала. Я не начетчик.
— Смотри ты, как заговорил! — Лукия подошла и села возле сына, рассматривая его даже удивленно. — Это что-то новое, дружок. Зубрить не хочешь. Может, и учиться не желаешь?
— Учиться хочу, но по-настоящему.
— Как это по-настоящему?
— Не по катехизисам. Не по-бурсацки. А так, чтобы своим умом до всего доходить, больше собственным котелком варить…
— Это, конечно, хорошо. Котелок твой варит, других критиковать уже умеешь, а вот сам-то как будешь жить? Чего ты хочешь от жизни?
— Не так уж много: просто жить, работать, как все. Хочу, чтобы вранья от меня не требовали, очень не люблю вранья. Не хочу голодовок, про которые ты рассказывала, войны не хочу, арестов, тюрем… Работать — это да! Труд — мой бог, его люблю.
— Так вот и работай, хлопче, а не разъезжай по степи. Отныне никаких мотоциклов! Слышишь?
— Мама, ты деспот!
— Кого ты вчера по степи катал?
— Одноклассницу, мама. Не бойся, она хорошая.
— Хорошая не села бы в такое время кататься. Порядочная, видно, ветрогонка.
— Ты не имеешь права, мама, так обзывать девушку!
— Кто же хоть она?
Хлопец многозначительно улыбнулся, поняв, что ему расставили силки.
«Придет время — узнаешь», — отбился шуткой, а мать думай теперь. Ведь он же еще совсем дитя, мальчишка доверчивый, а какая-нибудь такая подвернется, что с ума сведет, забаламутит, и где уж ему тогда думать об институте, о науке… Правда, Лукия немного догадывается, кто мог его заманить на эти степные катания, но она и в мыслях даже не допускает, чтобы сыном ее верховодила эта школьная вертушка, которая из троек не вылезает, зато уже научилась хаханьки разводить со взрослыми хлопцами возле клуба.
— Выбрось все это из головы, слышишь? Рано еще!
— Тс-с!.. — настороженно поднял Виталий палец вверх.
Мать прислушалась, но ничего особенного не услышала. Только где-то за виноградными листьями веранды кузнечик тонко, монотонно стрекотал.
— «В полуденной духоте кузнечик, ошалевший от солнца, кричит…» Знаешь, кто это сказал? Товарищ Аристофан. Более двух тысяч лет тому назад… Две тысячи лет, мама, этот его кузнечик кричит!
— Ты мне зубы не заговаривай, я без твоего Аристофана кузнечиков слышала…
— А вето на мотоцикл… Это же ты, мама, пошутила?
— Нисколько. Пока не сдашь всех экзаменов, со двора выводить не смей!
Это был для хлопца удар. Ни слова после этого не промолвил. Обиженно прикусив губу, взглядом на улицу уставился, где на столбе и при дневном свете забыто сверкала электрическая лампочка.
Впервые хлопец открыто не покорился материнской воле. Не за учебники взялся, а, словно бы наперекор матери, побрел в свой угол, уставился в какую-то схему, затем стал со звоном рыться в своем радиохламе, перебирал, соединяя, какие-то провода в металлической большой коробке.
«Вот уже и поругались», — думала Лукия, но на этот раз она ошибалась: хоть и наговорила только что Виталику резких слов, хоть и жестоко наказала, запретив ездить на мотоцикле, сын, однако, не сердился, он прощал ей эту, как всегда, бурную вспышку. Разве ж хлопец не понимает, кто он для матери, разве он не способен оценить ее самоотверженную любовь? Возможно, и замуж не вышла из-за него, убежденная, что никто, даже лучший отчим, не заменил бы сыну родного отца. В душе он гордится своей матерью, ему приятно, что ее уважают рабочие. Как любил Виталик, еще мальчонкой, ждать вечером, пока она, наездившись по степным отделениям, не возвратится, накаленная солнцем, горячая, и от нее пахнет пылью, зерном, бензином, нектарным духом подсолнухов. Он так и окунался в эти запахи. Мать еще и поныне считает его мальчишкой, не принимает всерьез, для нее он просто Виталик, она словно бы не успевает понять, что он уже перерос ее представление о нем, что у него и знаний и чувств больше, чем она думает. Иногда Виталику кажется, что он понимает мать больше, глубже, чем она его. Да, за спиной у нее нелегкая жизнь со своими утратами, горестями… Он знает, на какие жертвы мать шла ради него…
Вот она сейчас хлопочет, вытирает на окнах пыль в своей комнате, где через раскрытую настежь дверь видны этажерка с книгами да высокая кровать с горой белоснежных подушек, которую мать редко и разрушает, — летом чаще всего она спит на этом диване, а Виталик во дворе, на раскладушке. Остановилась у этажерки, перебирает какие-то книжки, Виталика так и подмывает пошутить: «Мама, ты, наверно, „Блокнот агитатора“ снова перечитываешь?» Однако он промолчал, увидев: стоит она сейчас в глубокой задумчивости и на ладони у нее… белоснежный обломок коралловой ветки!
Это подарок капитана Дорошенко. Сколько удивления было в хате, когда капитан привез однажды из своих плаваний этот обломок чего-то белоснежного!.. По форме ветвистый, как рог оленя, только белоснежный. И тяжелый, будто металлом внутри налит. Кусок настоящего кораллового рифа, вот что он ей подарил! Дар океана, дар синих тропических вод…
Преподнося матери коралловую ветку, капитан сказал тогда:
— Бывают они розовые, голубые, а эта, видишь, белая… Много на таких судов погибло… Ведь это сверху цветочки, а внизу — монолит!
— Какая красота! — тихо воскликнула мать. — И это в воде растет? Белая как снег? — И стояла, будто завороженная, а капитан добавил шутливо:
— Только у нас тут пылища, черные бури, коралл у тебя быстро потемнеет… Ну, тогда выбросишь.
— Не потемнеет, — сказала она, и это было сказано с особенной интонацией, и посмотрели они друг другу в глаза тоже как-то необычно.
И в самом деле, хотя прошли с тех пор месяцы и годы, проносятся над степями пыльные черные бури, а подарок капитана все стоит в материной комнате, белоснежный и чистый, будто только что омыт океанской волной, будто только что добыт с океанского дна.
…Белеет, цветет коралловая ветка снова на этажерке, на своем постоянном месте; матери уже нет. Поправив на затылке узел тяжелых волос, она ушла со двора, не будет ее теперь до самого вечера. Поездки, заседания, конфликты, ссоры, бесконечное мотание по отделениям, где она о ком-то заботится, кого-то отчитывает, кого-то мирит — такова ее жизнь. Изо дня в день отдает себя на растерзание обыденщине, кипит в лихорадке дел, ломает голову над чьими-то хлопотами, и нет ей передышки, нет никогда покоя…
Целый вечер она будет совещаться, вести заседание рабочкома, но и там сквозь дым, сквозь заседательский чад нет-нет да и промелькнет перед ее взором образ сына: «Конечно, для тебя я деспот, конечно, тебе это кажется диким, что вот и вечером я заседаю, и речь веду о таких вещах, как валухи, да шерсть, да нормы выработки… Но как же без этого, Виталик? Без наших будней разве были бы праздники?»
А хлопец в это время бродит возле школьного виноградника, там, где недавно они с Тоней кусты подвязывали, где будто нечаянное прикосновение девичьих рук перевернуло его жизнь; потом он прошел мимо клуба, где ничего сегодня нет, мимо домика, где сестра Тони — Клава — в этот момент ссорилась со своим муженьком, а Тони нет, Тоня у родителей, и Виталий, еще немного побродив в парке, послушав чей-то влюбленный шепот в кустах, наконец возвращается домой. Жаль, что Горпищенкова кошара далеко и на мотоцикл наложено вето, — и ничего тебе не остается, как только идти вот так в одиночестве по улице Пузатых да посвистывать возле забора товарища Яцубы, где темнеет его виноградник, который со стороны поля весь обтянут колючей проволокой и напоминает в миниатюре то, что майор строил на Севере… Днем улица перекрыта шлагбаумом, а сейчас шлагбаум кто-то оттянул, и ребята из младших классов, беззвучно как летучие мыши, носятся по темной улице на велосипедах, нарочно пугая девочек-подростков, что, взявшись за руки, вольно ходят здесь и тихо напевают, и словно бы слышат уже те таинственные, возбуждающие призывы-шепоты любви, которыми полнятся заросли садов и, кажется, напоен этот вечерний воздух. Ходят девушки, трепетные, как сама юность, и, как она, слегка окутанные грустью. Идут в обнимку, и песня плывет за ними, негромкая, задумчивая, немножко грустная. Их песня-дума, и чистая ранняя грусть, и это ожидание чего-то неизведанного, манящего так гармонируют со степным покоем вечерним, и звездным простором неба, и с настроением Виталика… Мать сердится, что он не корпит над учебниками, а как он может зубрить сейчас, в такой вечер, когда все вокруг поет и сам он полон чувства нового, ранее не изведанного. Как после черной бури, когда весенняя степь пламенеет до самых горизонтов дикими тюльпанами и будто вся планета цветет красотой, так сейчас на душе у Виталика. Все стало второстепенным, неважным в сравнении с тем, что он приобрел, что у него есть теперь в жизни — Тоня.
Экзамены? Они его не беспокоят. Медаль отличника? Луна на небе — вот его медаль. У каждого человека, наверно, есть своя белая коралловая ветка, раньше или позже, а каждый находит ее, и вот он тоже нашел… Если бы только Тоня была сейчас здесь, рядом с ним! Не попала ли она после вчерашнего катания под домашний арест? Сидит да зубрит девчонка в своей чабанской ссылке, а он еще и до сих пор будто летит на мотоцикле, чувствует на себе ее горячие руки, слышит смех ее серебристый, заливистый, до сих пор ощущает на губах огонь ее поцелуя, которым она обожгла его там, на винограднике… Остановившись, Виталик сам себе улыбается в потемках, видит руку девичью смуглую, что так нежно подвязывает широколистый куст чауша-винограда… Живая, шустрая такая — от куста к кусту, куст за кустом обнимает… Смотрел бы не насмотрелся,как она делает что-нибудь или просто улицей идет: лицо поднято, грудь вперед и руками широко размахивает, аж за спину залетают. И походка такая же размашистая, упругая.
Брезентовая раскладушка ждет своего хозяина в саду. Виталик расставил ее, опробовал, прилег. Ветерок, сорвавшись, нежно шелестит листьями вверху, и среди листьев то и дело сверкает девичья, чуть-чуть лукавая улыбка. Спать? Как можно спать в такую ночь? Звездная высота притягивает взор, как тогда, когда Тоня закричала на всю улицу: «Спутник! Вон он!» И никто в совхозе не спал, в самой природе было что-то необычайное, со всех дворов смотрели, как вдруг появился в небе светлячок, появился и движется прямо по небу, ритмично поблескивая…
О чем бы ни думал, а перед глазами Тоня… Ну пускай и учится кое-как, из троек не вылезает, а разве всем непременно нужно пятерки хватать? Зато она целый год вожатой в третьем «Б». И как малыши ее любят, гурьбой ходят за ней!.. Лучшая девушка на свете! У него и сейчас кровь жарко горит, душа тает от счастья; и он снова видит перед собой те смуглые руки, которые словно бы впервые увидел сквозь куст винограда, и глаз, живой, веселый, орехово-карий, что так светло и доверчиво улыбался ему между листьев; уже не мог бы Виталик теперь поверить ни единому злому слову о ней, о ее легковесной щедрости в чувствах, о способности влюбляться едва ли не в каждого встречного… Кого угодно за такое оборвал бы, заставил умолкнуть! Тот глаз, сверкавший сквозь виноград на него, не мог бы ни на кого другого с такой нежностью смотреть — в этом он уверен.
Ну, как же ты там, Тоня? Может, припугнутая отцом, сидишь и зубришь, а может, украдкой у приемника ловишь музыку — это больше на тебя похоже! Или, быть может, слушаешь вместо музыки сухие директорские распоряжения, которые передает на отделения в этот момент Сашко Литвиненко? Взять бы да шепнуть в микрофон Тоне что-нибудь, одно имя ее, прошелестеть, как ветерок, что по верхушке яблони пробежал. Шепнешь, а она там в чабанской своей бригаде уже слышит тебя; не может же быть, чтобы она спала в такую ночь! И если у тебя есть хоть кое-как слепленный, но честно, своими руками сделанный передатчик, работающий на частоте одному тебе известных мегагерц, то…
Соскочив с раскладушки, Виталик в три прыжка пересекает двор, вбегает на веранду. Вот он уже в комнате, включает свет, бросается в свой заваленный радиохламом уголок, и через некоторое время весь звездный степной эфир принимает взволнованные, нежностью налитые слова:
— Той, которая меня слышит!.. Той, что лучше всех на свете… Тоня! Слушай меня!
А через некоторое время в накуренное, задымленное цигарками помещение рабочкома вбегает запыхавшаяся семиклассница Нина Чумак и с порога бросается к Рясной:
— Тетка Лукия, скорее домой!.. Виталик ваш… за… за… запеленгован!!!
Не чуя под собой ног, примчалась Лукия домой. Стоит чей-то «газик», во дворе гомон, во всех окнах свет горит, в открытых настежь дверях видны фигуры военных, и между ними торчит стриженная под ежик голова Яцубы в стальной седине.
— Так вот, милейший, — слышит она баритон Яцубы, и в ответ ему откуда-то из угла звенит протестующе:
— Не называйте меня «милейший»!
— А кто же ты есть? — И, заметив Лукию или, быть может, просто ощутив на себе пламя ее гнева, Яцуба оборачивается к ней: — Вот, полюбуйся на своего… Настоящий радионарушитель, хотя и несовершеннолетний… Он со своими штучками в эфир… Ну, а мы его, голубчика, и запеленговали.
— Не так вы, как мы, — поправил Яцубу офицер с полигона и улыбнулся своим товарищам, которые окружали Виталика, но, видно, вовсе не собирались хватать да вязать этого нарушителя.
Кое-кого из военных Лукия знала в лицо, ведь не раз они появлялись в совхозе на запыленном «газике», а с их старшим она встречалась на шефских собраниях. Теперь все они были официальными, исполненными сознания своих прав, — постороннее вторжение в эфир не могли никому разрешить, — но их загорелые лица снова озарились улыбками, когда они, наклонившись, стали рассматривать передатчик Виталия, примитивное кустарное сооружение в грубой коробке, которая, однако, давала возможность хозяину посылать слова привета и музыку в степь той, недостижимой для других девушке Тоне.
— Акт составлен. А это мы конфискуем, — говорит Яцуба и обеими руками берет со стола Виталиков передатчик.
— Поставь на место, — остановила Яцубу Лукия.
— Нет, прости, милейшая, конфискуем, — с ударением повторил Яцуба, нацелив на нее черные сверкающие скважины глаз. — Если уж ты малолетку разрешаешь любовные шуры-муры, то пускай себе на мотоцикле и мчится на свидание, а эфир засорять посторонними словами… нет, шалишь, парень!.. Много ты, Лукия, своему малолетку позволяешь! Любовные шуры-муры по радио разводить, эфир засорять никому не позволим!
Лукия посмотрела на сына: «Это правда?»
«Да, он говорит правду, — открытым взглядом ответил ей сын, — я обращался к ней через эфир, я говорил ей слова любви, и этот передатчик еще полон моей нежности, моих признаний…»
Яцуба, нагруженный вещественным своим доказательством, сделал было шаг к порогу, но Лукия преградила ему путь, приблизилась почти вплотную к его худому, по-волчьи вытянутому лицу — чуть не обожгла его пылающими щеками.
— Дай сюда!
И не успел Яцуба опомниться, как Лукия выдернула передатчик у него из рук и со всего размаха трахнула об пол.
Это был конец. Разбежались понятые, поспешили попрощаться военные. Их «газик» как-то даже весело рванул от двора, сделал разворот возле конторы, поднял пыль на улице Пузатых и пропал в степи.
Все затихло. Прошло немного времени, и свет погас в окнах Лукии, но долго еще и после этого — мать из темноты веранды, а сын со своей раскладушки в саду — слышали, как ровно, неутомимо стрекочет где-то в кустах кузнечик, тот самый, которому две тысячи лет…
Мамайчуки
— Что, милейшие, зажимают вас? Не пускают даже в эфир? — говорит Гриня Мамайчук, молодой киномеханик, появляясь на следующий день на пороге радиоузла, или «центробреха», как он его называет. Насмешка его обращена к Виталию Рясному и Сашку Литвиненко — этим радиоорлам с подрезанными крыльями, которые, склонившись лоб в лоб, оживленно шепчутся: наверно, обсуждают вчерашнее свое фиаско. Есть из-за чего переживать обоим — ведь этот запеленгованный передатчик, так безнадежно уничтоженный бурей человеческих страстей, был их совместным творением, которое, по замыслу, сначала для того и создавалось, чтобы эти орлы, разделенные комариным расстоянием, могли перекликаться по утрам через дорогу, здороваться в эфире. Стоило ли ради этого в эфир вторгаться — это уж другое дело… И вот нанес им поражение товарищ Яцуба. Недаром человек полжизни руководил лагерями где-то за Полярным кругом, умеет выслеживать, ловить, брать за жабры разных, как он выражается, «людишек». Никто и не заставляет его — по собственной инициативе Яцуба накрыл этого «дикого» коротковолновика. — Если и в эфир нельзя, то куда же можно? — сокрушенно говорит Гриня, усаживаясь верхом на стуле. Сейчас рабочая пора, и Гриня должен куда-то ехать (автофургон стоит у конторы, снаряженный для дороги), однако Гриня не спешит, он должен сначала излить душу. — Или, может, мы и вправду «людишки»? Может, с нами иначе и нельзя? Сунешься в институт — осади назад, браток; в столицу подашься — не прописывают; казалось бы, хоть небо остается, а теперь вот и туда, на эфирную целину, не пускают. — В эфире, к твоему сведению, тоже должен быть порядок, — спокойно возражает Мамайчуку Сашко-радист. — А что такое порядок? — задирает рыженькую свою бороденку Гриня. — Вон у тебя под потолком ласточки вылепили гнездо, для безопасности мать волосинкой птенцов обвила, это, я понимаю, порядок. Это не то что человек, который бьется в тенетах бессмысленных инструкций… Ласточка своих птенцов кормит, она их бережет, пестует, пока крылья у них не отрастут, а когда крылья есть, тогда пожалуйста: дарю вам небо, дарю вам простор, живите, летайте на равных со мною правах! — Можно подумать, — улыбается Сашко, — что тебя кто-нибудь ограничивает. — О! Цепью прикован к земле… Ведь отцы в наше время пошли такие, что не могут своих детей до конца жизни прокормить! В поте лица я должен добывать свой хлеб, ежедневно выколачивать презренный металл, которого мне, братцы, частенько не хватает, точно так же, к слову, как и холодильника… Хотел бы ваш друг быть добродетельным, великодушным, щедрым, но при таких пенёнзах,[3] как у Грини Мамайчука, поддерживать честность целомудренной нелегко, ох, как нелегко!.. Не успеешь и опомниться, как в агитфургоне у тебя среди коробок с кинолентами, среди гениальных произведений человеческого духа очутится вдруг… корзина с виноградом, который юридически тебе не принадлежит. Или, скажем, мешок арбузов и дынь, этих наших украинских ананасов… Ты везешь эти дары природы домой, чтобы усладить ими не совсем сладкую жизнь своих ближних, а вместо благодарности родной твой батя готов гнать взашей свое дитя из дому… Не принимает даров! — Твой батя после этого еще больше вырастает в моих глазах, — замечает Виталий, перелистывая за столом какой-то журнал. — Не возражаю: мудрый у меня наставник, но о том-то и речь, что я хочу жить вовсе без наставников, — покачивается Гриня вместе со стулом. — Хоть бы попробовать без них. Неужто погибну? А может, и нет? С домашними, скажем, я бы еще мог кое-как примириться, но ведь, кроме них, и некий отставной субъект лезет в твою грудную клетку своими лапищами… — Ты глина, подлежащая формовке, — говорит Сашко, роясь в одном из приемников, которые ему приносят в ремонт. — По крайней мере, у Яцубы такой на тебя взгляд. — Ты считаешь, что у него есть взгляды? А по-моему, у него есть только зубы, клыки. Это обыкновеннейший динозавр культовской эпохи, пища его непритязательна — он употребляет одни цитаты. Зубами дробит камни готовых истин. Мыслить он не умеет, да и зачем это ему? Зато он умеет разрушить церковь — памятник архитектуры, окружить определенную территорию колючей проволокой, нацарапать современной авторучкой анонимку… — Нужно отдать ему должное, — говорит Виталий. — Анонимки свои он рассылает за собственной подписью. «Я, говорит, не боюсь, не прячусь…» — На редкость самоуверенный тип; не сомневается, что жизнь его стопроцентно правильна, дистиллированна, безупречна, а что, наоборот, я вот, Мамайчук, неправильно живу, много лишнего болтаю. Если б ему хоть на миг вернуть прошлое, меня первым он спровадил бы туда, куда Макар телят не гонял… А за что? Я работаю. Я не отравляю себя алкоголем. К очковтирателям не принадлежу. Кроме того, активно защищаю спортивную честь нашего совхоза, выходя в бутсах на поле стадиона и пробуждая в вас кровожадные инстинкты. Так в чем же я неправильный, братцы мои? — Ты правильный, только «неуправляемый», — объясняет Сашко. Есть на свете управляемые снаряды, есть управляемые ракеты, но есть и неуправляемое живое существо, и ходит оно по свету в образе Грини Мамайчука. «Неуправляемый Мамайчук», — бросил кто-то, и пошло гулять по совхозу это прозвище, и Гриня не сердится, хотя и не считает себя виновным в том, что жизнь его складывается именно так. Начиналось вроде бы здорово: по случаю его, Грининого, появления на свет когда-то была устроена шумная гулянка-рай, и отец новорожденного — лучший в то время в МТС ударник-механизатор — был просто на седьмом небе оттого, что в жизнь приходит еще один Мамайчук, прошелся вприсядку через весь совхоз, а теперь ему не до веселья: возвратился с войны без ног; постарел, осунулся. «На Сапун-горе, на Малаховом кургане отцвела его молодость», — говорит иногда Гриня о своем суровом бате. А батя, однако ж, не сдается: сейчас он газорезчиком в мастерской. Стиснув зубы, изо дня в день режет железо, латает комбайны, вырезает проржавелые болячки и опухоли на тракторах, а его Гриня тем временем доискивается сущности жизни… Закончив десятилетку, хлопец многое успел изведать, не раз обжегся, как он говорит, у костров житейских. Поступал в кораблестроительный, но не прошел по конкурсу, куда-то вербовался, но недовербовался, очутился потом на курсах киномехаников в областном городе, по вечерам утюжил проспект вместе с тамошними хандрящими юнцами и в конце концов возвратился в совхоз приличным киномехаником с львиной рыжей шевелюрой, в разрисованной рубашке навыпуск, в которой красуется и поныне. — Пускай «неуправляемый», пускай неподдающийся… А какое ему, отставнику, до меня дело?
— Ты все на отставников. Это племя тоже неодинаковое…
— А я что говорю: среди них много людей стоящих, такие засучили рукава и — давай работу. Орловский не один! Где-то я читал о прославленном генерале, который после отставки пошел работать директором совхоза. Ну, наш отставник тоже, видно, надеялся занять Пахомово кресло, да не выгорело, пришлось браться за пожарную кишку… Но я же не пожар, чтобы меня тушить! Что за преступление, если все хочешь сам, без толмачей, обдумать? Для чего живу? Для чего жить буду? Это меня занимает. Конечно, у меня есть недостатки, я покамест еще не похож на положительных героев тех комедий, которые вожу по кошарам в металлических коробках и остерегаюсь близко допускать к ним чабанов с цигарками, потому что очень уж мои комедии горят… Я рядовой жизни — и не больше. Понемногу работаю, понемногу мыслю, ибо кому же хочется быть придатком к собственному своему желудку… Это первобытному человеку приходилось с утра до ночи охотиться, чтобы чем-нибудь набить свое неандертальское брюхо, а для современного человека необходим другой режим, труд его — только основа для мысли… Идем к тому, чтобы вообще по два часа в день работать, да еще, говорят, и с перерывом на обед.
— Слышишь, Виталик, — обращается Сашко к товарищу. — Вот что кое-кому снится… В нашем «Перце» это можно бы назвать «Мечта современного лежебоки»…
— Коллега, я не считаю, что этот камень брошен в мой огород… Я под эту статью не подхожу. Конечно, я работаю в соответствии с трудовым законодательством, из кожи вон не лезу, не надрываюсь, как, предположим, наш директор Пахом Хрисанфович; ему, кстати, вчера снова уколы делали… Вы ему о будущем, о светлой цели, а какая она для него светлая, ежели у него хроническая язва желудка, ежели у него, у бедняги, в глазах темнеет от работы. Для него, братцы, вся жизнь — это только силос, силос и силос! А я не хочу быть египтянином силоса! Я не для того рожден, чтоб стать строителем силосных пирамид!
— Ты против силоса? — удивился Сашко.
— Наоборот, — возразил Мамайчук, — я даже в детстве не умалял значения для нас мелко иссеченной зеленой массы… Кто сегодня на силосе вилами орудует, тому почет, и у меня тоже — вот на руках — от баранки трудовые мозоли… Перед вами человек, который свою скромную работу на этой грешной планете пытается выполнять добросовестно. Экран мой освещает по вечерам темноту самых отдаленных кошар. План кинопроката выполняю, куда посылают — лечу. Вот и сейчас, друзья мои, вынужден покинуть вас, еду согласно полученному наряду…
— Едешь, да все на одном месте, — взглядывает Виталий на стул, на котором покачивается Гриня.
— Я ценю, товарищ Рясный, наличие в тебе чувства юмора, — покровительственно отмечает Гриня. — Относиться ко всему на свете с юморком — в этом самозащита и мудрость человека нашего времени. Итак, ты, отроче, на пороге мудрости… Вселенная велика и разнообразна: одни тела пребывают в состоянии плазмы, другие в состоянии окаменелости, тебе же нравится быть в состоянии жизни, не правда ли?
— Ты не ошибся.
— Сейчас в твоей душе — брожение лирических положительных зарядов… Не так ли?
— Угадал.
— И звездный эфир по ночам слушает твою наивную песню любви?
— Отстань, — сказал Виталий почти сердито, почувствовав в этом намек на его вчерашнее вечернее обращение к Тоне.
Мамайчук, хохотнув, продекламировал:
— «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!..» Откуда это?
— Из «Песни Песней», — подсказал Сашко.
— «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня… Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы…» А это?
— И это оттуда, — скрыл улыбку Виталий.
— Верно, юноша! Итак, ты вступил уже в пору молочно-восковой спелости… Родная школа вскоре вытолкнет тебя в белый свет с аттестатом зрелости… После нее куда, если не секрет?..
— Видно будет.
— При поступлении в институт теперь, как известно, требуется трудовой стаж… Но не думаю, что ты, как последний плебей, будешь многотерпеливо добывать сей стаж. К счастью, у тебя есть реальная возможность сократить свои мытарства.
— Что ты имеешь в виду? — нахмурился Виталий.
— Ты не хмурься… Ты смейся от счастья! Дай мне такую мамашу, что и депутатка, что и в области как у себя дома, не видать бы вам этого Мамайчука здесь!
Сашко посмотрел на него из-под растрепанного чуба.
— Плохо же ты знаешь его мамашу.
— Что? — уставился на радиста Мамайчук. — Я за нее голосовал! Голос за нее отдал, и при этом искренне. Заступница сирых! Борец за мечту. Все это так. Но ведь она же еще и мать! А ты, — он посмотрел на Виталика, — любимый маменькин сынок.
— Я не маменькин.
— А чей же?
— Я сын своей матери.
— Сути это не меняет. Ты, согласно законам природы, самое дорогое для нее существо, и тебе должно быть ясно, что из этого вытекает…
— Быть может, объяснишь? — скривился в недоброй улыбке Виталий.
— Без нее ты, хлопче, нуль во вселенной. Понял? Поверь моему горькому опыту. Итак, беги, падай перед нею на четыре кости, умоляй. Иначе не видать тебе не только что кораблестроительного, но и зачуханного какого-нибудь техникума… А так будет совсем по-иному: она едет в город. Уверенно стучит в дверь к товарищу ректору. Товарищ ректор весь внимание к товарищу Рясной. Выслушивает, и, пока течет беседа, в списке против твоего имени появляется этакая маленькая-маленькая, как маково зерно, точечка… Будто муха наследила. И все! Твоя судьба этой точечкой решена. Ты принят! С чем я тебя и поздравляю заранее!
— Плохо же ты знаешь, товарищ избиратель, и свою депутатку, и ее сына, — снова говорит Сашко.
— Ах, я не угадал? Он не признает протекций? Он ненавидит блат? Он хочет по-честному, хочет самостоятельно решать формулы жизни со многими неизвестными? Не так ли, милый наш Архимедик?
— Пускай «неуправляемый», пускай неподдающийся… А какое ему, отставнику, до меня дело?
— Ты все на отставников. Это племя тоже неодинаковое…
— А я что говорю: среди них много людей стоящих, такие засучили рукава и — давай работу. Орловский не один! Где-то я читал о прославленном генерале, который после отставки пошел работать директором совхоза. Ну, наш отставник тоже, видно, надеялся занять Пахомово кресло, да не выгорело, пришлось браться за пожарную кишку… Но я же не пожар, чтобы меня тушить! Что за преступление, если все хочешь сам, без толмачей, обдумать? Для чего живу? Для чего жить буду? Это меня занимает. Конечно, у меня есть недостатки, я покамест еще не похож на положительных героев тех комедий, которые вожу по кошарам в металлических коробках и остерегаюсь близко допускать к ним чабанов с цигарками, потому что очень уж мои комедии горят… Я рядовой жизни — и не больше. Понемногу работаю, понемногу мыслю, ибо кому же хочется быть придатком к собственному своему желудку… Это первобытному человеку приходилось с утра до ночи охотиться, чтобы чем-нибудь набить свое неандертальское брюхо, а для современного человека необходим другой режим, труд его — только основа для мысли… Идем к тому, чтобы вообще по два часа в день работать, да еще, говорят, и с перерывом на обед.
— Слышишь, Виталик, — обращается Сашко к товарищу. — Вот что кое-кому снится… В нашем «Перце» это можно бы назвать «Мечта современного лежебоки»…
— Коллега, я не считаю, что этот камень брошен в мой огород… Я под эту статью не подхожу. Конечно, я работаю в соответствии с трудовым законодательством, из кожи вон не лезу, не надрываюсь, как, предположим, наш директор Пахом Хрисанфович; ему, кстати, вчера снова уколы делали… Вы ему о будущем, о светлой цели, а какая она для него светлая, ежели у него хроническая язва желудка, ежели у него, у бедняги, в глазах темнеет от работы. Для него, братцы, вся жизнь — это только силос, силос и силос! А я не хочу быть египтянином силоса! Я не для того рожден, чтоб стать строителем силосных пирамид!
— Ты против силоса? — удивился Сашко.
— Наоборот, — возразил Мамайчук, — я даже в детстве не умалял значения для нас мелко иссеченной зеленой массы… Кто сегодня на силосе вилами орудует, тому почет, и у меня тоже — вот на руках — от баранки трудовые мозоли… Перед вами человек, который свою скромную работу на этой грешной планете пытается выполнять добросовестно. Экран мой освещает по вечерам темноту самых отдаленных кошар. План кинопроката выполняю, куда посылают — лечу. Вот и сейчас, друзья мои, вынужден покинуть вас, еду согласно полученному наряду…
— Едешь, да все на одном месте, — взглядывает Виталий на стул, на котором покачивается Гриня.
— Я ценю, товарищ Рясный, наличие в тебе чувства юмора, — покровительственно отмечает Гриня. — Относиться ко всему на свете с юморком — в этом самозащита и мудрость человека нашего времени. Итак, ты, отроче, на пороге мудрости… Вселенная велика и разнообразна: одни тела пребывают в состоянии плазмы, другие в состоянии окаменелости, тебе же нравится быть в состоянии жизни, не правда ли?
— Ты не ошибся.
— Сейчас в твоей душе — брожение лирических положительных зарядов… Не так ли?
— Угадал.
— И звездный эфир по ночам слушает твою наивную песню любви?
— Отстань, — сказал Виталий почти сердито, почувствовав в этом намек на его вчерашнее вечернее обращение к Тоне.
Мамайчук, хохотнув, продекламировал:
— «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!..» Откуда это?
— Из «Песни Песней», — подсказал Сашко.
— «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня… Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы…» А это?
— И это оттуда, — скрыл улыбку Виталий.
— Верно, юноша! Итак, ты вступил уже в пору молочно-восковой спелости… Родная школа вскоре вытолкнет тебя в белый свет с аттестатом зрелости… После нее куда, если не секрет?..
— Видно будет.
— При поступлении в институт теперь, как известно, требуется трудовой стаж… Но не думаю, что ты, как последний плебей, будешь многотерпеливо добывать сей стаж. К счастью, у тебя есть реальная возможность сократить свои мытарства.
— Что ты имеешь в виду? — нахмурился Виталий.
— Ты не хмурься… Ты смейся от счастья! Дай мне такую мамашу, что и депутатка, что и в области как у себя дома, не видать бы вам этого Мамайчука здесь!
Сашко посмотрел на него из-под растрепанного чуба.
— Плохо же ты знаешь его мамашу.
— Что? — уставился на радиста Мамайчук. — Я за нее голосовал! Голос за нее отдал, и при этом искренне. Заступница сирых! Борец за мечту. Все это так. Но ведь она же еще и мать! А ты, — он посмотрел на Виталика, — любимый маменькин сынок.
— Я не маменькин.
— А чей же?
— Я сын своей матери.
— Сути это не меняет. Ты, согласно законам природы, самое дорогое для нее существо, и тебе должно быть ясно, что из этого вытекает…
— Быть может, объяснишь? — скривился в недоброй улыбке Виталий.
— Без нее ты, хлопче, нуль во вселенной. Понял? Поверь моему горькому опыту. Итак, беги, падай перед нею на четыре кости, умоляй. Иначе не видать тебе не только что кораблестроительного, но и зачуханного какого-нибудь техникума… А так будет совсем по-иному: она едет в город. Уверенно стучит в дверь к товарищу ректору. Товарищ ректор весь внимание к товарищу Рясной. Выслушивает, и, пока течет беседа, в списке против твоего имени появляется этакая маленькая-маленькая, как маково зерно, точечка… Будто муха наследила. И все! Твоя судьба этой точечкой решена. Ты принят! С чем я тебя и поздравляю заранее!
— Плохо же ты знаешь, товарищ избиратель, и свою депутатку, и ее сына, — снова говорит Сашко.
— Ах, я не угадал? Он не признает протекций? Он ненавидит блат? Он хочет по-честному, хочет самостоятельно решать формулы жизни со многими неизвестными? Не так ли, милый наш Архимедик?
 Виталий досадливо покусывает губу.
— Ты ясновидец.
— Юный мой друг! Ухватишь меня за эту благородную бороду, ежели лента событий будет разворачиваться вопреки моим прогнозам, — говорит Гриня и поглаживает рукой светло-рыжий пушок, который он называет бородой.
Этот пух — протест Грини, протест и недоверие, которое он выказывает заведующему рабкоопом товарищу Мажаре. Щедрый на посулы, Мажара имел неосторожность публично пообещать в ближайшее время открыть в совхозе парикмахерскую, и Мамайчук, поймав его на слове, заявил, что не станет бриться до тех пор, пока парикмахерская не будет открыта, и дело сейчас оборачивается так, что весь совхоз следит за этим неравным поединком, а заведующий рабкоопом каждый раз прячется, как увидит хоть издалека молодую Мамайчукову бороду. Бороденка тем временем растет, и когда Гриня, как правый защитник команды, выбегает на поле стадиона, и Виталий, и Сашко, и весь стадион кричат ему:
— Вива Куба!
Сашковы костыли так и пляшут тогда в воздухе от восторга и энтузиазма, а сейчас радист поглядывает на выпяченную вперед Мамайчукову бородку несколько даже иронически.
В коридоре слышны быстрые девичьи шаги, в приоткрытую дверь заглядывает Неля, секретарша:
— Гриня! Пахом Хрисанфович сердится, что ты до сих пор не уехал.
— Передай: выхожу на орбиту. — И Мамайчук в самом деле поднимается. — Попутно, возможно, где-нибудь и на тузлук наскочу. Странная штука этот тузлук: недоваренное мясо, примитив, а как на человека действует! После тузлука мне всегда бороться хочется… Ну, честь труду! — бросает он хлопцам и неторопливо выходит на улицу к своему фургону.
Этот агитфургон, в котором Мамайчук и швец и жнец, целыми днями носится по отделениям или пылит на грейдерной дороге в райцентр за новой кинолентой либо по каким иным делам; хотя задача фургона — прежде всего культурно обслуживать отдаленные кошары, фермы и отделения, однако хозяину его приходится выполнять еще и множество других поручений, быть, что называется, «старшим, куда пошлют». Вот и сейчас Грине дорога предстоит неблизкая — нужно ехать в совхоз «Приморский чабан», с которым они соревнуются, однако Гриня не был бы Гриней, если бы, выехав в степь, не завернул еще на птицеферму, а там, только выйдя из кабины фургона и вступив в белое куриное царство, он уже ошарашивает птичниц излюбленным своим вопросом:
— Для чего вы существуете, то бишь живете?
Такая уж у него привычка — приставать с этим вопросом к каждому.
— Ну вот, родились, выросли, живете, а для чего?
Девчата пожимают плечами, пересмеиваются, а маленькая девочка — дочка старшей птичницы — удивленно смотрит на Мамайчука, на его желтую, как пух на цыпленке, бороду и разрисованную рубашку.
— Ну, скажем, вот у Сани, — кивает Мамайчук на полненькую чернявую молодицу, муж которой проходит службу на Балтийском флоте, — затяжная любовь, она только и ждет праздника, чтобы поехать в Ленинград к своему законному. А вы?
— У тебя бы спросить, — весело отвечает Саня, — для чего ты сам небо коптишь?
— О, это вопрос сложный, над ним я как раз и размышляю в эти дни. Размышлял ночь, все утро и тому же посвящу несколько ближайших лет.
— Не слишком ли щедро?
— А я, девчата, не мелочный. В запасе у меня вечность. Куда спешить, зачем? Ну, пусть я после известных видоизменений стану какой-нибудь другой молекулой, пусть не буду Григорием Мамайчуком, а буду, скажем, арбузом или дыней.
— Или чертополохом, — прыснула со смеху одна из девушек.
— Или чертополохом, какая разница? Главное, что я буду, и никто не в силах прекратить меня в вечности, положить мне конец. Так-то, девчата.
— Гриня, тебе пора жениться, — говорит Одарка, приземистая, с веселыми глазами, в опущенной на брови косынке.
— Голому жениться только подпоясаться, — отвечает Гриня. — А вот вам, девчата, которые незамужние, советую это сделать пораньше, чтобы потом успеть выйти замуж еще раз.
— Вот так посоветовал!
— А то вы по десять классов закончили, однако и до сих пор не знаете, что раньше появилось в природе: курица или это вот яйцо? — И Гриня, подняв у корытца оброненное курицей свежее яйцо, тут же его выпивает.
После этого он едет дальше. Увидев чабана, который маячит у отары на выпасах, Гриня не ленится сделать крюк, заворачивает к нему и, не вылезая из кабины, тоже спрашивает:
— А вы?
— Что я?
— Для чего живете?
— Чтобы баранов стричь.
— Вот это наконец ответ! — даже обрадовался Гриня.
А когда он со своим вопросом обратился у кошары к зоотехнику Тамаре, которая с чабанами отбирала в загородке по биркам производителей для отправки в Болгарию, то реакция Тамары была для Грини совсем неожиданной.
— Проваливай отсюда! — выкрикнула она, и Гриня только тогда заметил, что лицо у нее было мокрое и красное от слез.
А мог бы ведь он догадаться, что Тамара в эти дни переживает душевную драму; недавно вышла она замуж за приезжего техника по искусственному осеменению, а он оказался пьяницей, да таким, что пьет без просыпу; допился однажды до того, что вместе со спиртом, полученным для лабораторной работы, вылакал и все другое из пробирок, за что и попал в совхозный «Перец».
Вот почему Тамара так болезненно приняла вопрос Мамайчука. Без тебя, мол, горько, а ты с дурацкими вопросами лезешь!.. Занятые работой, и Тамара и чабаны после этого уже забыли о Грине; отвернулись от него и отбирают в загородке лучших баранов (трехтонка стоит уже наготове), а Грине после этого ничего не остается, как, передав бригадиру бумажку из бухгалтерии да устное директорское распоряжение относительно этих самых баранов, отправляемых на Балканы, двигаться дальше, по своему основному маршруту.
Едет Гриня, колышется над баранкой пластмассовый зайчик на нитке, усмехается по-заячьи водителю: «А сам-то ты что за субъект? Для чего ты?»
На душе мучительно тоскливо, стыдно за свою бестактность перед Тамарой. Становится просто больно за нее, за ее слезы. Видимо, и сейчас капают они на спины стриженых, сбитых в загородке мериносов, между которыми она ходит, согнувшись… Борец против равнодушия, против черствости и бездушия, как же ты сам не заметил, что Тамара заплакана, что сегодня ей свет не мил!.. И вообще с тех пор как она связала себя с этим пьянчугой, вид у нее всегда такой измученный, похудела, лицо осунулось, только глаза стали еще больше. А какая она была девушкой! Ребята выбирали ее комсоргом не только за деловые качества, но еще и за веселый нрав, за девичью ее привлекательность. Последнее время она работала уже секретарем райкома, невольно перейдя в разряд тех девчат, которым, по мнению Грини, их должности угрожают вечным девичеством: ведь не так просто секретарю райкома после собрания уединиться в парке с рядовым комсомольцем. Однако Тамара, словно бы наперекор пророчествам Мамайчука, быстро и неожиданно нашла себе пару, вышла замуж за этого, как назло, подвернувшегося техника. После свадьбы Тамара возвратилась на работу в совхоз, чтобы неотлучно быть возле мужа, и — странное дело — именно теперь, увидев ее замужней, как-то поникшей, вечно расстроенной от семейных забот и переживаний, Гриня вдруг по-настоящему разглядел Тамару в истинной ее красоте, в ее самоотверженной супружеской верности, и не раз теперь ловил себя на том, что ему хочется глядеть на нее, слышать ее ласковый голос… Просто слышать. Просто глядеть. В измученное сияние глаз заглянуть…
Может, из-за этого сюда и сворачивал? Может, и вправду ничего другого не мог выдумать, как влюбиться в замужнюю женщину? И, вместо того чтобы излить ей свои нежные чувства, так вдруг обидеть бестактным, дурацким вопросом…
Неподалеку отсюда начинаются земли полигона, где живут своей таинственной жизнью те разноплеменные хлопцы — солдаты, с которыми Мамайчук время от времени встречается на поле совхозного стадиона. Битвы между их командами отличаются неимоверным упорством, счет здесь выражается в таких цифрах, как 25 на 18 (последняя игра), бурей искреннего энтузиазма встречают совхозные болельщики свою команду, своих одетых в трусики шоферов, трактористов, учителей… После матча гурьба ребятишек сопровождает Гриню до самого дома, а он в бутсах, в одних трусах идет с ними совхозной улицей, несмотря на недовольство старушек, которые, хлопоча по дворам, провожают его, бесстыжего, осуждающими взглядами…
Хотя там, на полигоне, много Грининых знакомых по спортивной борьбе, проехать напрямик через их территорию ему не удается, часовой еще издали машет фургону флажком: кати, мол, в объезд…
И фургон, послушно меняя курс, исчезает в безлюдной степной дали, чтобы, намотав за день десятки километров, вернуться на Центральную уже с другой стороны света, вернуться лишь под вечер, когда Сашко и Виталик выйдут за совхозную околицу встречать вечернюю зарю.
Жара спадает. Степь лежит тихая, подернутая легкой дымкой, и силуэт ветродвигателя на далеком отделении маячит как-то необыкновенно, а древние могилы-курганы, раскиданные среди степного раздолья, словно бы тают, переливаются мягко, как тихая музыка. Кем эти курганы насыпаны, какие отшумевшие царства они увенчивают? Кто навеки засыпан там вместе со своими желаниями, страстями, ненавистью, любовью?
А закат пылает.
Где, на какой планете будут еще эти грандиозные фрески неба? Где еще будут чаровать человека могучие закаты степные? Каждый раз пробуждают фантазию хлопцев эти пылающие просторы запада, когда солнце, садясь, купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром, а высь неба играет переливами тончайших красок, и во всей природе есть что-то элегическое, прощальное, очищающее душу… Стоят они, двое друзей, на земле, которая была когда-то дном Сарматского моря, а потом, через миллионы лет, зазеленела тропическими джунглями, и водились здесь разные теплолюбивые твари, чьи потомки живут теперь только где-то на далеких континентах; а сейчас проносятся в небе реактивные самолеты со скоростью молнии, и эфир переполнен голосами и песнями людскими, а над морским заливом, что далеко врезается в степь, над покинутым крейсером восходит вечерняя звезда. Для них обоих это уже не просто звезда — это озаренная солнцем далекая планета. Сколько у них разговоров про эту планету, споров, догадок: она то покрыта для них сплошным океаном, то жаркой безводной пустыней, где нет жизни, а только бушуют вечно грозы ужасающей силы, то уже существуют на ней и живые организмы, подобные тем, которые были вот здесь, на земле, во времена палеозойской эры. Вечерняя голубая красавица, что раньше всех восходит на их горизонте и освещает степь, она словно бы объединяет их помыслы, и привлекает неизвестностью, и пробуждает в душе пьянящую жажду путешествий, полетов, открытий.
— Только это не для меня, — вырывается неожиданно у Сашка, который, опершись на костыли, не отрываясь, смотрит на звезду.
Не возьмут, дескать, с моими костылями в полеты… Это было так непохоже на него, веселого жизнелюба, который, кажется, никогда не знал грусти, никогда не думал о своем увечье. Его невольное, полное боли признание, столь внезапно вырвавшееся из глубины души, пронзило Виталия такой жалостью к Сашку, что он готов был собственной жизнью поделиться с другом, лишь бы исцелить Сашка, лишь бы тот был здоров физически, как здоров душой, чтобы и небо стало ему доступно, как тем реактивщикам, которые сейчас делают над степью высоченные «свечи»…
Пылающие громады туч на западе уже переплавляются в какие-то дирижабли; словно на гигантских стапелях, возникают там очертания строящихся кораблей, гигантских ракет, а солнце кует в своей мастерской все новые и новые корабли, и они уже пылают по горизонту празднично-чистые, сверкающие, стартово-нацеленные в неземные просторы.
— Привет мечтателям! — возвращает хлопцев на землю знакомый голос. Это все тот же вездесущий Гриня Мамайчук нарушает покой звездочетов, притормаживая возле них свой запыленный агитфургон. — Венеру созерцаете? Красками заката любуетесь? Не туда смотрите, птенцы!
— Куда хотим, туда и смотрим, — бормочет Виталий.
— Вон куда посмотрите.
Мамайчук кивает в противоположную сторону — на восток, уже потемневший, где на краю степного неба, снизу пробиваясь из мглы, то тут, то там перламутрово белеют тучи-«деды».
— Вон та, что за курганом громоздится, ничего вам не напоминает?
Одна туча вздымается над другими торчком. Высокая, белая, клубящаяся, как причудливо застывший в небе неподвижный… атомный гриб!
— Разве не похоже?
Притихшие, пораженные, стоят хлопцы.
Виталий досадливо покусывает губу.
— Ты ясновидец.
— Юный мой друг! Ухватишь меня за эту благородную бороду, ежели лента событий будет разворачиваться вопреки моим прогнозам, — говорит Гриня и поглаживает рукой светло-рыжий пушок, который он называет бородой.
Этот пух — протест Грини, протест и недоверие, которое он выказывает заведующему рабкоопом товарищу Мажаре. Щедрый на посулы, Мажара имел неосторожность публично пообещать в ближайшее время открыть в совхозе парикмахерскую, и Мамайчук, поймав его на слове, заявил, что не станет бриться до тех пор, пока парикмахерская не будет открыта, и дело сейчас оборачивается так, что весь совхоз следит за этим неравным поединком, а заведующий рабкоопом каждый раз прячется, как увидит хоть издалека молодую Мамайчукову бороду. Бороденка тем временем растет, и когда Гриня, как правый защитник команды, выбегает на поле стадиона, и Виталий, и Сашко, и весь стадион кричат ему:
— Вива Куба!
Сашковы костыли так и пляшут тогда в воздухе от восторга и энтузиазма, а сейчас радист поглядывает на выпяченную вперед Мамайчукову бородку несколько даже иронически.
В коридоре слышны быстрые девичьи шаги, в приоткрытую дверь заглядывает Неля, секретарша:
— Гриня! Пахом Хрисанфович сердится, что ты до сих пор не уехал.
— Передай: выхожу на орбиту. — И Мамайчук в самом деле поднимается. — Попутно, возможно, где-нибудь и на тузлук наскочу. Странная штука этот тузлук: недоваренное мясо, примитив, а как на человека действует! После тузлука мне всегда бороться хочется… Ну, честь труду! — бросает он хлопцам и неторопливо выходит на улицу к своему фургону.
Этот агитфургон, в котором Мамайчук и швец и жнец, целыми днями носится по отделениям или пылит на грейдерной дороге в райцентр за новой кинолентой либо по каким иным делам; хотя задача фургона — прежде всего культурно обслуживать отдаленные кошары, фермы и отделения, однако хозяину его приходится выполнять еще и множество других поручений, быть, что называется, «старшим, куда пошлют». Вот и сейчас Грине дорога предстоит неблизкая — нужно ехать в совхоз «Приморский чабан», с которым они соревнуются, однако Гриня не был бы Гриней, если бы, выехав в степь, не завернул еще на птицеферму, а там, только выйдя из кабины фургона и вступив в белое куриное царство, он уже ошарашивает птичниц излюбленным своим вопросом:
— Для чего вы существуете, то бишь живете?
Такая уж у него привычка — приставать с этим вопросом к каждому.
— Ну вот, родились, выросли, живете, а для чего?
Девчата пожимают плечами, пересмеиваются, а маленькая девочка — дочка старшей птичницы — удивленно смотрит на Мамайчука, на его желтую, как пух на цыпленке, бороду и разрисованную рубашку.
— Ну, скажем, вот у Сани, — кивает Мамайчук на полненькую чернявую молодицу, муж которой проходит службу на Балтийском флоте, — затяжная любовь, она только и ждет праздника, чтобы поехать в Ленинград к своему законному. А вы?
— У тебя бы спросить, — весело отвечает Саня, — для чего ты сам небо коптишь?
— О, это вопрос сложный, над ним я как раз и размышляю в эти дни. Размышлял ночь, все утро и тому же посвящу несколько ближайших лет.
— Не слишком ли щедро?
— А я, девчата, не мелочный. В запасе у меня вечность. Куда спешить, зачем? Ну, пусть я после известных видоизменений стану какой-нибудь другой молекулой, пусть не буду Григорием Мамайчуком, а буду, скажем, арбузом или дыней.
— Или чертополохом, — прыснула со смеху одна из девушек.
— Или чертополохом, какая разница? Главное, что я буду, и никто не в силах прекратить меня в вечности, положить мне конец. Так-то, девчата.
— Гриня, тебе пора жениться, — говорит Одарка, приземистая, с веселыми глазами, в опущенной на брови косынке.
— Голому жениться только подпоясаться, — отвечает Гриня. — А вот вам, девчата, которые незамужние, советую это сделать пораньше, чтобы потом успеть выйти замуж еще раз.
— Вот так посоветовал!
— А то вы по десять классов закончили, однако и до сих пор не знаете, что раньше появилось в природе: курица или это вот яйцо? — И Гриня, подняв у корытца оброненное курицей свежее яйцо, тут же его выпивает.
После этого он едет дальше. Увидев чабана, который маячит у отары на выпасах, Гриня не ленится сделать крюк, заворачивает к нему и, не вылезая из кабины, тоже спрашивает:
— А вы?
— Что я?
— Для чего живете?
— Чтобы баранов стричь.
— Вот это наконец ответ! — даже обрадовался Гриня.
А когда он со своим вопросом обратился у кошары к зоотехнику Тамаре, которая с чабанами отбирала в загородке по биркам производителей для отправки в Болгарию, то реакция Тамары была для Грини совсем неожиданной.
— Проваливай отсюда! — выкрикнула она, и Гриня только тогда заметил, что лицо у нее было мокрое и красное от слез.
А мог бы ведь он догадаться, что Тамара в эти дни переживает душевную драму; недавно вышла она замуж за приезжего техника по искусственному осеменению, а он оказался пьяницей, да таким, что пьет без просыпу; допился однажды до того, что вместе со спиртом, полученным для лабораторной работы, вылакал и все другое из пробирок, за что и попал в совхозный «Перец».
Вот почему Тамара так болезненно приняла вопрос Мамайчука. Без тебя, мол, горько, а ты с дурацкими вопросами лезешь!.. Занятые работой, и Тамара и чабаны после этого уже забыли о Грине; отвернулись от него и отбирают в загородке лучших баранов (трехтонка стоит уже наготове), а Грине после этого ничего не остается, как, передав бригадиру бумажку из бухгалтерии да устное директорское распоряжение относительно этих самых баранов, отправляемых на Балканы, двигаться дальше, по своему основному маршруту.
Едет Гриня, колышется над баранкой пластмассовый зайчик на нитке, усмехается по-заячьи водителю: «А сам-то ты что за субъект? Для чего ты?»
На душе мучительно тоскливо, стыдно за свою бестактность перед Тамарой. Становится просто больно за нее, за ее слезы. Видимо, и сейчас капают они на спины стриженых, сбитых в загородке мериносов, между которыми она ходит, согнувшись… Борец против равнодушия, против черствости и бездушия, как же ты сам не заметил, что Тамара заплакана, что сегодня ей свет не мил!.. И вообще с тех пор как она связала себя с этим пьянчугой, вид у нее всегда такой измученный, похудела, лицо осунулось, только глаза стали еще больше. А какая она была девушкой! Ребята выбирали ее комсоргом не только за деловые качества, но еще и за веселый нрав, за девичью ее привлекательность. Последнее время она работала уже секретарем райкома, невольно перейдя в разряд тех девчат, которым, по мнению Грини, их должности угрожают вечным девичеством: ведь не так просто секретарю райкома после собрания уединиться в парке с рядовым комсомольцем. Однако Тамара, словно бы наперекор пророчествам Мамайчука, быстро и неожиданно нашла себе пару, вышла замуж за этого, как назло, подвернувшегося техника. После свадьбы Тамара возвратилась на работу в совхоз, чтобы неотлучно быть возле мужа, и — странное дело — именно теперь, увидев ее замужней, как-то поникшей, вечно расстроенной от семейных забот и переживаний, Гриня вдруг по-настоящему разглядел Тамару в истинной ее красоте, в ее самоотверженной супружеской верности, и не раз теперь ловил себя на том, что ему хочется глядеть на нее, слышать ее ласковый голос… Просто слышать. Просто глядеть. В измученное сияние глаз заглянуть…
Может, из-за этого сюда и сворачивал? Может, и вправду ничего другого не мог выдумать, как влюбиться в замужнюю женщину? И, вместо того чтобы излить ей свои нежные чувства, так вдруг обидеть бестактным, дурацким вопросом…
Неподалеку отсюда начинаются земли полигона, где живут своей таинственной жизнью те разноплеменные хлопцы — солдаты, с которыми Мамайчук время от времени встречается на поле совхозного стадиона. Битвы между их командами отличаются неимоверным упорством, счет здесь выражается в таких цифрах, как 25 на 18 (последняя игра), бурей искреннего энтузиазма встречают совхозные болельщики свою команду, своих одетых в трусики шоферов, трактористов, учителей… После матча гурьба ребятишек сопровождает Гриню до самого дома, а он в бутсах, в одних трусах идет с ними совхозной улицей, несмотря на недовольство старушек, которые, хлопоча по дворам, провожают его, бесстыжего, осуждающими взглядами…
Хотя там, на полигоне, много Грининых знакомых по спортивной борьбе, проехать напрямик через их территорию ему не удается, часовой еще издали машет фургону флажком: кати, мол, в объезд…
И фургон, послушно меняя курс, исчезает в безлюдной степной дали, чтобы, намотав за день десятки километров, вернуться на Центральную уже с другой стороны света, вернуться лишь под вечер, когда Сашко и Виталик выйдут за совхозную околицу встречать вечернюю зарю.
Жара спадает. Степь лежит тихая, подернутая легкой дымкой, и силуэт ветродвигателя на далеком отделении маячит как-то необыкновенно, а древние могилы-курганы, раскиданные среди степного раздолья, словно бы тают, переливаются мягко, как тихая музыка. Кем эти курганы насыпаны, какие отшумевшие царства они увенчивают? Кто навеки засыпан там вместе со своими желаниями, страстями, ненавистью, любовью?
А закат пылает.
Где, на какой планете будут еще эти грандиозные фрески неба? Где еще будут чаровать человека могучие закаты степные? Каждый раз пробуждают фантазию хлопцев эти пылающие просторы запада, когда солнце, садясь, купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром, а высь неба играет переливами тончайших красок, и во всей природе есть что-то элегическое, прощальное, очищающее душу… Стоят они, двое друзей, на земле, которая была когда-то дном Сарматского моря, а потом, через миллионы лет, зазеленела тропическими джунглями, и водились здесь разные теплолюбивые твари, чьи потомки живут теперь только где-то на далеких континентах; а сейчас проносятся в небе реактивные самолеты со скоростью молнии, и эфир переполнен голосами и песнями людскими, а над морским заливом, что далеко врезается в степь, над покинутым крейсером восходит вечерняя звезда. Для них обоих это уже не просто звезда — это озаренная солнцем далекая планета. Сколько у них разговоров про эту планету, споров, догадок: она то покрыта для них сплошным океаном, то жаркой безводной пустыней, где нет жизни, а только бушуют вечно грозы ужасающей силы, то уже существуют на ней и живые организмы, подобные тем, которые были вот здесь, на земле, во времена палеозойской эры. Вечерняя голубая красавица, что раньше всех восходит на их горизонте и освещает степь, она словно бы объединяет их помыслы, и привлекает неизвестностью, и пробуждает в душе пьянящую жажду путешествий, полетов, открытий.
— Только это не для меня, — вырывается неожиданно у Сашка, который, опершись на костыли, не отрываясь, смотрит на звезду.
Не возьмут, дескать, с моими костылями в полеты… Это было так непохоже на него, веселого жизнелюба, который, кажется, никогда не знал грусти, никогда не думал о своем увечье. Его невольное, полное боли признание, столь внезапно вырвавшееся из глубины души, пронзило Виталия такой жалостью к Сашку, что он готов был собственной жизнью поделиться с другом, лишь бы исцелить Сашка, лишь бы тот был здоров физически, как здоров душой, чтобы и небо стало ему доступно, как тем реактивщикам, которые сейчас делают над степью высоченные «свечи»…
Пылающие громады туч на западе уже переплавляются в какие-то дирижабли; словно на гигантских стапелях, возникают там очертания строящихся кораблей, гигантских ракет, а солнце кует в своей мастерской все новые и новые корабли, и они уже пылают по горизонту празднично-чистые, сверкающие, стартово-нацеленные в неземные просторы.
— Привет мечтателям! — возвращает хлопцев на землю знакомый голос. Это все тот же вездесущий Гриня Мамайчук нарушает покой звездочетов, притормаживая возле них свой запыленный агитфургон. — Венеру созерцаете? Красками заката любуетесь? Не туда смотрите, птенцы!
— Куда хотим, туда и смотрим, — бормочет Виталий.
— Вон куда посмотрите.
Мамайчук кивает в противоположную сторону — на восток, уже потемневший, где на краю степного неба, снизу пробиваясь из мглы, то тут, то там перламутрово белеют тучи-«деды».
— Вон та, что за курганом громоздится, ничего вам не напоминает?
Одна туча вздымается над другими торчком. Высокая, белая, клубящаяся, как причудливо застывший в небе неподвижный… атомный гриб!
— Разве не похоже?
Притихшие, пораженные, стоят хлопцы.
 А Мамайчуков фургон уже тронулся, помчался в совхоз, потащил за собой в улочку разросшийся серый шлейф пыли.
Остановку фургон делает возле чайной, невдалеке от клумбы, где совхозный люд собирается после работы посидеть на скамейках, погуторить. Скамеек здесь несколько, но на них в эту пору всегда тесно от курильщиков, и кое-кто садится прямо вдоль кромки клумбы, спинами к высоким цветущим мальвам, что сейчас так и светятся в лучах предзакатного солнца своими розовыми чашками-лепестками.
И клумба эта и «пятачок» асфальта возле нее возникли благодаря настойчивости Лукии Назаровны и имеют, с ее точки зрения, значение принципиальное. По-вашему, ничего этот клочок асфальта не дает? По-вашему, этот «пятачковый» островок ничто в сравнении с морем чернозема, с маслянисто-черными реками раскисших на всю зиму и осень дорог, где в ту пору только и можно пробиваться тягачами? Лукия Назаровна иного мнения. Для того и проложен, для того и залит этот клочок асфальта, чтобы и свои и — главное — приезжие видели, что и мы здесь, в степях, не от темноты своей на тягачах трясемся, не по незнанию свои дороги всю зиму будто плантажными плугами пашем, разворачиваем, как окопы… Знаем и мы, как нужно жить, жаждут и наши моторы дорог асфальтированных, да только всего сразу не охватишь…
Каждое утро на этом «пятачке» можно видеть героя-севастопольца, бывшего бойца морской пехоты Мартына Мамайчука, сосредоточенно кормящего крошками разленившихся совхозных голубей. Герой-севастополец и сейчас здесь, скрежещет перед толпой на металлических своих колесиках, под которыми даже вдавливается асфальт, нагретый дневным зноем.
А Мамайчуков фургон уже тронулся, помчался в совхоз, потащил за собой в улочку разросшийся серый шлейф пыли.
Остановку фургон делает возле чайной, невдалеке от клумбы, где совхозный люд собирается после работы посидеть на скамейках, погуторить. Скамеек здесь несколько, но на них в эту пору всегда тесно от курильщиков, и кое-кто садится прямо вдоль кромки клумбы, спинами к высоким цветущим мальвам, что сейчас так и светятся в лучах предзакатного солнца своими розовыми чашками-лепестками.
И клумба эта и «пятачок» асфальта возле нее возникли благодаря настойчивости Лукии Назаровны и имеют, с ее точки зрения, значение принципиальное. По-вашему, ничего этот клочок асфальта не дает? По-вашему, этот «пятачковый» островок ничто в сравнении с морем чернозема, с маслянисто-черными реками раскисших на всю зиму и осень дорог, где в ту пору только и можно пробиваться тягачами? Лукия Назаровна иного мнения. Для того и проложен, для того и залит этот клочок асфальта, чтобы и свои и — главное — приезжие видели, что и мы здесь, в степях, не от темноты своей на тягачах трясемся, не по незнанию свои дороги всю зиму будто плантажными плугами пашем, разворачиваем, как окопы… Знаем и мы, как нужно жить, жаждут и наши моторы дорог асфальтированных, да только всего сразу не охватишь…
Каждое утро на этом «пятачке» можно видеть героя-севастопольца, бывшего бойца морской пехоты Мартына Мамайчука, сосредоточенно кормящего крошками разленившихся совхозных голубей. Герой-севастополец и сейчас здесь, скрежещет перед толпой на металлических своих колесиках, под которыми даже вдавливается асфальт, нагретый дневным зноем.
 — Ага, вот и мой неуправляемый… чертополох! — восклицает Мамайчук, увидев сына.
И по затуманенному взгляду его Гриня безошибочно угадывает, что батя уже тяпнул в буфете, свои законные «СПГ» — сто пятьдесят гвардейских.
— Почему же это я, татуня, чертополох?
— Чертополох!
— Чертополох до старости цветет… Это же я вас, батя, цитирую.
— Вишь, какой! — удивленно-грозно апеллирует отец к собравшимся. — Ты ему слово — он тебе десять!
— Наш совхозный битник, — степенно замечает толстый, с набрякшим лицом заведующий почтой.
— Ну да! От слова «бить»! — горячится отец. — Нужно бы, да некому!
— А за что? — удивляется Гриня. — Целый день вот мотался, не обедал.
— Толку, что ты мотался… Пустоцвет сам, и работа твоя пустая! Грош цена твоей работе!
— Конечно, это не то, что обогащать человечество щетками, скребками…
Это молодой Мамайчук намекает на один период в жизни отца, когда тот вместе с несколькими инвалидами принялся было делать в совхозной мастерской скребницы и железные щетки для ферм.
— Не те щетки мы делали! И скребки не те! — кричит отец, наливаясь гневом и поднимая к сыну одутловатое, покрытое густой щетиной лицо, тоже колючее и жесткое, будто железная щетка. — Не такие скребницы на вас нужны! Таких бы скребниц на ваши поганые души, чтобы коросту с них с кровью, со струпьями сдирали!
— Пой, батя, эта песня длинная, — говорит сын и, оставив отца, направляется в чайную.
Как только он заглянул в дверь, чья-то виновато сгорбленная спина метнулась на кухню — по всем признакам, это отбыл черным ходом товарищ Мажара, председатель рабкоопа. Ведь ничем природу не остановишь: молодая Гринина борода растет…
Все, с чем Гриня сталкивается в чайной, словно бы умышленно создано для того, чтобы вывести его из равновесия, из йоговской невозмутимости. В уголке, отделенном от зала марлевой занавеской, где пристроен умывальник, мокро, грязно. Полотенце висит на гвозде такое, что противно взять в руки. А еще противнее смотреть на того пьянчугу, что клюет в тарелку носом у дальнего столика в углу зала и что-то бормочет угрожающе: это Тамарин муж.
Здесь нужно самому себя обслуживать, всюду теперь самообслуживание, и из всех рабочих совхоза официантка делает исключение лишь для Мамайчука-старшего, как инвалида войны, ветерана. Что же касается Мамайчука-младшего, то… взяв алюминиевый поднос, Гриня подходит к раздаче, но и тут его встречает разочарование: этого нет, а то кончилось. Холодный жилистый гуляш да компот — вот все, что осталось на твою долю, и даже на это посягают мухи, от которых ты должен все время отбиваться. Немалой нужно обладать закалкой, чтобы при таких испытаниях твоей выдержки не стукнуть кулаком по столу и не потребовать книгу жалоб. А жаловаться хочется. На все: на гуляш, на полотенце, на тех вон репинских «Запорожцев», что, как и ловкие врали-охотники Перова, непременно украшают каждую степную чайную. Почему такая скудость воображения, такая ограниченность выбора? Всем чайным, какие только есть в районе, поставляет эти бездарные копии какой-то халтурщик из областного центра, с упорством маньяка продвигает свое эрзац-искусство в массы. И никто его не тянет в суд за халтуру!
Отведав гуляша, Гриня морщится: столько в нем перца, что во рту горит.
— Стронций подсыпаете вместо приправы? — обращается он к официантке Клаве, убирающей посуду со столов.
Эта Клава, старшая дочь Горпищенко, только и скрашивает мрачное заведение своими плавными движениями и терпеливой, для всех приветливой улыбкой. Она уже, кажется, привыкла к недовольству, к жалобам, к ворчанию и без крайней нужды не ввязывается с посетителями в пререкания. Всем не угодишь. Ругаются — помолчи. Грине же она просто сочувствует. Во рту жжет? Видно, ему достался сплошной перец, осевший на дно.
— Запей, Гриня, компотом… Оно и пройдет.
Грохот в углу привлек их внимание. Это техник по искусственному осеменению прогромыхал стулом по полу, чуть не упал, но кое-как снова обрел сидячее положение и снова клюет носом.
— Ничего же я ему, кроме компота, не давала, — оправдывается Клава, кивая в ту сторону, — а уже пьяный.
— Это он еще от спирта лабораторного, — угрюмо бросает Гриня.
Управившись с посудой, Клава присаживается напротив Грини, который все-таки заканчивает свой огненный гуляш.
— Где был, что видел, Гриня? — с любопытством расспрашивает она. — Скат, что ли, спустил по дороге или от чего другого такой невеселый вернулся?
— Скат — это мелочь бытия, Клава. Изучаю происхождение хамства людского, грубости, черствости, душевной глухоты. Бывает вот так — ни с того ни с сего возьмешь и обидишь человека. Вовсе не желая. Просто по хамству или по дурости. Человеку и так больно, а ты еще припечешь…
— Бывает, Гриня, бывает.
— И глупости — вот чего органически не выносит моя душа. Еду сегодня полями «Большевистского наступления», нигде ни души живой, дорога такая, что как будто после чумаков восемнадцатого столетия до меня никто по ней и не ездил. И вдруг среди просторов, среди безлюдья торчат у дороги… стенды. Огромные стенды, усеянные цифрами. Столько цифр, что в них сам счетно-электронный кибернетический черт ногу сломит. И это для меня. Чтоб я читал, схватывал на лету. И называется это: наглядная агитация. Скажи, Клава, для чего мы делаем это?
— Не знаю, — говорит она немного виновато.
— Для га-лоч-ки! Для отчета казенного… Потому привыкли так. А догматики, они и сегодня еще не перевелись. Тот лезет мысли твои проверять, а тот стенды малюет, помпезную арку какую-то строит в степи. Для кого, скажем, въездные арки в «Чабане»? Для каких триумфаторов? И вот, по иронии судьбы, мне нужно к ним ехать, перенимать опыт. Мне, чья кинопередвижка не знает устали, чьи киноленты ни разу не рвались. У меня в фургоне библиотека, у меня на вооружении — магнитофон. Еду, ставлю, записываю доярку… Вот стригут — слышите овечьи вопли?.. Вот доят — слышите, как звенит в подойнике молоко?.. Живой голос, а не таблицы бездыханные…
— Ты бы и нас когда-нибудь записал, — молвила мягким голосом Клава. — А то целый день, как в парной, в духоте, а чтобы душевным словом с кем перекинуться… Скорее обругают тебя ни за что. — Она почти с опаской взглянула в противоположный угол на техника по осеменению, который как раз глухо мычал, чего-то требуя.
— Запишу, запишу и тебя, Клава, — обещает Гриня, — и подругу твою запишу, — это он имеет в виду Тамару, — хотя она и связала себя с этим никчемным типом.
— Ох, не говори, Гриня!.. Не везет нам ни в любви, ни в облигациях…
— Любовь! Не смеши, Клава. Ты мыслишь отжившими понятиями. Сколько раз сама убегала к отцу от своего Тимохи, а еще толкуешь про любовь. Какая сейчас, в атомный век, может быть любовь?
— Погоди, еще сам узнаешь… Встретишь свою.
— Кажется, любовью называют вон то сидение по вечерам в парке, когда он сигарету сосет, а она млеет, склонившись на его грудную клетку? Да, это самое? Транзистор где-то в кармане или в пазухе за них говорит, а они сидят, молчат, прислушиваются к собственному телу. Слушают плоть! Голос инстинкта, крик пола — это теперь все.
— Видать, и у тебя, Гриня, любовная неудача, что ты так злишься… Скажи, запала в сердце какая-нибудь?
Только было Гриня, насупившись, принялся за компот, как в зал, проникнув откуда-то через кухню, растревоженная, влетела Тамара-зоотехник. Она приехала с дальнего участка, чтобы забрать своего забулдыгу. Не впервые же ей сюда так заходить — с тыла, через кухню, чтобы и люди не видели, чтобы не сгорать перед ними со стыда за своего непутевого мужа. Вот она, хрупкая, стройная, торопливо подошла к нему, наклонилась, как к больному, и уговаривает проникновенным, взволнованным голосом. Голос ее красив, музыкален, он так и льется лаской на пьянчугу… Неужели Тамара все-таки любит его? Неужели можно любить грязищу, уродство, мрак, окутанный алкогольным туманом психики? Или это сила супружеской гордости вынуждает ее так вот ездить, подбирать, приводить в порядок своего пропойцу, упорно искать человеческое достоинство там, где его и в помине нет? Для Грини просто загадка, как это она, Тамара, красивая дивчина, сама себя обрекла на то, чтобы сейчас унижаться перед этим никчемным, скотски грубым существом, которому она отдала себя. «Нет, это только самолюбие ее, — объясняет себе Гриня, — это оно гонит Тамару сюда, оно вынуждает идти, унизительно забирать из чайной своего пьяницу, чтобы только скрыть от людей его падение…» Клава тоже помогает подруге, советует ей что-то, а пьянчуга куражится уже на всю чайную.
— Отстань! Иди… — отмахивается он от Тамары и добавляет при этом такое слово, что даже Грине кажется, будто на него плеснули помоями.
А Тамара? Хоть пощечину ему отвесила? Нет, стоит, будто и не слышала оскорбления, только неловко ей, что есть свидетели этой сцены; она даже улыбнулась своей измученной улыбкой: не придавайте, мол, значения… Но Гриня придает. Встав, подходит к технику и, деликатно отстранив Тамару, крепко берет его за шиворот. Так и взял — одной рукой за загривок, а другой — железным обхватом — за запястье руки, поднял, поставил на ноги. Техник сразу очнулся и словно бы даже протрезвился.
— Ты… ты… ты разве дружинник?
— Я еще с колыбели дружинник, — процедил Гриня сквозь зубы и толкнул расслабленное тело к двери.
У косяка техник заартачился.
— Ты… не дружинник, — вякал он. — Не имеешь права…
Гриню это даже развеселило, он подмигнул Клаве и Тамаре.
— Как это не имею права? Ты меня просто не узнал!Перед тобой сын севастопольца! Внук махновца! Хавбек родной тебе совхозной команды!.. Так что извини уж! — Он с силой толкнул пьянчугу в узкий проход через кухню, и хотя техник и там упирался, спотыкался, падал, Мамайчук через минуту выволок испачканного мелом техника во двор. Там ждет спрятанная от людских глаз Тамарина двуколка. Запряженная гнедым, стоит она во дворе, как раз у помойной ямы.
— Сюда его, сюда, — повторяет Тамара беспокойно, суетливо и еще что-то ласково щебечет, пока Гриня нещадно втискивает в двуколку этот мешок пропитавшегося алкоголем человеческого тела.
— Спасибо тебе, — говорит Тамара, привычно сев в двуколку и берясь за вожжи. — Спасибо, что помог, — и впервые с тех пор, как Гриня знает ее, одаряет его, Гриню, взглядом такой горячей благодарности, такой нежности и красоты, что ему даже грустно становится после этого.
Некоторое время он стоит один.
— Боже, если ты есть, спаси мою душу, если она есть! — тихо восклицает Гриня, прислушиваясь к удаляющемуся клекоту двуколки.
Потом идет на «пятачок», где теперь стало еще многолюднее. Отец, как и раньше, вертится среди толпы на своей инвалидской дощечке с колесиком. Сын подходит к нему.
— Дай мне, батя, в зубы.
Это он на такой манер просит у отца закурить. И что самое удивительное, отец молча лезет твердыми, запекшимися пальцами в карман своей засаленной гимнастерки, из-под которой выглядывает на груди не менее замызганная матросская тельняшка, долго роется и, добыв наконец из кармана сигарету, подает сыну.
Лясы точит в этот момент Прошка Горбань. Прошка недавно демобилизовался и теперь работает на водокачке, а после работы, идя домой, никогда не упустит случая «покачать воду» и здесь. Легкий на слово, веселый, он любит, собрав толпу зевак, загнуть им из своего воинского прошлого что-нибудь ошеломляюще-разухабистое. Служба его якобы заключалась в том, что он с командой бойцов сопровождал важные грузы по железным дорогам страны, бывал и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке. Нелегко понять, где он врет, а где говорит правду, рассказывая, какие приключения случались в дороге с их боевой командой, да как жили они дружно, да в какие могучие тулупы одевались, стоя на посту ночью в тамбуре на жгучем сибирском морозе.
— А то еще добыли мы как-то в соседнем эшелоне несколько ящиков апельсинов и яблок — такие были краснобокие, наливные, высший сорт, — сверкает улыбка на измазанном лице Прошки. — И, клянусь, не мы пломбы срывали, кто-то до нас уже их поскручивал, а комендант накрыл на этом как раз нашу братву, так мы эти апельсины да яблоки — куда? Раз, раз — да в стволы пушек! Да брезентами сверху! А когда состав тронулся и комендант остался далеко, мы тогда к пушкам, открываем замки, а оттуда золотые да краснобокие наши ядра на платформу как сыпанут! Бери, братва, угощайся!.. Вокруг мороз, а оно под ноги тебе, словно бы только что с дерева: красное, свежее, еще и пахнет…
— Вот такими б ядрами только и стрелять, — задумчиво говорит дед Смык, столяр из мастерской. — На такую войну и я согласился бы.
— Вранье… Все вранье, — сердито говорит Мамайчук-инвалид, мотнув взлохмаченной головой и заскрежетав колесиками. — Сталью стреляют, рваным горячим железом, а не яблоками твоими пахучими!
— Теперь уже другие штуковины есть, — говорит завгар Семен Кухтий, пожилой отяжелевший мужчина. — Однажды ехал я к шефам, море да степь без конца. Смотрю, где-то там над морем стоит этакая катапульта. Куда там «катюшам»!.. Агрегат!
— Таких лучше не трогай, — угрожающе усмехается Прошка.
— А подумать, — тихо говорит дед Смык, — всей этой силой страшенной какой-нибудь сержант молоденький заведует.
— Что там заведовать, — машет рукой Прошка. — Команду дали, кнопку нажал — и все!
— Брехня, — поникнув головой, сердится Мамайчук-инвалид. — Кнопка… Возле кнопки тоже нужно с умом. Не всякий сможет. Ты вот этого заставь, сумеет ли. — Налитые оловом глаза поднимаются вверх, на сына.
— Сумел бы, не беспокойтесь, батя.
— А почему же военком возвращает тебя? Только остригут, да и получай, батька, сдачу… Пойдет в шерсти — вернется остриженный. Доколе они тебя стричь будут задаром?
— Я не отпрашивался. Возвращают из уважения к отцу-ветерану.
— Доведешь ты меня… Осенью скажу военкому, пускай забирает! С тебя там ворс малость повытрут.
— На волоске, на волоске весь мир держится, — бубнит свое дед Смык. — Тот, что стоит у них там возле кнопки… Или же с водородной бомбой целую ночь в воздухе летает… Разве ему долго до беды? Помутится ум, кто ему помешает нажать на кнопку?
— Пускай только попробует, — весело кивает в сторону моря Прошка. — Психанет он, психану и я!
— Веселенькие разговоры, — берется за велосипед комбайнер Грицюта.
А Мамайчук-младший, кольцами пуская в небо дым, добавляет злобно:
— Не люди, а гуси в наше время решают судьбу мира. Известно вам, что обыкновенные наши дрофы и дикие гуси на экранах локаторов изображение дают? Когда-то было в истории, что гуси Рим спасли, а теперь, наоборот, они могут не то что Рим — всю планету превратить в пепел! И после этого еще хотят, чтобы я был начинен оптимизмом…
— Вранье… Все вранье… — бормочет отец, и понуренная голова его вяло падает на грудь, на засаленные, облезлые колодки орденов. Обрубленное тело разморено, грузно оседает; кажется, он вот-вот пошатнется и свалится со своих колесиков.
Сын подхватывает его.
— Э! Пора, батя, спать.
И то, что он делает после этого, заставляет умолкнуть всех. Наклонившись, молодой Мамайчук, как ребенка, берет отца на руки, берет вместе с его колесиками и, твердо, осторожно ступая, несет к фургону, что стоит поблизости, за кустами тамариска. Отец и не противится, ему это не впервые; он лишь сонно что-то бормочет, склонив голову на плечо сына, который, идя со своей ношей сквозь заросли тамариска, раздвигает их мягкие ветви головой.
Прогромыхал фургон, уехали Мамайчуки, окутанные сухой красной пылью, а рабочие еще долго сидят приумолкшие, глядя на то место, где после колесиков севастопольца остались глубокие следы, хаотически вдавленные в размякший за день асфальт.
— Ага, вот и мой неуправляемый… чертополох! — восклицает Мамайчук, увидев сына.
И по затуманенному взгляду его Гриня безошибочно угадывает, что батя уже тяпнул в буфете, свои законные «СПГ» — сто пятьдесят гвардейских.
— Почему же это я, татуня, чертополох?
— Чертополох!
— Чертополох до старости цветет… Это же я вас, батя, цитирую.
— Вишь, какой! — удивленно-грозно апеллирует отец к собравшимся. — Ты ему слово — он тебе десять!
— Наш совхозный битник, — степенно замечает толстый, с набрякшим лицом заведующий почтой.
— Ну да! От слова «бить»! — горячится отец. — Нужно бы, да некому!
— А за что? — удивляется Гриня. — Целый день вот мотался, не обедал.
— Толку, что ты мотался… Пустоцвет сам, и работа твоя пустая! Грош цена твоей работе!
— Конечно, это не то, что обогащать человечество щетками, скребками…
Это молодой Мамайчук намекает на один период в жизни отца, когда тот вместе с несколькими инвалидами принялся было делать в совхозной мастерской скребницы и железные щетки для ферм.
— Не те щетки мы делали! И скребки не те! — кричит отец, наливаясь гневом и поднимая к сыну одутловатое, покрытое густой щетиной лицо, тоже колючее и жесткое, будто железная щетка. — Не такие скребницы на вас нужны! Таких бы скребниц на ваши поганые души, чтобы коросту с них с кровью, со струпьями сдирали!
— Пой, батя, эта песня длинная, — говорит сын и, оставив отца, направляется в чайную.
Как только он заглянул в дверь, чья-то виновато сгорбленная спина метнулась на кухню — по всем признакам, это отбыл черным ходом товарищ Мажара, председатель рабкоопа. Ведь ничем природу не остановишь: молодая Гринина борода растет…
Все, с чем Гриня сталкивается в чайной, словно бы умышленно создано для того, чтобы вывести его из равновесия, из йоговской невозмутимости. В уголке, отделенном от зала марлевой занавеской, где пристроен умывальник, мокро, грязно. Полотенце висит на гвозде такое, что противно взять в руки. А еще противнее смотреть на того пьянчугу, что клюет в тарелку носом у дальнего столика в углу зала и что-то бормочет угрожающе: это Тамарин муж.
Здесь нужно самому себя обслуживать, всюду теперь самообслуживание, и из всех рабочих совхоза официантка делает исключение лишь для Мамайчука-старшего, как инвалида войны, ветерана. Что же касается Мамайчука-младшего, то… взяв алюминиевый поднос, Гриня подходит к раздаче, но и тут его встречает разочарование: этого нет, а то кончилось. Холодный жилистый гуляш да компот — вот все, что осталось на твою долю, и даже на это посягают мухи, от которых ты должен все время отбиваться. Немалой нужно обладать закалкой, чтобы при таких испытаниях твоей выдержки не стукнуть кулаком по столу и не потребовать книгу жалоб. А жаловаться хочется. На все: на гуляш, на полотенце, на тех вон репинских «Запорожцев», что, как и ловкие врали-охотники Перова, непременно украшают каждую степную чайную. Почему такая скудость воображения, такая ограниченность выбора? Всем чайным, какие только есть в районе, поставляет эти бездарные копии какой-то халтурщик из областного центра, с упорством маньяка продвигает свое эрзац-искусство в массы. И никто его не тянет в суд за халтуру!
Отведав гуляша, Гриня морщится: столько в нем перца, что во рту горит.
— Стронций подсыпаете вместо приправы? — обращается он к официантке Клаве, убирающей посуду со столов.
Эта Клава, старшая дочь Горпищенко, только и скрашивает мрачное заведение своими плавными движениями и терпеливой, для всех приветливой улыбкой. Она уже, кажется, привыкла к недовольству, к жалобам, к ворчанию и без крайней нужды не ввязывается с посетителями в пререкания. Всем не угодишь. Ругаются — помолчи. Грине же она просто сочувствует. Во рту жжет? Видно, ему достался сплошной перец, осевший на дно.
— Запей, Гриня, компотом… Оно и пройдет.
Грохот в углу привлек их внимание. Это техник по искусственному осеменению прогромыхал стулом по полу, чуть не упал, но кое-как снова обрел сидячее положение и снова клюет носом.
— Ничего же я ему, кроме компота, не давала, — оправдывается Клава, кивая в ту сторону, — а уже пьяный.
— Это он еще от спирта лабораторного, — угрюмо бросает Гриня.
Управившись с посудой, Клава присаживается напротив Грини, который все-таки заканчивает свой огненный гуляш.
— Где был, что видел, Гриня? — с любопытством расспрашивает она. — Скат, что ли, спустил по дороге или от чего другого такой невеселый вернулся?
— Скат — это мелочь бытия, Клава. Изучаю происхождение хамства людского, грубости, черствости, душевной глухоты. Бывает вот так — ни с того ни с сего возьмешь и обидишь человека. Вовсе не желая. Просто по хамству или по дурости. Человеку и так больно, а ты еще припечешь…
— Бывает, Гриня, бывает.
— И глупости — вот чего органически не выносит моя душа. Еду сегодня полями «Большевистского наступления», нигде ни души живой, дорога такая, что как будто после чумаков восемнадцатого столетия до меня никто по ней и не ездил. И вдруг среди просторов, среди безлюдья торчат у дороги… стенды. Огромные стенды, усеянные цифрами. Столько цифр, что в них сам счетно-электронный кибернетический черт ногу сломит. И это для меня. Чтоб я читал, схватывал на лету. И называется это: наглядная агитация. Скажи, Клава, для чего мы делаем это?
— Не знаю, — говорит она немного виновато.
— Для га-лоч-ки! Для отчета казенного… Потому привыкли так. А догматики, они и сегодня еще не перевелись. Тот лезет мысли твои проверять, а тот стенды малюет, помпезную арку какую-то строит в степи. Для кого, скажем, въездные арки в «Чабане»? Для каких триумфаторов? И вот, по иронии судьбы, мне нужно к ним ехать, перенимать опыт. Мне, чья кинопередвижка не знает устали, чьи киноленты ни разу не рвались. У меня в фургоне библиотека, у меня на вооружении — магнитофон. Еду, ставлю, записываю доярку… Вот стригут — слышите овечьи вопли?.. Вот доят — слышите, как звенит в подойнике молоко?.. Живой голос, а не таблицы бездыханные…
— Ты бы и нас когда-нибудь записал, — молвила мягким голосом Клава. — А то целый день, как в парной, в духоте, а чтобы душевным словом с кем перекинуться… Скорее обругают тебя ни за что. — Она почти с опаской взглянула в противоположный угол на техника по осеменению, который как раз глухо мычал, чего-то требуя.
— Запишу, запишу и тебя, Клава, — обещает Гриня, — и подругу твою запишу, — это он имеет в виду Тамару, — хотя она и связала себя с этим никчемным типом.
— Ох, не говори, Гриня!.. Не везет нам ни в любви, ни в облигациях…
— Любовь! Не смеши, Клава. Ты мыслишь отжившими понятиями. Сколько раз сама убегала к отцу от своего Тимохи, а еще толкуешь про любовь. Какая сейчас, в атомный век, может быть любовь?
— Погоди, еще сам узнаешь… Встретишь свою.
— Кажется, любовью называют вон то сидение по вечерам в парке, когда он сигарету сосет, а она млеет, склонившись на его грудную клетку? Да, это самое? Транзистор где-то в кармане или в пазухе за них говорит, а они сидят, молчат, прислушиваются к собственному телу. Слушают плоть! Голос инстинкта, крик пола — это теперь все.
— Видать, и у тебя, Гриня, любовная неудача, что ты так злишься… Скажи, запала в сердце какая-нибудь?
Только было Гриня, насупившись, принялся за компот, как в зал, проникнув откуда-то через кухню, растревоженная, влетела Тамара-зоотехник. Она приехала с дальнего участка, чтобы забрать своего забулдыгу. Не впервые же ей сюда так заходить — с тыла, через кухню, чтобы и люди не видели, чтобы не сгорать перед ними со стыда за своего непутевого мужа. Вот она, хрупкая, стройная, торопливо подошла к нему, наклонилась, как к больному, и уговаривает проникновенным, взволнованным голосом. Голос ее красив, музыкален, он так и льется лаской на пьянчугу… Неужели Тамара все-таки любит его? Неужели можно любить грязищу, уродство, мрак, окутанный алкогольным туманом психики? Или это сила супружеской гордости вынуждает ее так вот ездить, подбирать, приводить в порядок своего пропойцу, упорно искать человеческое достоинство там, где его и в помине нет? Для Грини просто загадка, как это она, Тамара, красивая дивчина, сама себя обрекла на то, чтобы сейчас унижаться перед этим никчемным, скотски грубым существом, которому она отдала себя. «Нет, это только самолюбие ее, — объясняет себе Гриня, — это оно гонит Тамару сюда, оно вынуждает идти, унизительно забирать из чайной своего пьяницу, чтобы только скрыть от людей его падение…» Клава тоже помогает подруге, советует ей что-то, а пьянчуга куражится уже на всю чайную.
— Отстань! Иди… — отмахивается он от Тамары и добавляет при этом такое слово, что даже Грине кажется, будто на него плеснули помоями.
А Тамара? Хоть пощечину ему отвесила? Нет, стоит, будто и не слышала оскорбления, только неловко ей, что есть свидетели этой сцены; она даже улыбнулась своей измученной улыбкой: не придавайте, мол, значения… Но Гриня придает. Встав, подходит к технику и, деликатно отстранив Тамару, крепко берет его за шиворот. Так и взял — одной рукой за загривок, а другой — железным обхватом — за запястье руки, поднял, поставил на ноги. Техник сразу очнулся и словно бы даже протрезвился.
— Ты… ты… ты разве дружинник?
— Я еще с колыбели дружинник, — процедил Гриня сквозь зубы и толкнул расслабленное тело к двери.
У косяка техник заартачился.
— Ты… не дружинник, — вякал он. — Не имеешь права…
Гриню это даже развеселило, он подмигнул Клаве и Тамаре.
— Как это не имею права? Ты меня просто не узнал!Перед тобой сын севастопольца! Внук махновца! Хавбек родной тебе совхозной команды!.. Так что извини уж! — Он с силой толкнул пьянчугу в узкий проход через кухню, и хотя техник и там упирался, спотыкался, падал, Мамайчук через минуту выволок испачканного мелом техника во двор. Там ждет спрятанная от людских глаз Тамарина двуколка. Запряженная гнедым, стоит она во дворе, как раз у помойной ямы.
— Сюда его, сюда, — повторяет Тамара беспокойно, суетливо и еще что-то ласково щебечет, пока Гриня нещадно втискивает в двуколку этот мешок пропитавшегося алкоголем человеческого тела.
— Спасибо тебе, — говорит Тамара, привычно сев в двуколку и берясь за вожжи. — Спасибо, что помог, — и впервые с тех пор, как Гриня знает ее, одаряет его, Гриню, взглядом такой горячей благодарности, такой нежности и красоты, что ему даже грустно становится после этого.
Некоторое время он стоит один.
— Боже, если ты есть, спаси мою душу, если она есть! — тихо восклицает Гриня, прислушиваясь к удаляющемуся клекоту двуколки.
Потом идет на «пятачок», где теперь стало еще многолюднее. Отец, как и раньше, вертится среди толпы на своей инвалидской дощечке с колесиком. Сын подходит к нему.
— Дай мне, батя, в зубы.
Это он на такой манер просит у отца закурить. И что самое удивительное, отец молча лезет твердыми, запекшимися пальцами в карман своей засаленной гимнастерки, из-под которой выглядывает на груди не менее замызганная матросская тельняшка, долго роется и, добыв наконец из кармана сигарету, подает сыну.
Лясы точит в этот момент Прошка Горбань. Прошка недавно демобилизовался и теперь работает на водокачке, а после работы, идя домой, никогда не упустит случая «покачать воду» и здесь. Легкий на слово, веселый, он любит, собрав толпу зевак, загнуть им из своего воинского прошлого что-нибудь ошеломляюще-разухабистое. Служба его якобы заключалась в том, что он с командой бойцов сопровождал важные грузы по железным дорогам страны, бывал и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке. Нелегко понять, где он врет, а где говорит правду, рассказывая, какие приключения случались в дороге с их боевой командой, да как жили они дружно, да в какие могучие тулупы одевались, стоя на посту ночью в тамбуре на жгучем сибирском морозе.
— А то еще добыли мы как-то в соседнем эшелоне несколько ящиков апельсинов и яблок — такие были краснобокие, наливные, высший сорт, — сверкает улыбка на измазанном лице Прошки. — И, клянусь, не мы пломбы срывали, кто-то до нас уже их поскручивал, а комендант накрыл на этом как раз нашу братву, так мы эти апельсины да яблоки — куда? Раз, раз — да в стволы пушек! Да брезентами сверху! А когда состав тронулся и комендант остался далеко, мы тогда к пушкам, открываем замки, а оттуда золотые да краснобокие наши ядра на платформу как сыпанут! Бери, братва, угощайся!.. Вокруг мороз, а оно под ноги тебе, словно бы только что с дерева: красное, свежее, еще и пахнет…
— Вот такими б ядрами только и стрелять, — задумчиво говорит дед Смык, столяр из мастерской. — На такую войну и я согласился бы.
— Вранье… Все вранье, — сердито говорит Мамайчук-инвалид, мотнув взлохмаченной головой и заскрежетав колесиками. — Сталью стреляют, рваным горячим железом, а не яблоками твоими пахучими!
— Теперь уже другие штуковины есть, — говорит завгар Семен Кухтий, пожилой отяжелевший мужчина. — Однажды ехал я к шефам, море да степь без конца. Смотрю, где-то там над морем стоит этакая катапульта. Куда там «катюшам»!.. Агрегат!
— Таких лучше не трогай, — угрожающе усмехается Прошка.
— А подумать, — тихо говорит дед Смык, — всей этой силой страшенной какой-нибудь сержант молоденький заведует.
— Что там заведовать, — машет рукой Прошка. — Команду дали, кнопку нажал — и все!
— Брехня, — поникнув головой, сердится Мамайчук-инвалид. — Кнопка… Возле кнопки тоже нужно с умом. Не всякий сможет. Ты вот этого заставь, сумеет ли. — Налитые оловом глаза поднимаются вверх, на сына.
— Сумел бы, не беспокойтесь, батя.
— А почему же военком возвращает тебя? Только остригут, да и получай, батька, сдачу… Пойдет в шерсти — вернется остриженный. Доколе они тебя стричь будут задаром?
— Я не отпрашивался. Возвращают из уважения к отцу-ветерану.
— Доведешь ты меня… Осенью скажу военкому, пускай забирает! С тебя там ворс малость повытрут.
— На волоске, на волоске весь мир держится, — бубнит свое дед Смык. — Тот, что стоит у них там возле кнопки… Или же с водородной бомбой целую ночь в воздухе летает… Разве ему долго до беды? Помутится ум, кто ему помешает нажать на кнопку?
— Пускай только попробует, — весело кивает в сторону моря Прошка. — Психанет он, психану и я!
— Веселенькие разговоры, — берется за велосипед комбайнер Грицюта.
А Мамайчук-младший, кольцами пуская в небо дым, добавляет злобно:
— Не люди, а гуси в наше время решают судьбу мира. Известно вам, что обыкновенные наши дрофы и дикие гуси на экранах локаторов изображение дают? Когда-то было в истории, что гуси Рим спасли, а теперь, наоборот, они могут не то что Рим — всю планету превратить в пепел! И после этого еще хотят, чтобы я был начинен оптимизмом…
— Вранье… Все вранье… — бормочет отец, и понуренная голова его вяло падает на грудь, на засаленные, облезлые колодки орденов. Обрубленное тело разморено, грузно оседает; кажется, он вот-вот пошатнется и свалится со своих колесиков.
Сын подхватывает его.
— Э! Пора, батя, спать.
И то, что он делает после этого, заставляет умолкнуть всех. Наклонившись, молодой Мамайчук, как ребенка, берет отца на руки, берет вместе с его колесиками и, твердо, осторожно ступая, несет к фургону, что стоит поблизости, за кустами тамариска. Отец и не противится, ему это не впервые; он лишь сонно что-то бормочет, склонив голову на плечо сына, который, идя со своей ношей сквозь заросли тамариска, раздвигает их мягкие ветви головой.
Прогромыхал фургон, уехали Мамайчуки, окутанные сухой красной пылью, а рабочие еще долго сидят приумолкшие, глядя на то место, где после колесиков севастопольца остались глубокие следы, хаотически вдавленные в размякший за день асфальт.
Предчувствие океана
Единственное на весь совхоз двухэтажное здание средней школы возвышается над темной зеленью парка, издалека видны в степи его большие окна и голубой фронтон. Как улей, гудит школа зимой, всю весну ее двор наполнен детским гамом, пока не настанет наконец тот день, когда для десятиклассников прозвучит их последний звонок. Тогда малыш-первоклассник в восторге будет долго трезвонить в коридоре тяжелым колокольчиком. А они, завтрашние выпускники, примолкнут, с затаенным волнением вслушиваясь в знакомое дребезжание, которое столько лет созывало их в класс, а вот теперь звучит прощально и наполняет душу предчувствием чего-то нового, неизведанного. Вот и прошло напряжение экзаменов. Наступил выпускной вечер, столы из физического кабинета уже вытащены во двор и расставлены под деревьями, тут же пристроена и клубная радиола для танцев. Правда, она пока молчит, потому что весь шум еще на втором этаже школы, откуда через открытые настежь окна то и дело долетают аплодисменты: там вручают аттестаты зрелости. А когда утихнут аплодисменты, отзвучат слова напутствий и поздравлений, когда отличница Алла Ратушная всхлипнет, прощаясь от имени всех одноклассников с родной школой и учителями, а директор совхоза Пахом Хрисанфович своим скрипучим голосом пообещает выпускникам в благодарность за их активное участие в производстве дать грузовик для экскурсии, — после всего этого участники вечера высыплют во двор, и Гриня Мамайчук, ответственный за радиолу, как сюрприз для виновников торжества, заведет ту самую мелодию, под которую Земля провожала Гагарина в полет. И как это здорово получается: выпускники, родители и учителя — все слушают знакомую мелодию, а из-за совхозного парка восходит месяц; и хоть он почти полный, но все равно этого небесного фонаря сегодня для них недостаточно, и вот под звуки музыки раздается шутливая команда директора школы Павла Юхимовича: — Свет! И тут же слышится мальчишеское, озорное: — Есть свет! И сразу все ослеплены, как вспышкой киноюпитеров, потоком яркого света от множества электроламп, которые днем гроздьями навесили на деревья Кузьма и Виталий, главные осветители сегодняшнего торжества. Музыка льется, а члены родительского комитета уже приглашают людей к столу; долговязый майор Яцуба в тщательно выглаженном костюме из китайской чесучи, с вдохновением в холодных глазах, энергично распоряжается, распределяет места, внося поправки на ходу. После неизбежных в таких случаях колебаний и замешательств участники вечера в конце концов рассаживаются, чинно занимают места за лабораторными столами, на которых сегодня поставлены не колбы и реторты, а буфетные деликатесы и бутылки с лимонадом. Поодаль от столов под кустами лоснятся, правда, и бочонки с вином своего совхозного производства, но они пока еще пребывают на каком-то полулегальном положении, ибо майор Яцуба, как член родительского комитета, до последнего момента был категорически против хмельных напитков на школьном вечере и, кажется, только в последнюю минуту смягчился, когда узнал, что дочка его Лина получила серебряную медаль. А это событие! Поглядев на отставного майора со стороны, можно подумать, что он сам лично получил эту медаль, — так горделиво, уверенно держится его седая голова на длинной вытянутой шее. Радость отца усиливается еще и тем, что медаль, доставшаяся Лине, выскользнула из рук другого претендента — Лукииного сына, который перед самым финишем на чем-то споткнулся, схватил пару четверок и получил не медаль, а дулю в нос! Такой поворот дела просто осчастливил Яцубу, — пусть знает председатель рабочкома, как надо воспитывать своих детей! Лукию это, видимо, сильно задело, зато ее сын, этот радиохулиган, этот незадачливый «гений в трусиках», кажется, и в ус не дует, он вовсю улыбается, кого-то опять высмеивает в толпе ребят, которые стоят тут же и с ироническими гримасами разглядывают этикетки на бутылках лимонада (лимонад поставлен десятиклассникам как раз по предложению Яцубы). Майор чувствует в этих мальчишках какое-то насмешливое неуважение к нему лично, и хотя он сегодня и добр и великодушен, но когда в поле его зрения оказывается бесшабашный, веселый Лукиин скептик, или ротастый сын Осадчего, ростом уже перегнавший отца, или, наконец, неприязненно учтивый Стасик-переселенец в вышитой гуцулке, то густые брови Яцубы невольно сдвигаются, а взгляд становится тяжелым, сверлящим.
Дочку свою Яцуба посадил так, чтобы она была на виду, у него на глазах. Да, наконец, как медалистка, она имеет теперь полное право сидеть ближе всех к поперечному столу, за которым размещается, так сказать, президиум сегодняшнего вечера.
Лина, худощавая, серьезная девушка, с большими, как у отца, блестящими глазами, сегодня не в стандартной школьной форме с передничком, а, как и большинство девушек, в белом выпускном платье, из выреза которого выступают остренькие ключицы. Медаль далась Лине нелегко: под глазами подковами залегла синева. По несвободной, скованной позе девушки видно, что она все еще сильно возбуждена и как бы сама еще не верит и своей медали, и своему первенству. Ее темные, широко открытые глаза смотрят на отца словно с испугом; этим взглядом, и красивым изгибом шеи, и даже ключицами, которые как-то непривычно беззащитно выглядывают из выреза платья, она сейчас удивительно похожа на свою мать в молодости. Теперь у нее уже не мать, а мачеха: первую жену майор Яцуба похоронил еще на Севере.
Полжизни Яцубы прошло там, где вечная мерзлота и полугодовые ночи, где его власть над лагерным людом была почти безграничной. Люди, поступавшие под его руку, были преступниками, клеймо преступлений проклятием лежало на них, делало их бесправными, обрекало на полное и безусловное повиновение. И хотя позже выяснилось, что большинство из них было заговорщиками заговоров, сфабрикованных диверсантами без диверсий, шпионами без шпионажа и все их собственные признания были лишь плодом чьей-то больной фантазии или собственного кровавого бреда, однако не ему, Яцубе, было разбираться тогда, кто из них виноват, а кто невиновен. Его делом было неуклонно выполнять свои обязанности; и он их выполнял. И вряд ли кто скажет, что он, «гражданин начальник», как его там называли, действовал противозаконно, давал кому-нибудь карцер ни за что. Хорошо поработаешь — получишь от лагерного начальника двойную пайку хлеба, перевыполнишь норму — он тебе еще и «премблюдо» в виде тарелки сырой картошки даст, и ты можешь распоряжаться ею сам, по собственному усмотрению.
Там, в суровых просторах Севера, в тяжелые лагерные ночи увидели свет все три его дочки. Подрастая, они не знали, что такое виноград, они не умели есть яблоки, зато сызмальства привыкли грызть сырую картошку, дававшую им витамины. И когда наконец Яцуба вынужден был уйти в отставку и переехал, как пенсионер, сюда, то Лина, его любимица, нередко и тут, в краю южного изобилия, среди бахчей и виноградников, принималась грызть зубками сырую картошку, вызывая смех у совхозных детей.
Ради своей Лины отец готов хоть на дыбу, он ничего для нее не жалеет, дома все подчинено одному — здоровью Лины и ее учебе. Не может девушка пожаловаться и на свою мачеху, бывшую лагерную фельдшерицу, которая ни в чем не перечит не только Яцубе, но и его дочке.
К Лине мачеха неизменно внимательна и даже предупредительна с нею, и скорее она сама могла бы упрекнуть падчерицу за упорную ледяную холодность, которой Лина словно хотела наказать мачеху за грех ее любви к отцу. Она не может им обоим простить того, что близость между ними возникла, когда тяжело больная мать была еще жива. Этот холод и внутреннюю отчужденность отец улавливает в глазах Лины и сейчас, хотя она прикрыта внешне как бы напуганностью. Даже в этот вечер, когда руки ее так трепетно принимали серебряную медаль и аттестат зрелости, она почти не оживилась, не повеселела, ее сердце не оттаяло после вчерашней ссоры с отцом. Ссора возникла из-за пустяка — речь зашла об оформлении документов для паспорта, и отец имел неосторожность предложить дочке переменить имя: настоящее ее имя было, собственно, не Лина, а Сталина. Этот совет отца переименоваться Лина-Сталина восприняла бурно, она вскипела и раздраженно бросила:
— Я вам не колхоз, чтобы меня переименовывать! Раньше надо было думать!
И в самом деле, почему не подумал? Но ведь все казалось таким твердым и надежным, рассчитанным на тысячелетия… А тут едва до паспорта доросла, и уже осложнения. Выходит, что сам ты виновник этого пусть маленького, а все-таки пятнышка, которое останется на ее биографии, во всех ее будущих анкетах. Это непременно надо поправить, все, что касается дочери, должно быть чистым; ее чистотой он как бы хочет защитить и самого себя, отгородиться ею от прошлого, от лагерей, преступлений, от всего, что чем дальше, тем больше начинает тяготить, угнетать.
Все присутствующие уселись за столы. Директор школы, поднявшись, просит внимания. Но в это время появляется еще один желанный гость, за которым бегала целая делегация девчат выпускного класса: капитан Дорошенко. Тоня и ее подруги, пригласившие капитана, так и сияют — глядите, мол, кого привели!
Дорошенко приветливо и неторопливо здоровается со всеми. В своей морской фуражке и белом кителе он производит приятное впечатление бодрого и сильного человека. Впрочем, всякий раз, когда он приезжает к матери, он предстает перед всеми именно таким: свежим, подтянутым, щедро омытым тропическими ливнями, загоревшим под южным, нездешним солнцем, овеянным ароматами далеких морей. Капитана усаживают на почетном месте — между Лукией Назаровной и директором школы, а майор Яцуба через головы людей протягивает руку капитану — они ровесники, когда-то в комсомолии рядом начиналась их юность.
— Вновь сходятся наши дороги, Иван! — громко говорит Яцуба. — А надолго ж они разошлись! Пока ты плавал по чужим морям, по кабаре да по шантанам сигарами дымил, мы тут культы созидали да сами же их и разваливали…
Перехватив серьезный взгляд дочери, Яцуба с гордостью указывает на нее капитану:
— Вот моя медалистка, и по учебе первая, и цветы выращивает — земли не чуждается… Еще и на инструменте играет!
Наклоном головы капитан приветствует девушку, досадливо нахмурившуюся от этой неуместной отцовской похвалы; так же здоровается он и с хлопцами-выпускниками, между которыми как раз втискиваются и их одноклассницы, те самые, что ходили за капитаном. С ироническими усмешками берут хлопцы бутылки ситро и лимонада, которые педагогично выстроились вдоль стола, наливают этот детский напиток сначала себе, потом девчатам, а одна из них — игривая такая смуглянка, почувствовав на себе взгляд капитана, шутливо предостерегает кавалеров:
— Только не очень перепивайтесь, хлопцы, а то не с кем будет танцевать!
Лукия, нагнувшись к капитану, чуть слышным шепотом поясняет ему, что это дочка Горпищенко-чабана.
— Ох, и сорвиголова! Кто-то от нее натанцуется…
И при этих словах она невольно бросает быстрый беспокойный взгляд на своего Виталика, который, съежившись, сидит рядом с Тоней.
— Ах, вон оно что… — улыбается капитан своей догадке.
Ему нравится эта юная пара. Паренек сидит чуть смущенный соседством с нею, с этой юной школьной красавицей, а она так и постреливает кругом блестящими, как подернутая росой вишня, глазами, не может усидеть и минутки спокойно, смеется, слегка кокетничает, чувствуя, что хороша и что ей сегодня дозволено покрасоваться, распустив волнистые волосы по плечам.
— Славный у тебя сын, Лукия, — говорит капитан, задерживаясь взглядом на Виталике. Ему так хотелось бы узнать, что скрывается за этим упрямым мальчишеским лбом под выцветшим соломенным чубом, из-под которого то и дело весело поблескивают искорки зорких глаз. — А будто бы только вчера я его на руках держал…
Рядом с Тоней и Виталием — их одноклассники, не всех уже узнает капитан. Чей тот? А чья эта? Растут как из воды! Сколько разоряли этот край, сколько истязали людей!.. Цветущую молодежь, вот таких же, как эти, совсем юных сынов и дочерей народа, подростков, почти детей, вылавливали в степях и в вагонах с решетками отправляли на Запад, выжигали на руках и в сердцах невольничьи клейма… Скольким старшим сестрам и братьям вот этого младшего поколения так и не суждено было вернуться из фашистских каменоломен, с каторги подземных заводов, из концлагерей, овеянных смрадом кремационных печей!.. А жизнь идет вперед, новой красотой расцветает степь. И как бы в ответ всем обанкротившимся завоевателям мира, звучит ныне молодой смех, бушует под звездным небом веселье этих жизнерадостных, опаленных солнцем юных степняков и степнячек… Налитые здоровьем, широкобровые, с крепкими руками, познавшими радость труда, с чувством собственного достоинства, которое пробивается в каждом, все они пока как бы в брожении: то вдруг станут серьезными, то снова беспечно рассмеются, как дети, вспоминая что-то комичное, вроде того случая, когда впервые вошли в эту свою школу-новостройку, а в ней еще пахло тогда свежей краской и к чему ни притронешься — все липнет. Помнится, тогда на уроке физкультуры в спортивном зале физрук скомандовал:
— Нале-во!
А никто не мог повернуться налево: пятки прилипли к полу!
— Нале-во! Напра-во!
А они продолжали стоять, словно прикованные к месту, а потом все сразу вдруг расхохотались. Не выдержал и учитель, тоже рассмеялся, так и не сумев повернуть их ни направо, ни налево.
Вспомнили они это забавное происшествие, посмеялись и снова притихли… Задумчивы хлопцы, задумчивы и девчата, и эта задумчивость делает их как бы взрослее, словно переносит каждого в завтрашний день, в тот иной мир, из которого к ним пока что долетает одна только музыка. В их возрасте он, капитан, уже плавал поваренком на байде, возил арбузы в Одессу. Рано ему пришлось пройти школу житейской закалки. Самой заветной мечтой тогда было побывать в кругосветном плавании. И вот побывал, пронес знамя революции по всем океанам и снова вернулся на родной берег. С разными людьми встречался, за разными столами сидел Дорошенко в своей кочевой жизни, но нигде он не чувствовал себя так покойно и хорошо, как здесь, в этом обществе, где он может вдоволь любоваться красотой своих степных орлят, видеть, как за другим концом стола уже поднимается чабан Горпищенко с крепкой граненой чаркой в руке.
— За ваше здоровье, дети! — провозглашает он. — Чтоб были вы счастливы да чтоб войны на вас не было!
Булькает, переливаясь из бочонка в графины, доставленное из совхозных подвалов вино. Вот уже и перед хлопцами-выпускниками стоит наполненный мутной жидкостью графин, — то вино бродит в нем своей молодостью! Запротестовать бы Яцубе, но тут и Яцуба в приливе великодушия отступает от правила.
— Ну, на этот раз, пожалуй… по шкалику можно. Как представитель родительского комитета, разрешаю.
Хлопцы растроганы, шепотом произносят тост за «нашего родного Держиморду» и выпивают, а длинная шея Яцубы еще больше вытянулась, большой хрящеватый кадык энергично ходит вверх и вниз, голос звучит громко, отливая металлом, — законодатель стола не забывает о том, что нельзя выпускать инициативу из своих рук, он везде распоряжается, пытается организовать настроение, одного призывает выступить, другого, наоборот, придерживает. Даже сам директор школы, оглушенный голосом соседа, как-то притих, добровольно уступив отставнику свои права. Не под силу только оказалось Яцубе прибрать к рукам чабанское крыло стола, где снова встает нахохлившийся, властный, взлохмаченно-седой Горпищенко и, сам предоставив себе слово, провозглашает здравицу за моряка, за капитана, который «выполнил плавание кругосветное».
Тост чабана поддерживается одобрительным гулом и знакомым перезвякиванием вдоль всего стола, а сам чабан и после этого не садится. Намолчавшись в степи, он сейчас хочет поговорить и рассказывает о том, как он тоже, собственно, побывал в кругосветном странствовании, хотя и проделал его не по воде, а по суше. Все заинтересованы, всех заинтриговал старик. Кто-то из чабанов выражает свое недоверие:
— Да когда же это ты успел вокруг света?
И Горпищенко объясняет, что было это во время эвакуации, а начиналось в Чолбасах, где перед отправкой чабаны гуртовались в кучегурах[4] с отарами.
— И как тронулся я с овечками тогда с чолбасовских кучегур, так лишь на другое лето опять с такими же кучегурами повстречался. «Где же это я? — думаю. — Не в Чолбасах ли снова очутился, земной шар с отарой обогнул!» — «Нет, говорят, ты в Азии, это азиатские пески вокруг». А я все свое: «Вот тебе, думаю, шел-шел — и снова в Чолбасы пришел!..»
— Да да, у меня татко в самом деле кругосветник! — воскликнула, весело сверкнув глазами на капитана и своих одноклассников, Тоня.
Тем временем Яцуба, улучив момент затишья, встает и обращается к выпускникам с обстоятельным напутствием от родительского комитета. Особенно настойчиво призывает он хлопцев, переступая Рубикон в самостоятельную жизнь, не поддаваться влиянию хулиганов, не безобразничать, быть дисциплинированными и трудолюбивыми, по возможности избегать алкоголя и табака.
— А то теперь — только отстал от соски, как уже хватается за папиросу. В наше время, помнишь, Иван, какие были методы воспитания? — обращается он за поддержкой к капитану Дорошенко. — Помню, еще пастушком был при отаре, надумал закурить, а спичек нет. Смотрю, человек по степи едет, кричу ему: «Дядько, дайте прикурить!» А он: «Подойди ближе, сынок…» Подхожу, а он кнутом ка-ак полоснет! Полоснул раз, полоснул другой! Так угостил, что и до сих пор не курю!
Слушая майора, хлопцы украдкой под столом пожимают друг другу руки, дают полушепотом коллективную клятву, что будут жить правильно, на виноград майора зариться не станут и пальцем не притронутся к его калитке, по которой хозяин ночью будто бы электрический ток пропускает…
— Вы вот там перешептываетесь, насмехаетесь над старшими, — бледнея, говорит Яцуба. — Для вас мы — культовики, а ведь, может, и наша жизнь не напрасной была, для вашего же счастья фундамент закладывали…
И, заставив этим молодежь примолкнуть, Яцуба начинает рассказывать про знаменитое событие этого края, про известное восстание батраков в Британах в конце двадцатых годов — одним из руководителей этой стачки был и он, молодой тогда батрацкий деятель Яцуба.
— Первая в истории забастовка, поддержанная Советской властью! — с гордостью восклицает майор. — А как мы ее организовали! На весь мир прогремела! Разве я не правду говорю? — обращается он к капитану Дорошенко за подтверждением, и тот с улыбкой легким кивком головы свидетельствует: да, мол, было, было…
Поощренный вниманием, Яцуба страстно, горячо, как о чем-то совсем близком и еще не угасшем в памяти, рассказывает молодым людям о тех незабываемых днях, когда днепровские батраки-пикетчики, бросив одновременно работу, с красными повязками на рукавах круглосуточно дежурили на плантациях; целыми ночами заседал стачечный комитет. К каким хитростям тогда пытались прибегать арендаторы, чтобы сломить волю забастовщиков! Мировая капиталистическая печать подняла тогда ужасный шум, изображала концессионеров-виноделов невинными овечками, жертвами большевистской травли.
— А в действительности кто они были, все те люччини, бертье, гоасы, шульцы?
Побледневший, разволновавшийся Яцуба так и сыплет именами своих давних классовых врагов, иностранноподданных концессионеров, которые, владея огромными виноградными плантациями на берегах Днепра, были, мол, не столько арендаторами, сколько шпионской агентурой, специально засылавшейся на Украину чужеземными державами.
— Вы спросите, где же были мы, почему это им удавалось? А потому удавалось, что сверху им оказывали поддержку троцкисты и бухаринцы, осевшие тогда в разных земельных и финансовых органах. Зато уж для них арендаторы не скупились: вагонами отправлялось вино из хозяйских погребов и в Харьков и в Москву. А за границу? Помнишь, Иван? Отправляют партию шампанского, а между вином в порожних темных бутылках посылают буржуазии и разные шпионские данные про нас.
— Этого я что-то не припоминаю, — шутливым тоном замечает Дорошенко.
— Ну, где тебе припомнить! — недобро блеснул Яцуба своею стальнозубой усмешкой. — Сам полжизни — по заграницам! Может, еще с ними же и распивал это шампанское, которое мы здесь давили?
— Может, и распивал…
— То-то же! Долго бывать в далеких плаваниях — это, брат, того… Сам не заметишь, как чужим духом надышишься, иных наберешься привычек и обычаев…
— Кажется, ты немало общался с карманными ворами, — взглянула на Яцубу Лукия, — а все же сам карманником не стал?
Громкий хохот, прозвучавший после этого, не сбил Яцубу с панталыку. Он переждал, крепко сжав губы, и, верно, собирался еще говорить, но дочь поглядела на него через стол с мольбой и досадой.
— Хватит уже, хватит!..
И поморщилась, как от боли.
Только после этого Яцуба сел.
Лина, понурившись, думала об отце, о его рассказе, который она слышит не впервые. Хоть она и знала, что все это чистейшая правда — отец ее действительно был когда-то батрацким вожаком во время стачки, ходил пикетчиком с красной повязкой, охраняя плантации, где несобранный виноград на корню перезревал, лопался и гнил, знала, что отец заслуги свои может перед кем угодно засвидетельствовать документами, — однако сейчас она никак не могла освободиться от чувства досады, не до конца осознанного раздражения. Во всех отцовских поучениях ей слышалось нечто такое, что внутренне всякий раз коробило ее. «Верю, верю твоим заслугам, — хотелось ей сказать, — но если ты был таким борцом тогда, то как же ты мог впоследствии все это растерять, забыть, как мог примириться с тем злом, которое окружало тебя, а порой и привлекало в сообщники?»
Лина знает, как самозабвенно любит ее отец. Он и сюда, на степной юг, переехал главным образом потому, что она часто болела, а он хотел обеспечить ей сухой воздух, солнце, душистое лето. Все это он ей дал, все у нее есть, она стала физически здоровой и школу закончила с медалью, овладев знаниями, которые предусмотрены школьной программой. Но всем своим существом она жаждет постичь еще одну науку, может, самую глубокую науку о том, как надо жить человеку, чтобы никогда не грызла совесть, чтоб не было стыдно за тебя твоим детям… Разве нормально, что Лине то и дело приходится стыдиться своего отца, что ее постоянно раздражает его уверенность в собственной непогрешимости, стремление перевоспитать всех на свой лад, все регламентировать, каждому навязать свои представления, привычки, вкусы?..
Поймав усмешку на лице кого-нибудь из хлопцев, он уже придирается:
— Ты не ухмыляйся, милейший, не ухмыляйся, слушай, когда старшие говорят…
И снова апеллирует к капитану:
— Все высмеивают, все критикуют! Сам еще недоросль, а уже наводит критику… Слишком много вас таких! — все громче кричит отец.
И Лина вынуждена заметить ему:
— Не кричи.
— Я не кричу! Это у меня голос такой!
Но она повторяет с нажимом:
— Не кричи…
И в ее голосе слышатся уже такие нотки, которые заставляют отца умолкнуть. Он с удивлением впивается в нее своими глубоко посаженными темными глазами. Лина не отводит взгляда, и отец читает в нем что-то похожее на непокорность, только не может толком понять, откуда это? Вообще сегодня он просто не узнает ее. Неужели аттестат придал ей дерзости? Делает замечания, пьет вино, с независимым видом цедит эту молодую муть, которую ей подливают сидящие по соседству хлопцы. Вот так сразу, в один вечер она как бы стала совершеннолетней; и майор чувствует, что этот пронизывающе-придирчивый взгляд начинает его тревожить, он как бы вытягивает что-то из глубоких тайников его жизни, о чем-то напоминает, ведет дознание о том, что он предпочел бы навсегда, бесповоротно забыть.
А на другом конце стола, где сидят чабаны, разговор заметно оживляется, чабаны становятся все взъерошеннее, к ним перекочевал и Пахом Хрисанфович, там уже большинство учителей и членов родительского комитета.
— В хурду его! В хурду!.. — слышатся оттуда громкие чабанские возгласы.
И учительница английского языка — беленькое, как утеночек, создание — испуганно оглядывается по сторонам. Поэтому Грицько Штереверя вынужден пояснить ей, что это совсем не ругательство, а просто название отары, в которую при отборе выбрасывают самых худших овец — больных и покалеченных.
Отец Тони в этом кругу самый взлохмаченный, он уже покрикивает на молодого Мамайчука и герлыгой постукивает:
— А разве ж не радуется душа, когда стрижешь барана, а на нем руно!.. Такое руно, что раскинешь и — на весь сарай!..
С блаженной оторопью слушает этот гомон Стасикова мать; переселенка, она еще не совсем обвыклась в этих краях, сидит среди здешних людей, неподвижно-торжественная в ярко вышитом уборе, и только нет-нет да и взглянет счастливо, как на солнце, на своего сына.
А Тоня тем временем уже стреляет своими карими в сторону капитана Дорошенко.
— Скажите, вы на острове Паски были?
— Не Паски, а Пасхи, — чуть слышно поправляет ее Виталий.
— Не имеет значения, — громко возражает Тоня. — Верно, что там люди голыми ходят?
Капитан смеется, а Лина Яцуба, не сводя с него серьезных глаз, задает ему вопрос, давно уже, видимо, мучивший ее:
— Расскажите, как вы жили? Были вы счастливы?
Капитан некоторое время сидит молча, лицо его хмурится. Как он жил? Был ли он счастлив? Не так-то просто на это ответить. Ожидая его слова, старшеклассники внимательно глядят на него. Для них капитан Дорошенко — человек завидной судьбы, им нравится его необычная профессия, привлекает его манера держаться, деликатность, внешняя подтянутость и какая-то свежесть, которой так и веет от него. Хотя виски уже серебрятся, но с виду капитан еще моложав, у него здоровый цвет лица, особенно если принять за признак здоровья и этот вызванный высоким давлением пылающий румянец… В глазах задумчивость и ум…
— На судьбу не жалуюсь, — молвил словно бы сам себе капитан. — Было и счастье. Дружба была. Знаете, какая у моряков дружба крепкая?
На морском кителе, обтягивающем могучие плечи Дорошенко, — якорь, цепь и секстант. Мальчишки не отрывают глаз от этого значка со знаменитой морской тройкой. Цепь и якорь — серо-стальные, секстант — золотой. Поговаривают, что и капитан — в отставку. Неужели отплавал свое, неужели теперь только степные ветры будут покрывать пылью этот золотой секстант, и якорь, и цепь?..
Хлопцев разбирает любопытство.
— Расскажите про ваши плавания… Как вы капитаном стали?
Дорошенко, улыбнувшись, задумчиво начинает, как будто о ком-то постороннем, рассказывает им про одного смешного парубка, который с торбой за плечами, в чабанской свитке пришел некогда из степей в Лиманское с мечтою… увидеть океан. Рассказчик чуточку грустно посмеивается над этим пареньком, но все чувствуют, что он рассказывает о себе. Ведь именно в их возрасте пошел он отсюда в свое житейское плавание, именно таким парубчаком — в свитке, с торбой — подался на заре юности в Лиманское…
Хлопцу грезились тогда паруса до неба, пальмы еще не открытых архипелагов, а пришлось наняться кастрюльником к збурьевскому дядьке-капитану.
И, погружаясь в воспоминания, Дорошенко поясняет, кто они были, «дядьки-капитаны», ибо мало кто знает теперь, что дядько-капитан — это был характерный тип местного мореходца — выходца из Олешек, из Збурьевки или из других береговых сел Днепровского гирла. На всем Черном море отношение к ним было насмешливо-ласковое, шутливое, их еще издали узнавали в портах.
— А, збурьевские! — И на лицах расплывались улыбки.
Множество разных прибауток ходило о них по Черноморью, потешая матросов и на своих берегах, и в тавернах чужих портовых городов. Вот он выплывает из-за олешковских камышей, этот их усатый Одиссей…
— Дядько-капитан! — зовет кто-то с берега. — Со средою вас!
— Га?
— Со средою!
— Га? (Далеко, не слышно за ветром.)
— Со сре-до-о-ю!..
Тот наконец застопорит машину (когда машина есть) или свернет парус, если идет под парусом, и начинает править ближе к берегу.
— Что ты кричал?
— Со средою, говорю, вас…
— А чтоб ты утонул, разбойник… А сегодня ж еще и четверг!..
И плывет себе дальше.
У такого дядьки-капитана должен быть, конечно, и юнга, то есть мальчишка на «дубке» или на «байде» (так называлось его суденышко).
— А ну, прыгай, Ванько, измерь глубину…
Прыгнешь, измеришь.
— До пупа!
— Ишь, верно!.. И у меня на морской карте так указано…
Крутоваты и прижимисты были эти дядьки-капитаны, и хоть без большого образования, но в кашу себе плюнуть не давали: имели высокое мнение о своем мореходном искусстве, дорожили обычаями старины, считали, что происходят от запорожских казаков и что Збурьевка их возникла как раз там, куда «из бури», из открытого моря, заходили переждать непогоду запорожцы на своих неуловимых, обшитых камышами «чайках»…
Поговоркой стало среди них: «Мы, збурьевчане, как англичане, только говор не тот».
Шутки шутками, но спросите где-нибудь, хоть на краю света, моряка-черноморца, откуда он? И чаще всего он окажется збурьевским или олешковским. Из поколения в поколение пополняют они Черноморский флот капитанами, матросами, а днепровский лиман — лоцманами. Да и в наше время дают прославленных капитанов, героев-подводников и отважных китобоев. Тогда, в двадцатые годы, к айсбергам Антарктики еще не ходили, это зато ведь они, степные мореходы, проложили тогда своими «дубками» так называемую «Золотую линию» от Олешек до Одессы, линию, по которой плыли каждое лето в черноморскую столицу дары украинских степей — полосатые арбузы «херсонские» да «туманы», — от них целая гавань в Одесском порту так и называлась Арбузной…
И вот с этой арбузной «Золотой линии» и вышел юноша Дорошенко в широкий свет. В отдаленнейших гаванях мира давно знают его в лицо; и, когда он появляется, тамошние называют его в шутку «Иван с Украины».
Для него уже не осталось на планете экзотики. И когда он в беседе упоминал о Кейптауне или Пирее, то это звучало в его устах так же привычно, как Лиманское или какая-нибудь степная Ивановка.
Однако тогда, в юности, надо было очень сильно любить море, чтобы не разочароваться, попав на «дубок» к дядьке-капитану, где сваливается на тебя самая будничная работа, где вместо компаса и лоций изволь кастрюли да рыбу чистить! Вместо того чтобы бороздить синие просторы океана — извозничай по побережью, вози руду из Поти до Мариуполя или цемент из Новороссийска… Дядько-капитан был усатый, дебелый, крутого нрава. Черное море он рассматривал как свое домашнее, и наука судовождения у него была упрощена до крайности:
— Напрямки!
Вот так и начиналась его, Дорошенко, житейская дорога. Не раз после того огибал он планету, но где бы ни был, с этой или с противоположной стороны земного шара, он всегда своими мыслями стремился сюда, в часы радости и грусти неизменно возвращался в это степное село, в это пыльное, как бы забытое место планеты, которое было ему дороже всего. Маленькая точечка на Земле, далеко не райский уголок, черные весенние бури, овечьи кошары и молочай, а душа его отовсюду рвалась именно сюда, только здесь всегда находила она покой, дружбу и любовь, наполнялась здесь силой.
Ходил он и на учебном паруснике, и на транспортах-сухогрузах, и на танкерах. Не мог не улыбнуться, вспомнив, как однажды, давным-давно, доставили из Канады партию закупленных коней, диких, необъезженных, прямо-таки мустангов. Спускали их с палубы на берег, и тут же береговые хлопцы кидались на крутые их шеи, ловили, а в стороне стоял Буденный и, довольно покручивая усы, улыбался…
То была его, капитанова, молодость.
Но больше всего запомнился первый самостоятельный рейс. Сейчас на судах разные приборы, постоянная радиосвязь, локатор показывает тебе все, что надо, а тогда компас, секстант, карта и — счастливого плавания! Почти как во времена Колумба. Идешь ночью и не знаешь, впереди ты своих вычислений или позади, слева ты или справа, — ведь с точностью не предусмотришь, какое здесь течение, замедленное или, наоборот, тебя вперед отнесло. Надейся только на свою интуицию моряка… А перед тем суровые экзаменаторы, бывалые морские волки, проверяют тебя, твою готовность к далеким плаваниям.
— Расскажи, как будешь плавать по Дуге Большого Круга? Прохождение океанов… Пассе ошен — расскажи!
И снова труд. Возил руду в Балтимору, брал канифоль в Мексике, на Камчатку соль доставлял — в беспрерывном труде проходила жизнь. Бывали штили, были тайфуны, слышал, как трещат мачты, шел, как в бой, на громыхание, на стон ревущих сороковых широт… А может, в этом и есть оно, счастье? В напряжении, в борьбе, в полноте жизни?
— Вы не знаете этого, но знайте. Идем, бывало, где-нибудь в Эгейском. Мы же комсомольцы, а все суда нас обгоняют. Англичанин обгоняет, норвежец, грек… Обидно, даже зубы, бывало, сжимаешь: «Когда же нас перестанут обгонять?! Когда же мы их на морских путях обходить будем?!» И вот настало. Вам бы не довелось теперь краснеть за наш флот. Не обгоняют уже нас, теперь наши флаги не диво в самых отдаленнейших портах мира. Встретишь их на Кубе, и в гаванях Африки, и на просторах Индийского и Тихого океанов…
Капитан умолкает, поглощенный своими мыслями. Десятиклассники не спускают с него глаз. Он для них словно сподвижник Магеллана, один из тех людей, что способны восхищать.
«Хотела бы я носить в груди такой жар любви! — думает Лина Яцуба, неотрывно, немигающим взглядом изучая капитана. — По всему миру пронес он знамя своей отчизны, чувствуется, что жил и живет для своего народа, этому подчинено в нем все… Для нее, для отчизны, преодолевал бурные сороковые широты, и для нее же он просто, по-будничному заботился о порядке на судне. Его подтянутость, такт, культура, наверно, тоже приобретались прежде всего ради нее, ибо ведь „Иван с Украины“ и должен везде достойно ее представлять. Вот такую бы иметь волю, ясность, такую целенаправленность!» — в тайном восхищении думает Лина.
— Можно вас еще спросить? — снова обращается она к капитану. — Скажите: вы никогда не кривили душой? Ни в чем не шли против собственной совести? Во всем ваша жизнь была безупречной?
Капитан усмехнулся невесело: вот где тебя экзаменуют, вот твое «пассе ошен»… Будто сама совесть твоя вопросительно смотрит на тебя доверчиво-ясными глазами и ждет ответа. Эта молодежь!.. Да разве она может полностью представить себе всю сложность, всю жестокую реальность прошлой жизни, когда за одно неосторожное слово человека бросали в тюрьму, когда на тебя падало подозрение только за то, что ты побывал в заграничном порту!.. Вернешься из рейса, а тебя уже обнюхивают, не завербованный ли ты. Как будто мы, советские моряки, только того и ждем, чтобы нас кто-то завербовал. Одного из его матросов объявили японским шпионом, а тот и не знал толком, где она и есть, эта Япония, он и слово это на следствиях писал через «И»… Но все ли ты сделал, ты, коммунист, чтобы выручить, вызволить этого матроса, или, может, недовоевал, не лег костьми там, где надо было?..
— Нет, и мы не идеальны, — помолчав, говорит капитан. — Были заблуждения, были ложные шаги и ошибки — у кого больше, у кого меньше…
— У вас меньше?
— Да что вы ему допрос учинили? — вмешивается Яцуба с ревнивой досадой в голосе. — Не святой и он! Ко всем добрым не будешь.
— Оценивать чью-нибудь жизнь — это проще всего, — сказала Лукия. — А вам пора о своей подумать. Чтоб не только наших ошибок избежать, но и своих не наделать.
— Хоть бы куда-нибудь поехать или поплыть! — невольно вырвалось у Тони. — А то дальше острова Смаленого не была!
— И смаленого волка не видала,[5] — скаламбурил Кузьма Осадчий и первым засмеялся собственной остроте.
— А в самом деле, как подумаешь, кем мы будем? Куда разлетимся? — мечтательно взглянула на друзей коротко подстриженная Нина Иваница. — Ничего не ясно. Пока что одни лишь предчувствия.
— Есть у нас, моряков, такое предчувствие — предчувствиеокеана, — молвил после паузы капитан. — Проходишь, скажем, Гибралтар, огибаешь скалы, и хоть туман или ночь вокруг, а на тебя уже повеяло простором, уже дохнул на тебя океан… А рассветет, и ты увидишь его необъятность и гордишься тем, что ты человек. И в такие минуты не можешь не подумать о всех людях, живущих на планете…
Девушки и юноши сидят притихшие; каждому из них, вероятно, хочется в этот миг заглянуть вперед, в свое грядущее, увидеть, каким он будет, их собственный океан? Синий ли, озаренный солнцем, или черный, как ночь, океан горя, войны, безмолвных радиоактивных пустынь?..
Лукия наблюдает за сыном, ее то и дело охватывает непонятная тревога за него. Знать бы, почему это он порой меняется в лице, какие волнения обуревают его!
Увлекся кем-то мальчуган, или что-то иное разбередило воображение?
Она знает, Виталий прямо-таки влюблен в капитана Дорошенко, для него он идеал человека. С его приездом у Виталика с ребятами только и разговоров, что о далеких рейсах, о пассатах да муссонах. Его искренне удивляет, как может мать относиться к этому спокойно: «Как ты можешь, мама? Перед тобой единственный на весь совхоз человек, который пересекал экватор, видел созвездие Южного Креста!»
Виталик с капитаном в давней дружбе. Лукия припоминает, как в один из своих приездов капитан привез Виталику в подарок обезьянку — вот было с нею хлопот!.. Маленькая, потешная, она принесла из джунглей в совхоз свой горячий южный темперамент, живость и ловкость проявила такую, что просто не знали, куда с ней деваться. Носится, прыгает, как бесенок, все, что попадается под руку, швыряет, бьет, фикусы поломала, миски перебила, занавески порвала. Провода и антенны — это для нее что лианы в джунглях, из угла как прыгнет — и прямо на шнур электрический; уцепится, раскачается, а сама как будто радуется своим шалостям. Ей весело, а хозяйкам слезы. Так она и пошла из хаты в хату, пока не попала наконец в совхозные мастерские, где угодила в крепкие рабочие руки деда Смыка. Обросший, продымленный, задичавший, он цепко держал ее в руках, долго разглядывал этого далекого своего пращура.
— Неужели и я был когда-то таким? — удивлялся дед Смык. — Неужели и вправду я от такого происхожу?
— От такого, от такого! — шутили в мастерской. — Только загордились, дед, чураетесь… А она узнала, роднится.
— Что же ты думаешь про нас, макака? — допытывался дед Смык, пристально разглядывая обезьянку; а та, притихнув, зорко и внимательно разглядывала его.
На зиму забрали ее в школу, в уголок живой природы. Только недолго прожила там обезьянка: как-то ночью выскочила из помещения, и утром нашли ее на винограднике замерзшей.
— Друзья! Не надо грусти, — чуть жеманно воскликнула учительница английского, которая внешне мало чем отличалась от выпускниц. — Давайте-ка лучше вслух помечтаем о вашем будущем.
— Об этом лучше громко помолчать, — произнес Гриня Мамайчук. — Мечтателей у нас и так — не разминешься. «Ах, на целину! Ах, на новостройку! Всю жизнь буду в клубе со своим милым дуэты распевать!» А проходит несколько лет, ты ее и в клуб не дозовешься, куда там ей в клуб: «Трое малышей, коза, да еще и строимся!..»
— А по-моему, работать и веселиться никогда не надоест, — с уверенностью говорит Тоня и, вскочив, кричит через головы директору школы: — Павло Юхимович, вы уже разрешаете танцевать?
— Вы теперь люди суверенные…
Пары, одна за другой, закружились в вальсе…
А на другом конце стола все громче разливается песня: только что пели чабаны, а сейчас — супруги Осадчие, родители Кузьмы. Он бульдозерист с канала, а она доярка, и хоть заняты оба, но ни одно гулянье без них не обходится, ни один веселый вечер не пройдет, чтобы они не сели вот так вдвоем и не затянули дуэт. Семья у них большая, но живут дружно и как-то удивительно легко, смолоду и до седины ведут жизнь, как песню в два голоса, — слаженно, ровно. Так спелись, что все переливы хрипловатого голоса мужа Осадчиха уже знает наперед, подхватывает их точно, где нужно. И Лукию, которая прислушивается к песне, вдруг охватывает щемящая грусть, и становится больно-больно на душе оттого, что сама она сейчас не ведет вот так же песню с кем-нибудь в паре. «А чумаки йшли, чаєнят знайшли, чаєчку зігнали, чаєнят забрали». Песня грустная, за сердце хватает, а лица поющих совсем не печальные, на устах у молодицы даже блуждает не соответствующая песне улыбка. Осадчая и Лукию приохочивает:
— Подтягивайте и вы!
Но Лукии сегодня почему-то не поется. Ей просто хочется вот так сидеть рядом с капитаном, слушать его тихую речь, вдыхать тонкий запах духов, который исходит от него. А может, это и есть запах океана?
— Такая песня… Такая песня!.. — взволнованно говорит капитан. — Какую это душу надо иметь, чтобы сложить ее!
Черные от загара люди идут по степи полынным шляхом чумацким, с ними волы бредут непоеные, а припасы кончаются… Гнездышко нашли, разорили, а потом сами же и раскаялись в своем поступке, и горечь от содеянного вылилась в песню, пережившую века…
Осадчие запевают уже новую. Молодежь танцует. Тоня в развевающемся накрахмаленном платье, белом, как пена морская, летает в вальсе… Партнер ее — молодой учитель физкультуры. Вид у него кислый, скучающий, на голове целая шапка тяжелых гофрированных волос, под носом усики; эти усики, верно, нравятся Тоне, так как, протанцевав раз, она начинает с ним же и второй… Лукия Назаровна видит, что сын ее, укрывшись под деревом, стоит сиротливо, не танцует, и улыбки его становятся все более кривыми, жалобно морщат мальчишеские губы… Лукия готова бог знает что сделать сейчас той девчонке, которая так играет чувствами ее сына, ранит его своими проказами. И ведь это только начало, а что будет потом?!
Из всех девушек осталась за столом одна Лина. Она не пошла танцевать, сидит и не отрываясь смотрит на капитана, о чем-то беседующего с Лукией. Вот к капитану подсел, бесцеремонно оттиснув Лукию, Яцуба.
— Так что же, Иван, и ты в отставку? Давай, давай! Вдвоем будет веселее. — Лицо майора подернуто желтизной, а седой ежик подстриженной под бокс головы придает ему колючесть. — Хоть сойдемся когда и молодость вспомним… Помнишь, как кулачье брали за грудки да к церкви в страстную ночь с барабаном ходили?
— Что-то не припоминаю, — отвечает Дорошенко. Он и в самом деле в этих походах к церкви участия не принимал.
— Нет, это ты забыл! — энергично настаивает на своем Яцуба. — За давностью лет забыл… У тебя было свое, у меня свое. Не стану рассказывать конкретно, где я служил: почтовый ящик, да и все! Одно скажу: меня боялись. Сколько людей меня боялось, Иван, да каких людей! Профессора были, академики, деятели с дореволюционным партстажем…
Случайно встретившись глазами с дочерью, Яцуба вмиг осекся на полуслове.
Весь вид ее, осуждающе-гневное выражение глаз будто говорит: «Чем ты похваляешься? Боялись тебя? А какая в этом честь? Зато я вот тебя нисколечко не боюсь! И никогда уже бояться не стану!» Как бы в знак протеста, она встает из-за стола и, высокая, гибкая, как стебелек, в своем чудесном белом платье, подходит к капитану.
— Можно вас пригласить на вальс?
Капитан учтиво поднимается, и вот уже идут они в круг. Лина спокойно-величаво кладет ему руку на плечо, а отец сидит как громом пораженный ее поступком. «Танцую с кем хочу, танцую что хочу! — словно приговаривает она, кружась в танце. — И ты мне уже ничего не запретишь, распоряжаюсь собой во всем я сама!»
Хлопцы гурьбой подошли к столу и выцеживают из графина густую виноградную муть, а один из них, Кузьма Осадчий, этот плечистый здоровяк, поглядывая в сторону майора, опять не удержался от остроты:
— Я на него гляжу, а он на меня смотрит!
Ребята от души смеются. Только одному Виталику, кажется, сейчас не до смеха. Его Тоня все еще летает в танце со своим физкультурником, возбужденно играет глазами, пуская чертиков своему партнеру так, что Виталику уже невмоготу на это глядеть. Лукия заметила, как он махнул куда-то в сторону и исчез в кустах.
А она, бесстыдница, после танца, обмахиваясь газовым платочком, подошла к хлопцам да еще и спрашивает:
— А где же это Виталик? Гм!..
— Клянемся вчерашним днем, только что был тут, — шутит Грицько Штереверя и сам ведет Тоню в круг.
Но с ним девушка танцует уже без прежнего подъема, встревоженный чем-то взгляд ее блуждает по толпе, и после танца она тоже сразу куда-то исчезает.
Гости понемногу начинают расходиться. Капитан Дорошенко, невзирая на подозрение, промелькнувшее во взгляде Яцубы, берет под руку Лукию, чтобы проводить ее домой, и они идут не спеша через школьный двор и скрываются, как в тоннеле, в аллее старинного парка, где когда-то бродили еще в молодости.
Музыка льется, а члены родительского комитета уже приглашают людей к столу; долговязый майор Яцуба в тщательно выглаженном костюме из китайской чесучи, с вдохновением в холодных глазах, энергично распоряжается, распределяет места, внося поправки на ходу. После неизбежных в таких случаях колебаний и замешательств участники вечера в конце концов рассаживаются, чинно занимают места за лабораторными столами, на которых сегодня поставлены не колбы и реторты, а буфетные деликатесы и бутылки с лимонадом. Поодаль от столов под кустами лоснятся, правда, и бочонки с вином своего совхозного производства, но они пока еще пребывают на каком-то полулегальном положении, ибо майор Яцуба, как член родительского комитета, до последнего момента был категорически против хмельных напитков на школьном вечере и, кажется, только в последнюю минуту смягчился, когда узнал, что дочка его Лина получила серебряную медаль. А это событие! Поглядев на отставного майора со стороны, можно подумать, что он сам лично получил эту медаль, — так горделиво, уверенно держится его седая голова на длинной вытянутой шее. Радость отца усиливается еще и тем, что медаль, доставшаяся Лине, выскользнула из рук другого претендента — Лукииного сына, который перед самым финишем на чем-то споткнулся, схватил пару четверок и получил не медаль, а дулю в нос! Такой поворот дела просто осчастливил Яцубу, — пусть знает председатель рабочкома, как надо воспитывать своих детей! Лукию это, видимо, сильно задело, зато ее сын, этот радиохулиган, этот незадачливый «гений в трусиках», кажется, и в ус не дует, он вовсю улыбается, кого-то опять высмеивает в толпе ребят, которые стоят тут же и с ироническими гримасами разглядывают этикетки на бутылках лимонада (лимонад поставлен десятиклассникам как раз по предложению Яцубы). Майор чувствует в этих мальчишках какое-то насмешливое неуважение к нему лично, и хотя он сегодня и добр и великодушен, но когда в поле его зрения оказывается бесшабашный, веселый Лукиин скептик, или ротастый сын Осадчего, ростом уже перегнавший отца, или, наконец, неприязненно учтивый Стасик-переселенец в вышитой гуцулке, то густые брови Яцубы невольно сдвигаются, а взгляд становится тяжелым, сверлящим.
Дочку свою Яцуба посадил так, чтобы она была на виду, у него на глазах. Да, наконец, как медалистка, она имеет теперь полное право сидеть ближе всех к поперечному столу, за которым размещается, так сказать, президиум сегодняшнего вечера.
Лина, худощавая, серьезная девушка, с большими, как у отца, блестящими глазами, сегодня не в стандартной школьной форме с передничком, а, как и большинство девушек, в белом выпускном платье, из выреза которого выступают остренькие ключицы. Медаль далась Лине нелегко: под глазами подковами залегла синева. По несвободной, скованной позе девушки видно, что она все еще сильно возбуждена и как бы сама еще не верит и своей медали, и своему первенству. Ее темные, широко открытые глаза смотрят на отца словно с испугом; этим взглядом, и красивым изгибом шеи, и даже ключицами, которые как-то непривычно беззащитно выглядывают из выреза платья, она сейчас удивительно похожа на свою мать в молодости. Теперь у нее уже не мать, а мачеха: первую жену майор Яцуба похоронил еще на Севере.
Полжизни Яцубы прошло там, где вечная мерзлота и полугодовые ночи, где его власть над лагерным людом была почти безграничной. Люди, поступавшие под его руку, были преступниками, клеймо преступлений проклятием лежало на них, делало их бесправными, обрекало на полное и безусловное повиновение. И хотя позже выяснилось, что большинство из них было заговорщиками заговоров, сфабрикованных диверсантами без диверсий, шпионами без шпионажа и все их собственные признания были лишь плодом чьей-то больной фантазии или собственного кровавого бреда, однако не ему, Яцубе, было разбираться тогда, кто из них виноват, а кто невиновен. Его делом было неуклонно выполнять свои обязанности; и он их выполнял. И вряд ли кто скажет, что он, «гражданин начальник», как его там называли, действовал противозаконно, давал кому-нибудь карцер ни за что. Хорошо поработаешь — получишь от лагерного начальника двойную пайку хлеба, перевыполнишь норму — он тебе еще и «премблюдо» в виде тарелки сырой картошки даст, и ты можешь распоряжаться ею сам, по собственному усмотрению.
Там, в суровых просторах Севера, в тяжелые лагерные ночи увидели свет все три его дочки. Подрастая, они не знали, что такое виноград, они не умели есть яблоки, зато сызмальства привыкли грызть сырую картошку, дававшую им витамины. И когда наконец Яцуба вынужден был уйти в отставку и переехал, как пенсионер, сюда, то Лина, его любимица, нередко и тут, в краю южного изобилия, среди бахчей и виноградников, принималась грызть зубками сырую картошку, вызывая смех у совхозных детей.
Ради своей Лины отец готов хоть на дыбу, он ничего для нее не жалеет, дома все подчинено одному — здоровью Лины и ее учебе. Не может девушка пожаловаться и на свою мачеху, бывшую лагерную фельдшерицу, которая ни в чем не перечит не только Яцубе, но и его дочке.
К Лине мачеха неизменно внимательна и даже предупредительна с нею, и скорее она сама могла бы упрекнуть падчерицу за упорную ледяную холодность, которой Лина словно хотела наказать мачеху за грех ее любви к отцу. Она не может им обоим простить того, что близость между ними возникла, когда тяжело больная мать была еще жива. Этот холод и внутреннюю отчужденность отец улавливает в глазах Лины и сейчас, хотя она прикрыта внешне как бы напуганностью. Даже в этот вечер, когда руки ее так трепетно принимали серебряную медаль и аттестат зрелости, она почти не оживилась, не повеселела, ее сердце не оттаяло после вчерашней ссоры с отцом. Ссора возникла из-за пустяка — речь зашла об оформлении документов для паспорта, и отец имел неосторожность предложить дочке переменить имя: настоящее ее имя было, собственно, не Лина, а Сталина. Этот совет отца переименоваться Лина-Сталина восприняла бурно, она вскипела и раздраженно бросила:
— Я вам не колхоз, чтобы меня переименовывать! Раньше надо было думать!
И в самом деле, почему не подумал? Но ведь все казалось таким твердым и надежным, рассчитанным на тысячелетия… А тут едва до паспорта доросла, и уже осложнения. Выходит, что сам ты виновник этого пусть маленького, а все-таки пятнышка, которое останется на ее биографии, во всех ее будущих анкетах. Это непременно надо поправить, все, что касается дочери, должно быть чистым; ее чистотой он как бы хочет защитить и самого себя, отгородиться ею от прошлого, от лагерей, преступлений, от всего, что чем дальше, тем больше начинает тяготить, угнетать.
Все присутствующие уселись за столы. Директор школы, поднявшись, просит внимания. Но в это время появляется еще один желанный гость, за которым бегала целая делегация девчат выпускного класса: капитан Дорошенко. Тоня и ее подруги, пригласившие капитана, так и сияют — глядите, мол, кого привели!
Дорошенко приветливо и неторопливо здоровается со всеми. В своей морской фуражке и белом кителе он производит приятное впечатление бодрого и сильного человека. Впрочем, всякий раз, когда он приезжает к матери, он предстает перед всеми именно таким: свежим, подтянутым, щедро омытым тропическими ливнями, загоревшим под южным, нездешним солнцем, овеянным ароматами далеких морей. Капитана усаживают на почетном месте — между Лукией Назаровной и директором школы, а майор Яцуба через головы людей протягивает руку капитану — они ровесники, когда-то в комсомолии рядом начиналась их юность.
— Вновь сходятся наши дороги, Иван! — громко говорит Яцуба. — А надолго ж они разошлись! Пока ты плавал по чужим морям, по кабаре да по шантанам сигарами дымил, мы тут культы созидали да сами же их и разваливали…
Перехватив серьезный взгляд дочери, Яцуба с гордостью указывает на нее капитану:
— Вот моя медалистка, и по учебе первая, и цветы выращивает — земли не чуждается… Еще и на инструменте играет!
Наклоном головы капитан приветствует девушку, досадливо нахмурившуюся от этой неуместной отцовской похвалы; так же здоровается он и с хлопцами-выпускниками, между которыми как раз втискиваются и их одноклассницы, те самые, что ходили за капитаном. С ироническими усмешками берут хлопцы бутылки ситро и лимонада, которые педагогично выстроились вдоль стола, наливают этот детский напиток сначала себе, потом девчатам, а одна из них — игривая такая смуглянка, почувствовав на себе взгляд капитана, шутливо предостерегает кавалеров:
— Только не очень перепивайтесь, хлопцы, а то не с кем будет танцевать!
Лукия, нагнувшись к капитану, чуть слышным шепотом поясняет ему, что это дочка Горпищенко-чабана.
— Ох, и сорвиголова! Кто-то от нее натанцуется…
И при этих словах она невольно бросает быстрый беспокойный взгляд на своего Виталика, который, съежившись, сидит рядом с Тоней.
— Ах, вон оно что… — улыбается капитан своей догадке.
Ему нравится эта юная пара. Паренек сидит чуть смущенный соседством с нею, с этой юной школьной красавицей, а она так и постреливает кругом блестящими, как подернутая росой вишня, глазами, не может усидеть и минутки спокойно, смеется, слегка кокетничает, чувствуя, что хороша и что ей сегодня дозволено покрасоваться, распустив волнистые волосы по плечам.
— Славный у тебя сын, Лукия, — говорит капитан, задерживаясь взглядом на Виталике. Ему так хотелось бы узнать, что скрывается за этим упрямым мальчишеским лбом под выцветшим соломенным чубом, из-под которого то и дело весело поблескивают искорки зорких глаз. — А будто бы только вчера я его на руках держал…
Рядом с Тоней и Виталием — их одноклассники, не всех уже узнает капитан. Чей тот? А чья эта? Растут как из воды! Сколько разоряли этот край, сколько истязали людей!.. Цветущую молодежь, вот таких же, как эти, совсем юных сынов и дочерей народа, подростков, почти детей, вылавливали в степях и в вагонах с решетками отправляли на Запад, выжигали на руках и в сердцах невольничьи клейма… Скольким старшим сестрам и братьям вот этого младшего поколения так и не суждено было вернуться из фашистских каменоломен, с каторги подземных заводов, из концлагерей, овеянных смрадом кремационных печей!.. А жизнь идет вперед, новой красотой расцветает степь. И как бы в ответ всем обанкротившимся завоевателям мира, звучит ныне молодой смех, бушует под звездным небом веселье этих жизнерадостных, опаленных солнцем юных степняков и степнячек… Налитые здоровьем, широкобровые, с крепкими руками, познавшими радость труда, с чувством собственного достоинства, которое пробивается в каждом, все они пока как бы в брожении: то вдруг станут серьезными, то снова беспечно рассмеются, как дети, вспоминая что-то комичное, вроде того случая, когда впервые вошли в эту свою школу-новостройку, а в ней еще пахло тогда свежей краской и к чему ни притронешься — все липнет. Помнится, тогда на уроке физкультуры в спортивном зале физрук скомандовал:
— Нале-во!
А никто не мог повернуться налево: пятки прилипли к полу!
— Нале-во! Напра-во!
А они продолжали стоять, словно прикованные к месту, а потом все сразу вдруг расхохотались. Не выдержал и учитель, тоже рассмеялся, так и не сумев повернуть их ни направо, ни налево.
Вспомнили они это забавное происшествие, посмеялись и снова притихли… Задумчивы хлопцы, задумчивы и девчата, и эта задумчивость делает их как бы взрослее, словно переносит каждого в завтрашний день, в тот иной мир, из которого к ним пока что долетает одна только музыка. В их возрасте он, капитан, уже плавал поваренком на байде, возил арбузы в Одессу. Рано ему пришлось пройти школу житейской закалки. Самой заветной мечтой тогда было побывать в кругосветном плавании. И вот побывал, пронес знамя революции по всем океанам и снова вернулся на родной берег. С разными людьми встречался, за разными столами сидел Дорошенко в своей кочевой жизни, но нигде он не чувствовал себя так покойно и хорошо, как здесь, в этом обществе, где он может вдоволь любоваться красотой своих степных орлят, видеть, как за другим концом стола уже поднимается чабан Горпищенко с крепкой граненой чаркой в руке.
— За ваше здоровье, дети! — провозглашает он. — Чтоб были вы счастливы да чтоб войны на вас не было!
Булькает, переливаясь из бочонка в графины, доставленное из совхозных подвалов вино. Вот уже и перед хлопцами-выпускниками стоит наполненный мутной жидкостью графин, — то вино бродит в нем своей молодостью! Запротестовать бы Яцубе, но тут и Яцуба в приливе великодушия отступает от правила.
— Ну, на этот раз, пожалуй… по шкалику можно. Как представитель родительского комитета, разрешаю.
Хлопцы растроганы, шепотом произносят тост за «нашего родного Держиморду» и выпивают, а длинная шея Яцубы еще больше вытянулась, большой хрящеватый кадык энергично ходит вверх и вниз, голос звучит громко, отливая металлом, — законодатель стола не забывает о том, что нельзя выпускать инициативу из своих рук, он везде распоряжается, пытается организовать настроение, одного призывает выступить, другого, наоборот, придерживает. Даже сам директор школы, оглушенный голосом соседа, как-то притих, добровольно уступив отставнику свои права. Не под силу только оказалось Яцубе прибрать к рукам чабанское крыло стола, где снова встает нахохлившийся, властный, взлохмаченно-седой Горпищенко и, сам предоставив себе слово, провозглашает здравицу за моряка, за капитана, который «выполнил плавание кругосветное».
Тост чабана поддерживается одобрительным гулом и знакомым перезвякиванием вдоль всего стола, а сам чабан и после этого не садится. Намолчавшись в степи, он сейчас хочет поговорить и рассказывает о том, как он тоже, собственно, побывал в кругосветном странствовании, хотя и проделал его не по воде, а по суше. Все заинтересованы, всех заинтриговал старик. Кто-то из чабанов выражает свое недоверие:
— Да когда же это ты успел вокруг света?
И Горпищенко объясняет, что было это во время эвакуации, а начиналось в Чолбасах, где перед отправкой чабаны гуртовались в кучегурах[4] с отарами.
— И как тронулся я с овечками тогда с чолбасовских кучегур, так лишь на другое лето опять с такими же кучегурами повстречался. «Где же это я? — думаю. — Не в Чолбасах ли снова очутился, земной шар с отарой обогнул!» — «Нет, говорят, ты в Азии, это азиатские пески вокруг». А я все свое: «Вот тебе, думаю, шел-шел — и снова в Чолбасы пришел!..»
— Да да, у меня татко в самом деле кругосветник! — воскликнула, весело сверкнув глазами на капитана и своих одноклассников, Тоня.
Тем временем Яцуба, улучив момент затишья, встает и обращается к выпускникам с обстоятельным напутствием от родительского комитета. Особенно настойчиво призывает он хлопцев, переступая Рубикон в самостоятельную жизнь, не поддаваться влиянию хулиганов, не безобразничать, быть дисциплинированными и трудолюбивыми, по возможности избегать алкоголя и табака.
— А то теперь — только отстал от соски, как уже хватается за папиросу. В наше время, помнишь, Иван, какие были методы воспитания? — обращается он за поддержкой к капитану Дорошенко. — Помню, еще пастушком был при отаре, надумал закурить, а спичек нет. Смотрю, человек по степи едет, кричу ему: «Дядько, дайте прикурить!» А он: «Подойди ближе, сынок…» Подхожу, а он кнутом ка-ак полоснет! Полоснул раз, полоснул другой! Так угостил, что и до сих пор не курю!
Слушая майора, хлопцы украдкой под столом пожимают друг другу руки, дают полушепотом коллективную клятву, что будут жить правильно, на виноград майора зариться не станут и пальцем не притронутся к его калитке, по которой хозяин ночью будто бы электрический ток пропускает…
— Вы вот там перешептываетесь, насмехаетесь над старшими, — бледнея, говорит Яцуба. — Для вас мы — культовики, а ведь, может, и наша жизнь не напрасной была, для вашего же счастья фундамент закладывали…
И, заставив этим молодежь примолкнуть, Яцуба начинает рассказывать про знаменитое событие этого края, про известное восстание батраков в Британах в конце двадцатых годов — одним из руководителей этой стачки был и он, молодой тогда батрацкий деятель Яцуба.
— Первая в истории забастовка, поддержанная Советской властью! — с гордостью восклицает майор. — А как мы ее организовали! На весь мир прогремела! Разве я не правду говорю? — обращается он к капитану Дорошенко за подтверждением, и тот с улыбкой легким кивком головы свидетельствует: да, мол, было, было…
Поощренный вниманием, Яцуба страстно, горячо, как о чем-то совсем близком и еще не угасшем в памяти, рассказывает молодым людям о тех незабываемых днях, когда днепровские батраки-пикетчики, бросив одновременно работу, с красными повязками на рукавах круглосуточно дежурили на плантациях; целыми ночами заседал стачечный комитет. К каким хитростям тогда пытались прибегать арендаторы, чтобы сломить волю забастовщиков! Мировая капиталистическая печать подняла тогда ужасный шум, изображала концессионеров-виноделов невинными овечками, жертвами большевистской травли.
— А в действительности кто они были, все те люччини, бертье, гоасы, шульцы?
Побледневший, разволновавшийся Яцуба так и сыплет именами своих давних классовых врагов, иностранноподданных концессионеров, которые, владея огромными виноградными плантациями на берегах Днепра, были, мол, не столько арендаторами, сколько шпионской агентурой, специально засылавшейся на Украину чужеземными державами.
— Вы спросите, где же были мы, почему это им удавалось? А потому удавалось, что сверху им оказывали поддержку троцкисты и бухаринцы, осевшие тогда в разных земельных и финансовых органах. Зато уж для них арендаторы не скупились: вагонами отправлялось вино из хозяйских погребов и в Харьков и в Москву. А за границу? Помнишь, Иван? Отправляют партию шампанского, а между вином в порожних темных бутылках посылают буржуазии и разные шпионские данные про нас.
— Этого я что-то не припоминаю, — шутливым тоном замечает Дорошенко.
— Ну, где тебе припомнить! — недобро блеснул Яцуба своею стальнозубой усмешкой. — Сам полжизни — по заграницам! Может, еще с ними же и распивал это шампанское, которое мы здесь давили?
— Может, и распивал…
— То-то же! Долго бывать в далеких плаваниях — это, брат, того… Сам не заметишь, как чужим духом надышишься, иных наберешься привычек и обычаев…
— Кажется, ты немало общался с карманными ворами, — взглянула на Яцубу Лукия, — а все же сам карманником не стал?
Громкий хохот, прозвучавший после этого, не сбил Яцубу с панталыку. Он переждал, крепко сжав губы, и, верно, собирался еще говорить, но дочь поглядела на него через стол с мольбой и досадой.
— Хватит уже, хватит!..
И поморщилась, как от боли.
Только после этого Яцуба сел.
Лина, понурившись, думала об отце, о его рассказе, который она слышит не впервые. Хоть она и знала, что все это чистейшая правда — отец ее действительно был когда-то батрацким вожаком во время стачки, ходил пикетчиком с красной повязкой, охраняя плантации, где несобранный виноград на корню перезревал, лопался и гнил, знала, что отец заслуги свои может перед кем угодно засвидетельствовать документами, — однако сейчас она никак не могла освободиться от чувства досады, не до конца осознанного раздражения. Во всех отцовских поучениях ей слышалось нечто такое, что внутренне всякий раз коробило ее. «Верю, верю твоим заслугам, — хотелось ей сказать, — но если ты был таким борцом тогда, то как же ты мог впоследствии все это растерять, забыть, как мог примириться с тем злом, которое окружало тебя, а порой и привлекало в сообщники?»
Лина знает, как самозабвенно любит ее отец. Он и сюда, на степной юг, переехал главным образом потому, что она часто болела, а он хотел обеспечить ей сухой воздух, солнце, душистое лето. Все это он ей дал, все у нее есть, она стала физически здоровой и школу закончила с медалью, овладев знаниями, которые предусмотрены школьной программой. Но всем своим существом она жаждет постичь еще одну науку, может, самую глубокую науку о том, как надо жить человеку, чтобы никогда не грызла совесть, чтоб не было стыдно за тебя твоим детям… Разве нормально, что Лине то и дело приходится стыдиться своего отца, что ее постоянно раздражает его уверенность в собственной непогрешимости, стремление перевоспитать всех на свой лад, все регламентировать, каждому навязать свои представления, привычки, вкусы?..
Поймав усмешку на лице кого-нибудь из хлопцев, он уже придирается:
— Ты не ухмыляйся, милейший, не ухмыляйся, слушай, когда старшие говорят…
И снова апеллирует к капитану:
— Все высмеивают, все критикуют! Сам еще недоросль, а уже наводит критику… Слишком много вас таких! — все громче кричит отец.
И Лина вынуждена заметить ему:
— Не кричи.
— Я не кричу! Это у меня голос такой!
Но она повторяет с нажимом:
— Не кричи…
И в ее голосе слышатся уже такие нотки, которые заставляют отца умолкнуть. Он с удивлением впивается в нее своими глубоко посаженными темными глазами. Лина не отводит взгляда, и отец читает в нем что-то похожее на непокорность, только не может толком понять, откуда это? Вообще сегодня он просто не узнает ее. Неужели аттестат придал ей дерзости? Делает замечания, пьет вино, с независимым видом цедит эту молодую муть, которую ей подливают сидящие по соседству хлопцы. Вот так сразу, в один вечер она как бы стала совершеннолетней; и майор чувствует, что этот пронизывающе-придирчивый взгляд начинает его тревожить, он как бы вытягивает что-то из глубоких тайников его жизни, о чем-то напоминает, ведет дознание о том, что он предпочел бы навсегда, бесповоротно забыть.
А на другом конце стола, где сидят чабаны, разговор заметно оживляется, чабаны становятся все взъерошеннее, к ним перекочевал и Пахом Хрисанфович, там уже большинство учителей и членов родительского комитета.
— В хурду его! В хурду!.. — слышатся оттуда громкие чабанские возгласы.
И учительница английского языка — беленькое, как утеночек, создание — испуганно оглядывается по сторонам. Поэтому Грицько Штереверя вынужден пояснить ей, что это совсем не ругательство, а просто название отары, в которую при отборе выбрасывают самых худших овец — больных и покалеченных.
Отец Тони в этом кругу самый взлохмаченный, он уже покрикивает на молодого Мамайчука и герлыгой постукивает:
— А разве ж не радуется душа, когда стрижешь барана, а на нем руно!.. Такое руно, что раскинешь и — на весь сарай!..
С блаженной оторопью слушает этот гомон Стасикова мать; переселенка, она еще не совсем обвыклась в этих краях, сидит среди здешних людей, неподвижно-торжественная в ярко вышитом уборе, и только нет-нет да и взглянет счастливо, как на солнце, на своего сына.
А Тоня тем временем уже стреляет своими карими в сторону капитана Дорошенко.
— Скажите, вы на острове Паски были?
— Не Паски, а Пасхи, — чуть слышно поправляет ее Виталий.
— Не имеет значения, — громко возражает Тоня. — Верно, что там люди голыми ходят?
Капитан смеется, а Лина Яцуба, не сводя с него серьезных глаз, задает ему вопрос, давно уже, видимо, мучивший ее:
— Расскажите, как вы жили? Были вы счастливы?
Капитан некоторое время сидит молча, лицо его хмурится. Как он жил? Был ли он счастлив? Не так-то просто на это ответить. Ожидая его слова, старшеклассники внимательно глядят на него. Для них капитан Дорошенко — человек завидной судьбы, им нравится его необычная профессия, привлекает его манера держаться, деликатность, внешняя подтянутость и какая-то свежесть, которой так и веет от него. Хотя виски уже серебрятся, но с виду капитан еще моложав, у него здоровый цвет лица, особенно если принять за признак здоровья и этот вызванный высоким давлением пылающий румянец… В глазах задумчивость и ум…
— На судьбу не жалуюсь, — молвил словно бы сам себе капитан. — Было и счастье. Дружба была. Знаете, какая у моряков дружба крепкая?
На морском кителе, обтягивающем могучие плечи Дорошенко, — якорь, цепь и секстант. Мальчишки не отрывают глаз от этого значка со знаменитой морской тройкой. Цепь и якорь — серо-стальные, секстант — золотой. Поговаривают, что и капитан — в отставку. Неужели отплавал свое, неужели теперь только степные ветры будут покрывать пылью этот золотой секстант, и якорь, и цепь?..
Хлопцев разбирает любопытство.
— Расскажите про ваши плавания… Как вы капитаном стали?
Дорошенко, улыбнувшись, задумчиво начинает, как будто о ком-то постороннем, рассказывает им про одного смешного парубка, который с торбой за плечами, в чабанской свитке пришел некогда из степей в Лиманское с мечтою… увидеть океан. Рассказчик чуточку грустно посмеивается над этим пареньком, но все чувствуют, что он рассказывает о себе. Ведь именно в их возрасте пошел он отсюда в свое житейское плавание, именно таким парубчаком — в свитке, с торбой — подался на заре юности в Лиманское…
Хлопцу грезились тогда паруса до неба, пальмы еще не открытых архипелагов, а пришлось наняться кастрюльником к збурьевскому дядьке-капитану.
И, погружаясь в воспоминания, Дорошенко поясняет, кто они были, «дядьки-капитаны», ибо мало кто знает теперь, что дядько-капитан — это был характерный тип местного мореходца — выходца из Олешек, из Збурьевки или из других береговых сел Днепровского гирла. На всем Черном море отношение к ним было насмешливо-ласковое, шутливое, их еще издали узнавали в портах.
— А, збурьевские! — И на лицах расплывались улыбки.
Множество разных прибауток ходило о них по Черноморью, потешая матросов и на своих берегах, и в тавернах чужих портовых городов. Вот он выплывает из-за олешковских камышей, этот их усатый Одиссей…
— Дядько-капитан! — зовет кто-то с берега. — Со средою вас!
— Га?
— Со средою!
— Га? (Далеко, не слышно за ветром.)
— Со сре-до-о-ю!..
Тот наконец застопорит машину (когда машина есть) или свернет парус, если идет под парусом, и начинает править ближе к берегу.
— Что ты кричал?
— Со средою, говорю, вас…
— А чтоб ты утонул, разбойник… А сегодня ж еще и четверг!..
И плывет себе дальше.
У такого дядьки-капитана должен быть, конечно, и юнга, то есть мальчишка на «дубке» или на «байде» (так называлось его суденышко).
— А ну, прыгай, Ванько, измерь глубину…
Прыгнешь, измеришь.
— До пупа!
— Ишь, верно!.. И у меня на морской карте так указано…
Крутоваты и прижимисты были эти дядьки-капитаны, и хоть без большого образования, но в кашу себе плюнуть не давали: имели высокое мнение о своем мореходном искусстве, дорожили обычаями старины, считали, что происходят от запорожских казаков и что Збурьевка их возникла как раз там, куда «из бури», из открытого моря, заходили переждать непогоду запорожцы на своих неуловимых, обшитых камышами «чайках»…
Поговоркой стало среди них: «Мы, збурьевчане, как англичане, только говор не тот».
Шутки шутками, но спросите где-нибудь, хоть на краю света, моряка-черноморца, откуда он? И чаще всего он окажется збурьевским или олешковским. Из поколения в поколение пополняют они Черноморский флот капитанами, матросами, а днепровский лиман — лоцманами. Да и в наше время дают прославленных капитанов, героев-подводников и отважных китобоев. Тогда, в двадцатые годы, к айсбергам Антарктики еще не ходили, это зато ведь они, степные мореходы, проложили тогда своими «дубками» так называемую «Золотую линию» от Олешек до Одессы, линию, по которой плыли каждое лето в черноморскую столицу дары украинских степей — полосатые арбузы «херсонские» да «туманы», — от них целая гавань в Одесском порту так и называлась Арбузной…
И вот с этой арбузной «Золотой линии» и вышел юноша Дорошенко в широкий свет. В отдаленнейших гаванях мира давно знают его в лицо; и, когда он появляется, тамошние называют его в шутку «Иван с Украины».
Для него уже не осталось на планете экзотики. И когда он в беседе упоминал о Кейптауне или Пирее, то это звучало в его устах так же привычно, как Лиманское или какая-нибудь степная Ивановка.
Однако тогда, в юности, надо было очень сильно любить море, чтобы не разочароваться, попав на «дубок» к дядьке-капитану, где сваливается на тебя самая будничная работа, где вместо компаса и лоций изволь кастрюли да рыбу чистить! Вместо того чтобы бороздить синие просторы океана — извозничай по побережью, вози руду из Поти до Мариуполя или цемент из Новороссийска… Дядько-капитан был усатый, дебелый, крутого нрава. Черное море он рассматривал как свое домашнее, и наука судовождения у него была упрощена до крайности:
— Напрямки!
Вот так и начиналась его, Дорошенко, житейская дорога. Не раз после того огибал он планету, но где бы ни был, с этой или с противоположной стороны земного шара, он всегда своими мыслями стремился сюда, в часы радости и грусти неизменно возвращался в это степное село, в это пыльное, как бы забытое место планеты, которое было ему дороже всего. Маленькая точечка на Земле, далеко не райский уголок, черные весенние бури, овечьи кошары и молочай, а душа его отовсюду рвалась именно сюда, только здесь всегда находила она покой, дружбу и любовь, наполнялась здесь силой.
Ходил он и на учебном паруснике, и на транспортах-сухогрузах, и на танкерах. Не мог не улыбнуться, вспомнив, как однажды, давным-давно, доставили из Канады партию закупленных коней, диких, необъезженных, прямо-таки мустангов. Спускали их с палубы на берег, и тут же береговые хлопцы кидались на крутые их шеи, ловили, а в стороне стоял Буденный и, довольно покручивая усы, улыбался…
То была его, капитанова, молодость.
Но больше всего запомнился первый самостоятельный рейс. Сейчас на судах разные приборы, постоянная радиосвязь, локатор показывает тебе все, что надо, а тогда компас, секстант, карта и — счастливого плавания! Почти как во времена Колумба. Идешь ночью и не знаешь, впереди ты своих вычислений или позади, слева ты или справа, — ведь с точностью не предусмотришь, какое здесь течение, замедленное или, наоборот, тебя вперед отнесло. Надейся только на свою интуицию моряка… А перед тем суровые экзаменаторы, бывалые морские волки, проверяют тебя, твою готовность к далеким плаваниям.
— Расскажи, как будешь плавать по Дуге Большого Круга? Прохождение океанов… Пассе ошен — расскажи!
И снова труд. Возил руду в Балтимору, брал канифоль в Мексике, на Камчатку соль доставлял — в беспрерывном труде проходила жизнь. Бывали штили, были тайфуны, слышал, как трещат мачты, шел, как в бой, на громыхание, на стон ревущих сороковых широт… А может, в этом и есть оно, счастье? В напряжении, в борьбе, в полноте жизни?
— Вы не знаете этого, но знайте. Идем, бывало, где-нибудь в Эгейском. Мы же комсомольцы, а все суда нас обгоняют. Англичанин обгоняет, норвежец, грек… Обидно, даже зубы, бывало, сжимаешь: «Когда же нас перестанут обгонять?! Когда же мы их на морских путях обходить будем?!» И вот настало. Вам бы не довелось теперь краснеть за наш флот. Не обгоняют уже нас, теперь наши флаги не диво в самых отдаленнейших портах мира. Встретишь их на Кубе, и в гаванях Африки, и на просторах Индийского и Тихого океанов…
Капитан умолкает, поглощенный своими мыслями. Десятиклассники не спускают с него глаз. Он для них словно сподвижник Магеллана, один из тех людей, что способны восхищать.
«Хотела бы я носить в груди такой жар любви! — думает Лина Яцуба, неотрывно, немигающим взглядом изучая капитана. — По всему миру пронес он знамя своей отчизны, чувствуется, что жил и живет для своего народа, этому подчинено в нем все… Для нее, для отчизны, преодолевал бурные сороковые широты, и для нее же он просто, по-будничному заботился о порядке на судне. Его подтянутость, такт, культура, наверно, тоже приобретались прежде всего ради нее, ибо ведь „Иван с Украины“ и должен везде достойно ее представлять. Вот такую бы иметь волю, ясность, такую целенаправленность!» — в тайном восхищении думает Лина.
— Можно вас еще спросить? — снова обращается она к капитану. — Скажите: вы никогда не кривили душой? Ни в чем не шли против собственной совести? Во всем ваша жизнь была безупречной?
Капитан усмехнулся невесело: вот где тебя экзаменуют, вот твое «пассе ошен»… Будто сама совесть твоя вопросительно смотрит на тебя доверчиво-ясными глазами и ждет ответа. Эта молодежь!.. Да разве она может полностью представить себе всю сложность, всю жестокую реальность прошлой жизни, когда за одно неосторожное слово человека бросали в тюрьму, когда на тебя падало подозрение только за то, что ты побывал в заграничном порту!.. Вернешься из рейса, а тебя уже обнюхивают, не завербованный ли ты. Как будто мы, советские моряки, только того и ждем, чтобы нас кто-то завербовал. Одного из его матросов объявили японским шпионом, а тот и не знал толком, где она и есть, эта Япония, он и слово это на следствиях писал через «И»… Но все ли ты сделал, ты, коммунист, чтобы выручить, вызволить этого матроса, или, может, недовоевал, не лег костьми там, где надо было?..
— Нет, и мы не идеальны, — помолчав, говорит капитан. — Были заблуждения, были ложные шаги и ошибки — у кого больше, у кого меньше…
— У вас меньше?
— Да что вы ему допрос учинили? — вмешивается Яцуба с ревнивой досадой в голосе. — Не святой и он! Ко всем добрым не будешь.
— Оценивать чью-нибудь жизнь — это проще всего, — сказала Лукия. — А вам пора о своей подумать. Чтоб не только наших ошибок избежать, но и своих не наделать.
— Хоть бы куда-нибудь поехать или поплыть! — невольно вырвалось у Тони. — А то дальше острова Смаленого не была!
— И смаленого волка не видала,[5] — скаламбурил Кузьма Осадчий и первым засмеялся собственной остроте.
— А в самом деле, как подумаешь, кем мы будем? Куда разлетимся? — мечтательно взглянула на друзей коротко подстриженная Нина Иваница. — Ничего не ясно. Пока что одни лишь предчувствия.
— Есть у нас, моряков, такое предчувствие — предчувствиеокеана, — молвил после паузы капитан. — Проходишь, скажем, Гибралтар, огибаешь скалы, и хоть туман или ночь вокруг, а на тебя уже повеяло простором, уже дохнул на тебя океан… А рассветет, и ты увидишь его необъятность и гордишься тем, что ты человек. И в такие минуты не можешь не подумать о всех людях, живущих на планете…
Девушки и юноши сидят притихшие; каждому из них, вероятно, хочется в этот миг заглянуть вперед, в свое грядущее, увидеть, каким он будет, их собственный океан? Синий ли, озаренный солнцем, или черный, как ночь, океан горя, войны, безмолвных радиоактивных пустынь?..
Лукия наблюдает за сыном, ее то и дело охватывает непонятная тревога за него. Знать бы, почему это он порой меняется в лице, какие волнения обуревают его!
Увлекся кем-то мальчуган, или что-то иное разбередило воображение?
Она знает, Виталий прямо-таки влюблен в капитана Дорошенко, для него он идеал человека. С его приездом у Виталика с ребятами только и разговоров, что о далеких рейсах, о пассатах да муссонах. Его искренне удивляет, как может мать относиться к этому спокойно: «Как ты можешь, мама? Перед тобой единственный на весь совхоз человек, который пересекал экватор, видел созвездие Южного Креста!»
Виталик с капитаном в давней дружбе. Лукия припоминает, как в один из своих приездов капитан привез Виталику в подарок обезьянку — вот было с нею хлопот!.. Маленькая, потешная, она принесла из джунглей в совхоз свой горячий южный темперамент, живость и ловкость проявила такую, что просто не знали, куда с ней деваться. Носится, прыгает, как бесенок, все, что попадается под руку, швыряет, бьет, фикусы поломала, миски перебила, занавески порвала. Провода и антенны — это для нее что лианы в джунглях, из угла как прыгнет — и прямо на шнур электрический; уцепится, раскачается, а сама как будто радуется своим шалостям. Ей весело, а хозяйкам слезы. Так она и пошла из хаты в хату, пока не попала наконец в совхозные мастерские, где угодила в крепкие рабочие руки деда Смыка. Обросший, продымленный, задичавший, он цепко держал ее в руках, долго разглядывал этого далекого своего пращура.
— Неужели и я был когда-то таким? — удивлялся дед Смык. — Неужели и вправду я от такого происхожу?
— От такого, от такого! — шутили в мастерской. — Только загордились, дед, чураетесь… А она узнала, роднится.
— Что же ты думаешь про нас, макака? — допытывался дед Смык, пристально разглядывая обезьянку; а та, притихнув, зорко и внимательно разглядывала его.
На зиму забрали ее в школу, в уголок живой природы. Только недолго прожила там обезьянка: как-то ночью выскочила из помещения, и утром нашли ее на винограднике замерзшей.
— Друзья! Не надо грусти, — чуть жеманно воскликнула учительница английского, которая внешне мало чем отличалась от выпускниц. — Давайте-ка лучше вслух помечтаем о вашем будущем.
— Об этом лучше громко помолчать, — произнес Гриня Мамайчук. — Мечтателей у нас и так — не разминешься. «Ах, на целину! Ах, на новостройку! Всю жизнь буду в клубе со своим милым дуэты распевать!» А проходит несколько лет, ты ее и в клуб не дозовешься, куда там ей в клуб: «Трое малышей, коза, да еще и строимся!..»
— А по-моему, работать и веселиться никогда не надоест, — с уверенностью говорит Тоня и, вскочив, кричит через головы директору школы: — Павло Юхимович, вы уже разрешаете танцевать?
— Вы теперь люди суверенные…
Пары, одна за другой, закружились в вальсе…
А на другом конце стола все громче разливается песня: только что пели чабаны, а сейчас — супруги Осадчие, родители Кузьмы. Он бульдозерист с канала, а она доярка, и хоть заняты оба, но ни одно гулянье без них не обходится, ни один веселый вечер не пройдет, чтобы они не сели вот так вдвоем и не затянули дуэт. Семья у них большая, но живут дружно и как-то удивительно легко, смолоду и до седины ведут жизнь, как песню в два голоса, — слаженно, ровно. Так спелись, что все переливы хрипловатого голоса мужа Осадчиха уже знает наперед, подхватывает их точно, где нужно. И Лукию, которая прислушивается к песне, вдруг охватывает щемящая грусть, и становится больно-больно на душе оттого, что сама она сейчас не ведет вот так же песню с кем-нибудь в паре. «А чумаки йшли, чаєнят знайшли, чаєчку зігнали, чаєнят забрали». Песня грустная, за сердце хватает, а лица поющих совсем не печальные, на устах у молодицы даже блуждает не соответствующая песне улыбка. Осадчая и Лукию приохочивает:
— Подтягивайте и вы!
Но Лукии сегодня почему-то не поется. Ей просто хочется вот так сидеть рядом с капитаном, слушать его тихую речь, вдыхать тонкий запах духов, который исходит от него. А может, это и есть запах океана?
— Такая песня… Такая песня!.. — взволнованно говорит капитан. — Какую это душу надо иметь, чтобы сложить ее!
Черные от загара люди идут по степи полынным шляхом чумацким, с ними волы бредут непоеные, а припасы кончаются… Гнездышко нашли, разорили, а потом сами же и раскаялись в своем поступке, и горечь от содеянного вылилась в песню, пережившую века…
Осадчие запевают уже новую. Молодежь танцует. Тоня в развевающемся накрахмаленном платье, белом, как пена морская, летает в вальсе… Партнер ее — молодой учитель физкультуры. Вид у него кислый, скучающий, на голове целая шапка тяжелых гофрированных волос, под носом усики; эти усики, верно, нравятся Тоне, так как, протанцевав раз, она начинает с ним же и второй… Лукия Назаровна видит, что сын ее, укрывшись под деревом, стоит сиротливо, не танцует, и улыбки его становятся все более кривыми, жалобно морщат мальчишеские губы… Лукия готова бог знает что сделать сейчас той девчонке, которая так играет чувствами ее сына, ранит его своими проказами. И ведь это только начало, а что будет потом?!
Из всех девушек осталась за столом одна Лина. Она не пошла танцевать, сидит и не отрываясь смотрит на капитана, о чем-то беседующего с Лукией. Вот к капитану подсел, бесцеремонно оттиснув Лукию, Яцуба.
— Так что же, Иван, и ты в отставку? Давай, давай! Вдвоем будет веселее. — Лицо майора подернуто желтизной, а седой ежик подстриженной под бокс головы придает ему колючесть. — Хоть сойдемся когда и молодость вспомним… Помнишь, как кулачье брали за грудки да к церкви в страстную ночь с барабаном ходили?
— Что-то не припоминаю, — отвечает Дорошенко. Он и в самом деле в этих походах к церкви участия не принимал.
— Нет, это ты забыл! — энергично настаивает на своем Яцуба. — За давностью лет забыл… У тебя было свое, у меня свое. Не стану рассказывать конкретно, где я служил: почтовый ящик, да и все! Одно скажу: меня боялись. Сколько людей меня боялось, Иван, да каких людей! Профессора были, академики, деятели с дореволюционным партстажем…
Случайно встретившись глазами с дочерью, Яцуба вмиг осекся на полуслове.
Весь вид ее, осуждающе-гневное выражение глаз будто говорит: «Чем ты похваляешься? Боялись тебя? А какая в этом честь? Зато я вот тебя нисколечко не боюсь! И никогда уже бояться не стану!» Как бы в знак протеста, она встает из-за стола и, высокая, гибкая, как стебелек, в своем чудесном белом платье, подходит к капитану.
— Можно вас пригласить на вальс?
Капитан учтиво поднимается, и вот уже идут они в круг. Лина спокойно-величаво кладет ему руку на плечо, а отец сидит как громом пораженный ее поступком. «Танцую с кем хочу, танцую что хочу! — словно приговаривает она, кружась в танце. — И ты мне уже ничего не запретишь, распоряжаюсь собой во всем я сама!»
Хлопцы гурьбой подошли к столу и выцеживают из графина густую виноградную муть, а один из них, Кузьма Осадчий, этот плечистый здоровяк, поглядывая в сторону майора, опять не удержался от остроты:
— Я на него гляжу, а он на меня смотрит!
Ребята от души смеются. Только одному Виталику, кажется, сейчас не до смеха. Его Тоня все еще летает в танце со своим физкультурником, возбужденно играет глазами, пуская чертиков своему партнеру так, что Виталику уже невмоготу на это глядеть. Лукия заметила, как он махнул куда-то в сторону и исчез в кустах.
А она, бесстыдница, после танца, обмахиваясь газовым платочком, подошла к хлопцам да еще и спрашивает:
— А где же это Виталик? Гм!..
— Клянемся вчерашним днем, только что был тут, — шутит Грицько Штереверя и сам ведет Тоню в круг.
Но с ним девушка танцует уже без прежнего подъема, встревоженный чем-то взгляд ее блуждает по толпе, и после танца она тоже сразу куда-то исчезает.
Гости понемногу начинают расходиться. Капитан Дорошенко, невзирая на подозрение, промелькнувшее во взгляде Яцубы, берет под руку Лукию, чтобы проводить ее домой, и они идут не спеша через школьный двор и скрываются, как в тоннеле, в аллее старинного парка, где когда-то бродили еще в молодости.
 Вдруг из-за куста до них доносится шорох, и кто-то, словно всхлипывая, шепчет там горячо и страстно:
— Хочешь, я пойду сейчас туда и при всех ему скажу, что он мне не нужен, что я только так с ним танцевала, потому что ты ведь не танцуешь! А я только тебя люблю, только тебя всегда любить буду! Ну, прости меня, прости, Виталичек мой!
Зашуршало в кустах, и мимо Лукии и капитана, взявшись за руки, пробегают двое.
Ночь тихая, лунная. Тополя не шелохнутся. Посреди школьного двора поблескивает турник. Вот так же он блестел когда-то, на рассвете их юности. Может, это он, тот самый, так доныне и стоит. Качалась когда-то на нем молодая девушка, выпускница техникума. А когда спрыгивала на землю, попадала прямо в объятия молодого моряка… Задержавшись, Лукия и Дорошенко стоят безмолвно, смотрят на турник, призрачно освещенный луной. Откуда ни возьмись подбегают к нему те двое, чья ревность едва вспыхнула недавно в густых зарослях парка, но там же, видимо, и угасла. Мгновение — девушка уже на турнике, словно взлетела туда! Качается высоко, болтает ногами, смеется. Но долго ей так не удержаться — руки немеют, Лукия словно чувствует, как они млеют. А приземляться и впрямь страшно. Правда, страх этот больше от озорства: хочется, чтобы кто-нибудь подхватил… Чего же ты стоишь? Спасай! Паренек догадался. Раскинул руки, и она падает ему прямо в объятия, легко, белопенно падает с неба… Спустя какое-то мгновение он и сам, этот хлопец, на турнике. Слышно только, как поскрипывает железо перекладины, а ноги взлетают куда-то к самой луне.
Вдруг из-за куста до них доносится шорох, и кто-то, словно всхлипывая, шепчет там горячо и страстно:
— Хочешь, я пойду сейчас туда и при всех ему скажу, что он мне не нужен, что я только так с ним танцевала, потому что ты ведь не танцуешь! А я только тебя люблю, только тебя всегда любить буду! Ну, прости меня, прости, Виталичек мой!
Зашуршало в кустах, и мимо Лукии и капитана, взявшись за руки, пробегают двое.
Ночь тихая, лунная. Тополя не шелохнутся. Посреди школьного двора поблескивает турник. Вот так же он блестел когда-то, на рассвете их юности. Может, это он, тот самый, так доныне и стоит. Качалась когда-то на нем молодая девушка, выпускница техникума. А когда спрыгивала на землю, попадала прямо в объятия молодого моряка… Задержавшись, Лукия и Дорошенко стоят безмолвно, смотрят на турник, призрачно освещенный луной. Откуда ни возьмись подбегают к нему те двое, чья ревность едва вспыхнула недавно в густых зарослях парка, но там же, видимо, и угасла. Мгновение — девушка уже на турнике, словно взлетела туда! Качается высоко, болтает ногами, смеется. Но долго ей так не удержаться — руки немеют, Лукия словно чувствует, как они млеют. А приземляться и впрямь страшно. Правда, страх этот больше от озорства: хочется, чтобы кто-нибудь подхватил… Чего же ты стоишь? Спасай! Паренек догадался. Раскинул руки, и она падает ему прямо в объятия, легко, белопенно падает с неба… Спустя какое-то мгновение он и сам, этот хлопец, на турнике. Слышно только, как поскрипывает железо перекладины, а ноги взлетают куда-то к самой луне.
 Лукия и Дорошенко стоят, не могут отвести глаз: будто наяву оживает перед ними сказка их собственных, таких далеких и чистых ночей.
А возле школы тем временем продолжались танцы. Осталась тут все больше молодежь, родители и учителя разошлись, лишь неугомонный майор Яцуба похаживает, бубнит молодому Мамайчуку:
— Пора, милейший, выключать радиолу… Я и свет уже выключаю.
— А луна?
— Что луна?
— А не могли бы вы заодно и ее выключить?
Когда наконец радиола умолкла, иллюминация, погасла, кто-то вдруг зазвонил школьным колокольчиком, тем, что похож на тронку чабанскую. Все затихли, вслушиваясь, как тает этот звук в притихшем саду, нежно тает вдали под покровом их выпускной ночи…
И снова тишина. Майор Яцуба подошел к дочери, стоявшей в кругу девчат.
— Линочка, домой! — И в голосе его слышатся заискивающие нотки.
— Нет, я не пойду, — отвернулась дочь. — Мы идем встречать восход солнца.
…Восход солнца застает их в степи.
Лукия и Дорошенко стоят, не могут отвести глаз: будто наяву оживает перед ними сказка их собственных, таких далеких и чистых ночей.
А возле школы тем временем продолжались танцы. Осталась тут все больше молодежь, родители и учителя разошлись, лишь неугомонный майор Яцуба похаживает, бубнит молодому Мамайчуку:
— Пора, милейший, выключать радиолу… Я и свет уже выключаю.
— А луна?
— Что луна?
— А не могли бы вы заодно и ее выключить?
Когда наконец радиола умолкла, иллюминация, погасла, кто-то вдруг зазвонил школьным колокольчиком, тем, что похож на тронку чабанскую. Все затихли, вслушиваясь, как тает этот звук в притихшем саду, нежно тает вдали под покровом их выпускной ночи…
И снова тишина. Майор Яцуба подошел к дочери, стоявшей в кругу девчат.
— Линочка, домой! — И в голосе его слышатся заискивающие нотки.
— Нет, я не пойду, — отвернулась дочь. — Мы идем встречать восход солнца.
…Восход солнца застает их в степи.
 В Москве выпускники идут встречать восход солнца на Красную площадь, в Киеве — на Владимирскую горку, а тут они вышли в степь, расстилавшуюся перед ними, как бескрайний синеющий мглистый океан. Сверху над ними раскинулся другой океан — небо; оно уже слегка светлеет на востоке, растет, волнует своим величием. А высоко-высоко, в далекой голубизне, купаются реактивные самолеты, небо от них так и звенит, и хоть солнца еще нет, оно еще где-то за изгибом планеты, но юноши и девушки уже предчувствуют, уже видят его вверху, в первых утренних лучах, от которых зарделся белый летящий металл.
В Москве выпускники идут встречать восход солнца на Красную площадь, в Киеве — на Владимирскую горку, а тут они вышли в степь, расстилавшуюся перед ними, как бескрайний синеющий мглистый океан. Сверху над ними раскинулся другой океан — небо; оно уже слегка светлеет на востоке, растет, волнует своим величием. А высоко-высоко, в далекой голубизне, купаются реактивные самолеты, небо от них так и звенит, и хоть солнца еще нет, оно еще где-то за изгибом планеты, но юноши и девушки уже предчувствуют, уже видят его вверху, в первых утренних лучах, от которых зарделся белый летящий металл.
Пикетажистка
Чем упорнее она бунтовала против него, тем больше он ее любил. Не было такого унижения, на которое майор Яцуба не пошел бы ради своей Лины, не было таких трудностей и преград, которые он не ринулся бы преодолевать ради ее будущего благополучия. При одной мысли, что дочка может не пройти по конкурсу, что какие-то там институтские книгогрызы могут провалить ее на экзаменах, майор приходил в ярость и готов был хоть сейчас сражаться с обидчиками, стучаться во все инстанции, чтобы все-таки добиться своего. Дочь круглая отличница, играет на инструменте, у отца заслуги — да как они смеют ее не принять! Все сделает, чтобы пробить дочери дорогу и разоблачить преступную шайку, если она там, в институте, завелась. Любить свое дитя — это не значит только нежить его да баловать. Ты сумей грудью пробить ему дорогу — вот где настоящая любовь! Устроить дочку в институт — это, на его взгляд, стоило самой ожесточенной борьбы; распаленная фантазия рисовала дело во всех сложностях и неожиданностях: в приемных комиссиях (вполне вероятно!) может оказаться засилие взяточников, которые прибегают к хитрейшим методам в своей преступной деятельности, взятки берут тонко, осмотрительно, через третьих лиц — о таком он читал в газетах и слыхал не раз. Взяток давать он не собирается, это опасно, он сумеет иначе расчистить путь своей медалистке: закованный в латы своих заслуг, тараном пойдет вперед, призовет на помощь влиятельные знакомства, которые у него еще кое-где сохранились; и если нужно будет вывести жуликов на чистую воду, он и это сделает, он не остановится ни перед чем — кто же враг своему дитяти? На что уж Лукия Рясная, какая вроде бы принципиальная да к тому же депутатка, а и то позаботилась о своем сыночке: при конторе устраивает, ласточек стеречь, то бишь радистом на радиоузел. Разве же не тепленькое место? У Лины на это совсем другой взгляд. — Не возводите напраслину на Рясных, — возражает она отцу и объясняет, что Виталик идет на радиоузел не с целью устроиться потеплее, а потому, что там нужен радист, нужна замена — Сашко Литвиненко с осени переходит в институт на стационар, совхоз посылает его учиться. Сашко уедет, а наушники и всю аппаратуру передаст ближайшему своему другу. — Думаешь, все это из чувства дружбы? — хохочет отец. — Ты мне пой, пой про дружбу, знаем эту дружбу!.. А почему она сынка своего в чабаны не посылает? Почему бы не дать ему вилы в руки — да на силос? — А потому, что у него склонность к радиотехнике. Способности, вы это понимаете? Спор происходит неподалеку от веранды, на приусадебном участке, где они работают оба: Лина хлопочет у своих гладиолусов, а отец, голый по пояс, в чалме из полотенца, похожий на феллаха, пропалывает тяпкой картофель. — Рассказывай сказки!.. — говорит он, смахнув с лица обильный пот. — Устраиваешь, так и говори, что устраиваю, а то еще хочет и чистенькой быть. Знаем этих чистеньких!.. Отец начинает вслух сортировать выпускников нынешнего года, прикидывая, кто из них где окажется: Кузьма Осадчий, ну, этот на канал, этого отец к себе берет, там хорошо платят… Ситникова на ферму — сливки пить… Чумакова — учетчиком, Ткачук — на кормозапарник. А остальных? Дома не удержишь. Так и норовят — тот в техникум хоть в какой-нибудь, тот на курсы, те на текстильный комбинат, куда угодно, лишь бы из села вырваться. Рады, что в совхозе паспорта им выдают! А Горпищенкова вертушка, о которой без конца говорили на родительском комитете, идет будто бы вожатой в пионерлагерь. Вертихвостка, из троек не вылезала — и вдруг вожатая! — Да как вы можете? — горячо заступается Лина за подругу. — В школе Тоня у нас лучшей вожатой была! Пускай тройки, зато как ее дети любят! Каждого брать под защиту, за каждого заступаться — эта упорная привычка дочери удивляет и немного настораживает Яцубу. Не попала бы в беду с этой безоглядной своей доверчивостью. В лагерях, еще маленькой, привязалась к какому-то плешивому академику, называла дедушкой, даже пыталась из дому хлеб для него тайком таскать… А когда приходит, бывало, этап, не знаешь, куда с нею деваться: после треволнений дня целую ночь потом вздрагивает. Вот отчего такая нервность, издерганность… Яцубе смотреть больно, какая худенькая она у него, как прозрачны и длинны пальцы, которыми Лина перебирает и подвязывает марлей тонкие стебли цветов. Этот талант цветовода открылся у Лины неожиданно после переезда сюда из суровых северных краев. Зимой у нее в коробочках — разные пакеты с семенами, весной — на всех окнах рассада в ящиках и вазончиках, а сейчас — грядки цветов, да каких цветов! — хоть на выставку посылай. Больше всего Лина любит гладиолусы, развела множество сортов. За клубнями этих гладиолусов майор ездил даже во Львов… Выполнять поручения дочери для него наслаждение. Что только пожелает, все ей достанет, все раздобудет, хоть птичьего молока. Голубенький «москвич» вот из гаража выглядывает — это тоже для нее. Когда приобретал, о дочери прежде всего думал, а не о том, чтобы раннюю редиску да клубнику возить на базар: майор внутренних войск Яцуба не из тех, которые по базарам свою честь разменивают на пятаки, у него пенсия приличная, ему хватает. Да еще и жена вносит свой пай, она фельдшерица в совхозе, а со временем в семье будет еще и свой врач: майор настоял, чтобы Лина пошла тоже по линии медицины, решено в мединститут документы сдавать. Он все-таки сломил упрямство дочери, хотя сделать это было нелегко. Лина и тут хотела поступить наперекор, а бороться с нею, с родной дочерью, — разве ж сердце не обливается кровью? Сила, и отцовская власть, и житейский опыт — все на его стороне. Однако только глянет на эти темные круги под глазами, на эти широкие черные густые брови, что достались ей от матери-степнячки, только заглянет в чистые криницы глаз, что светят грустно и укоризненно из-под этих бровей, так и тает отцовское сердце, куда вся его и власть девается… Кроме Лины, есть у него еще две дочери, тоже от первой жены, выдал их замуж еще на Севере, одну за метеоролога-полярника, другую за военного, но с ними он больше конфликтует, чем живет в мире; они ласковы с отцом раз в год, осенью, когда на самолете доставит им в далекую тундру корзины винограда. А как виноград съели — снова давай отца критиковать… Для милейших зятьков и дочек он осколок прошлого, культовик до мозга костей, заскорузлый продукт догматической эры. Разогнув сомлевшую поясницу, Яцуба оглядывает свое хозяйство. В это время собака, здоровенная овчарка, бросается к калитке и, став на задние лапы, выглядывает на улицу через забор; явный признак, что за оградой кто-то есть.
— Лина! — слышен оттуда девичий голос.
Лина словно ждала этого: оторвавшись от цветов, метнулась к забору, схватила собаку за ошейник, отбросила в сторону.
— Заходи, заходи, он не тронет, — говорит она той улыбающейся особе, что появляется во дворе в походных синих шароварах, с рюкзаком за плечами и палкой в руке. Ах, Тоня Горпищенко пожаловала! В дорогу, что ли, она снарядилась?
— Попрощаться забежала, уезжаю, — весело звенит Тоня, а заметив меж виноградными шпалерами чалму майора над литой бронзой спины, задиристо бросает и туда:
— Здравствуйте! Когда уж вы своего пса в милицию передадите?
— Он и мне нужен, — угрюмо откликается майор.
— Там хоть ворюгу какого-нибудь поймал бы.
— Пускай сами себе обучают.
И майор снова налег на тяпку.
Лина в тихом восторге осматривает Тоню в дорожном ее снаряжении.
— Ты все-таки решилась?
— А что? Лето пробуду в пионерлагере, помуштрую малышню, накупаюсь в море, а тогда…
— Что тогда?
— Вернусь в совхоз да организую девичью чабанскую бригаду! — смеется Тоня. — Из тех, что по конкурсу в институты не пройдут. Мы тогда кое-кому нос утрем! Есть же вон в совхозе «Приморский» такая бригада, из одних женщин-чабанок. Их старшая чабанка даже в Москву на выставку ездила, а я-то что ж, не смогла бы? По сто двадцать ягнят не дала бы на сотню овцематок? — Смеясь, она даже ногой притопнула. Легко выскользнув из-под рюкзака, Тоня бросает его наземь. — Герлыгой меня не запугаешь, я же потомственная чабанка.
Лина оживает, веселеет возле подруги, словно биотоки какие-то льются на нее от Тони, словно самую силу жизни излучают эти полные искр и блеска глаза и личико лукавое, разрумянившееся, персиково-тугое… Этой Тоне просто позавидовать можно: из всего умеет черпать радость, жизнь для нее полна гармонии, на каждом шагу ждет ее счастье. И разве не эта жизнерадостная беззаботность придает ей такую красоту, солнечность?
— Ой, как твои гладиолусы распустились!
Тоня уже возле клумбы, над каждым цветком наклоняется, над каждым ахает от восторга.
— Ах, какой! А этот! Ух, красавец! Как небо при восходе солнца! Заря утренняя… Только еще нежнее.
— А этот, жемчужно-розовый? — Лина еле сдерживает гордость. — Мне он почему-то больше всех нравится… «Ариозо» называется этот сорт. Снег и утренняя заря… Хотя и это не точно. Такие тонкие цвета, видимо, только музыкой можно передать.
— А это что за казак? — Тоня уже склонилась над другим цветком, рубиново-красным.
— Ты угадала, казак и есть — «Степан Разин»… А это «Касвалон»… Белый — это «Зоя»… А это «Синьорита», — касается Лина рукой яркого, оранжево-абрикосового соцветия.
А Тоня пробегает взором грядку все дальше, маленькие загорелые, в ссадинах руки ее так и мелькают между стеблями да соцветиями, глаза зорко всматриваются в тугие нераспустившиеся бутоны, что выступают на верхушках.
— Столько сортов!.. И каждый нужно было кому-то вывести… — на миг задумалась Тоня.
Лина, подпушивая землю детскими грабельками, улыбнулась:
— Есть теория, что цветы занесены к нам с других планет. Что когда-то на Земле были одни только папоротники…
— Выдумки! И не забивай ты ими себе голову. Где это те планеты, чтобы с них такие цветы до нас долетели? Люди, люди, Линок, сами все вывели!
— И в то же время есть люди, Тоня, которые век живут и никогда не видят такого, — ответила сдержанно Лина. — Это же цветы солнца, не всюду их вырастишь. Я уже думала: если бы хоть несколько сортов на Север!.. Ведь я и сама, пока была на Севере, просто не догадывалась, что есть на свете такая красота.
— Гладиолусов и у нас не густо. Вот, пожалуй, только у тебя. У нас возле хат больше мальву сеют, ты же видела, возле школы у нас полно мальв: крепкие, высокие вытягиваются. Правда, бывает, и мальва может пригодиться в роли наглядного пособия, — усмехнулась Тоня с обычным своим озорством. — Как-то в пятом классе спросили мы Василия Карповича, что такое эстетика, так он нам как раз на примере с мальвой объяснял. «Посмотрите, говорит, в предвечерний час, когда мальва расцветает, а солнце нальет ее краской, и лепестки просвечивают насквозь, и вся она сияет красотой…» Вот и все, что мне запомнилось про эстетику, — засмеялась Тоня и, заметив грусть в глазах Лины, спросила: — А разве у вас там, при лагерях, в тундре… вовсе никакие цветы не выдерживают? Мох, и больше ничего?
— Нет, растут и у нас там… цветы — морозники называются… Они, как подснежники, пробивают снег и цветут… Я вот напишу, мне вышлют, может, скрестить удастся.
Тоня снова приникла к цветам.
— Ну, Лина, как хочешь, а эту «Ариозочку» ты мне срежь. Без нее со двора не уйду!
Лина сбегала на веранду и, вернувшись с ножницами, осторожно срезала стебелек гладиолуса, над которым Тоня стояла неотступно. Подавая стебелек Тоне, спросила:
— Это для?..
— Тсс!.. — приложив палец к губам, цыкнула Тоня и озорно оглянулась в сторону майора. Потом неожиданно громко, чтобы и майор слышал, выпалила: — А то кому же! Ему, властелину эфира! Забегу, подкрадусь тихонечко с улицы к радиоузлу, положу на окно, пускай сам догадается… А его и отрывать не буду, он теперь из наушников и не вылезает…
Лина улыбнулась, спросила тихо:
— Как же он, ревнивец такой, тебя отпускает?
— Все будет о'кей, как говорит капитан, — пошутила Тоня и снова весело притопнула ногой: ей не стоялось на месте. — Это Лукия Назаровна думала, что, как спровадит Тоньку в пионерлагерь, так может быть спокойной за своего сыночка. Ох, ошибаетесь, уважаемая моя будущая свекровь! Забыли, что где сердце лежит, туда и глаз бежит!
С этими словами Тоня подхватывает с земли рюкзак, ловко набрасывает на спину, на бегу чмокает Лину в щеку и, шутливо погрозив собаке палкой, исчезает за калиткой.
Лина присела на скамью в тени ореха, взволнованная, охваченная радостным смятением. Ну и Тоня! Нет ее, уже побежала, уже где-то взбивает палкой по улице пыль, а здесь, во дворе, еще звенит ее смех, в самом воздухе словно бы еще искрится безудержное Тонино веселье, полыхает огонь ее темперамента. Недавно они целым классом ездили на экскурсию в Крым (Пахом Хрисанфович сдержал-таки слово и дал грузовик). В дороге Тоня показала себя такой заводилой, что Лина подчас просто поражалась ее кипучей энергии, общительности, умению не обращать внимания на неприятные мелочи, всей душой жить, упиваться этим щедрым миром и его чудесами. Какое было путешествие! Махнули они до самого Севастополя, побывали на раскопках Херсонеса, где больше всего Лину поразили не стародавние беломраморные колонны да капители, а арбузные семечки, которые с эллинских времен сохранились в глиняных амфорах и свидетельствовали о том, что и эллины разводили бахчевые. Потом побывали на Сапун-горе и, затаив дыхание, осматривали диораму, на которой, словно живые, вставали герои штурма — солдаты и матросы, охваченные пламенем битвы. А как потрясло их, когда, осматривая Графскую пристань, они узнали от экскурсовода, что среди десантников-черноморцев, первыми ворвавшихся на Графскую пристань, был их земляк, их вечно заросший грязной щетиной Мамайчук Мартын, который сейчас со скрежетом гоняет по совхозу на своих колесиках! Сегодня как-то и не похож этот искалеченный человек на героя, а тогда он первым поднял свою бескозырку на высокой арке над Графской пристанью, и бескозырка заменяла атакующим знамя, оповещала всех, что в тот день, 9 мая 1944 года, советский воин с боем возвратился в Севастополь… Подвиг стоил Мамайчуку дорого: с севастопольской мостовой его, тяжело раненного, забрали в госпиталь; и боевой орден, которым командование наградило героя-десантника, еще долго после войны разыскивал его, пока не нашел инвалидом без ног в этом овцеводческом степном совхозе.
Завершением их экскурсии была Новая Каховка — солнечный молодой город с могучей плотиной гидростанции, с раздольным гоголевским Днепром, с исполинскими платанами, раскинувшими вдоль берега высокие свои шатры; из-под корней у них большими и малыми струями звенит-струится родниковая вода, множество ключей бьет, чистых, разноголосых; они сливаются в единую, тихую и певучую музыку воды. А дорога, которой они ехали в Каховку, — широкий степной шлях, на десятки километров обсаженный мальвами! С ума можно было сойти от этой красоты! От самого Ново-Троицка и до Каховки цветут и цветут они вдоль шляха, крепкие и высокие. Белым цветом! Розовым! Красным! Желтым! Не боятся ни зноя, ни горячих сухих ветров. Вот такой жизненно цепкой, сильной и неподатливой представляется Лине и эта неугомонная Тоня Горпищенко, что живет и не тужит. Рюкзак на плечи и — в пионерлагерь на целое лето вожатой. «А я? На что я способна?»
Выводит Лину из задумчивости стук калитки: это пришла мачеха, еще довольно моложавая женщина, но такая раскормленная, с таким животом, что и не поймешь — беременна она или это «соцнакопление». Присев тоже в холодке под орехом, мачеха, тяжело дыша, спрашивает Лину, что ей собирать в дорогу, ведь она, мол, ради этого и с работы отпросилась. А девушку даже досада берет: поездка всего на два дня, только документы сдать и назад, а суматохи, будто собирают тебя на остров Диксон. Утром отец проверял чемоданчик, сейчас мачеха будет наводить контроль.
— Чего там собирать!.. Что нужно, уже собрала, — с еле скрываемым раздражением говорит Лина, и ей самой становится неприятно за этот свой тон.
Но мачеха, видимо, привыкла к нему, провинность ее прошлого словно бы требует именно такого отношения со стороны падчерицы, и Яцубиха, пожалуй, была бы даже удивлена, если бы Лина заговорила иначе.
Подошел отец.
— Что нового на медфронте? — спрашивает он.
И мачеха, отдышавшись, послушно рассказывает (так, словно докладывает), что директора снова привезли из степи на медпункт в тяжелом состоянии, а во Втором отделении поранился у трактора хлопец-прицепщик, а Мамайчук-неуправляемый приходил за справкой о состоянии здоровья.
— Собирает документы, тоже думает поступать. И знаете куда? В Духовную академию!
Отец, разматывавший полотенце с головы, так и застыл, уставившись на жену.
— Да он что, обалдел? В логово поповское?
Лина узнает Мамайчука и в этом. Она уже представляет его, Гриню-неуправляемого, в рясе, с кадилом в руке, перед толпой «грешников». Наконец-то Грине пригодится стиляжная его борода: словно знал, зачем отращивал!
— Вот это будет пастырь! — смеется Лина. — Этот поисповедует бюрократов…
Отцу же не до смеха.
— Отколол номер! — насупившись, бормочет он. — Один отколол, а с десятерых спросят. ЧП. Настоящее ЧП. Пятно на весь район, на область… Непременно с каждого из нас спросят, где были, куда смотрели!
— Не ты же его подговаривал, — успокаивает мачеха. — У него есть отец, да еще и герой, с отца пускай спрашивают. Ты-то тут при чем?
— Как при чем? — взъярился Яцуба. — Они хаты будут жечь, а наше дело сторона? Пятно на всю область, а я сбоку? Да вы понимаете, что это такое?! Комсомолец — и в Духовную! Из этой самой ячейки, где я жизнь начинал, где мы поповен из комсомола исключали, теперь заявление в попы! А мы, старшие, где были, куда смотрели? Нет, я иду в штаб. Я должен быть там!
Через минуту отцовская капроновая шляпа уже колыхалась по ту сторону забора.
Лину тоже разбирало любопытство — хотелось больше услышать об этой сенсационной новости; она вспомнила, что нужно сдать несколько книг в клубную библиотеку, которой по совместительству тоже заведует сумасбродный Гриня; быстро собрав их — это были сборники стихов, — Лина направилась в клуб. Впрочем, до клуба она и не добежала — какой там клуб, когда вся суматоха у конторы; здесь стоит Мамайчукова летучка, и любопытных уже собралось немало, а сам виновник переполоха молча хлопочет в кузове своего украшенного лозунгами фургона, спокойно, будто ничего и не случилось, укладывает коробки с кинолентой, прежде чем двинуться в отделение совхоза. А паства, состоящая из конторских девчат и рабочих, которые, заняв очередь, ждут на крыльце кассира, да еще хлопцев-радистов, что выглядывают из окна радиоузла, расплываясь в улыбках, — эта паства с веселой жадностью ждет слова будущего своего пастыря.
Закончив работу, Гриня высовывает невзрачную свою медно-рыжую бороденку из фургона.
— И не удивляйтесь, — говорит он. — Все бросились по институтам, по техникумам, все заявления подаете, а я что, у бога теленка съел? Вы в светские заведения, а я в духовное, это меня больше устраивает. Стипендию обещают приличную, кормить будут калорийно, что для моего организма тоже не последнее дело… А главное, конечно, не в харчах, а в духовной пище, которой так жаждет моя душа. Источники истины, где они? Для чего живу? Кем я создан и каково мое предназначение на этой грешной планете? Все не разгадано. Все покрыто мраком неизвестности. А между тем я все больше чувствую, что мое существо действительно божественного происхождения. Чем я отличаюсь, скажем, от коня?
— Или от барана? — бросает кто-то из очереди.
— А тем, — пропустив реплику мимо ушей, продолжает Гриня, — что я не только про силос думаю! Четырнадцать миллиардов клеток вложено мне в эту черепную коробку, для чего это? Для силоса? Нет, для работы куда более сложной…
В это время из глубины конторских недр появляется майор Яцуба и, растолкав девчат, выходит на крыльцо, обращается к Мамайчуку:
— Тебя приглашают!
— Слышите, приглашают, — улыбается Гриня пастве. — Раньше вызывали, требовали, а теперь приглашают…
Когда он в своей рубашке навыпуск горделиво проходит мимо Яцубы, тот бросает ему с презрением:
— Позор! Я в твоем возрасте, милейший, церкви разрушал, а ты? Из узких брючек да в рясу?
Мамайчук меряет взглядом сухопарую фигуру Яцубы.
— Хотите знать, кто меня толкает на этот шаг?
— Ну-ну! Кто?
— Вы! Вы, товарищ отставник! Нестерпимы до одури стали ваши поучения, вот почему иду в объятия клерикалов!
Громко выпалив это, Гриня степенно шагнул через порог в узкий конторский коридор, а следом за ним, будто конвоир, пошел и майор, горячо доказывая свое.
Было известно, что Гриню вызвало на беседу совхозное начальство, что и отец его тоже сейчас там, в директорском кабинете, и даже есть кто-то приезжий: будут вместе уламывать неуправляемого.
Кто знает, о чем с ним вели там переговоры, только Гриня долго не выходил, а когда вышел, поднял вверх указательный палец и тоном Галилея, произносящего свое знаменитое «А все-таки она вертится!», изрек:
— Юмор, люди. Юмор превыше всего!
Заметив Лину, что с книжечками под мышкой, сутулясь, стояла в сторонке у газетной витрины, Гриня мимоходом удостоил ее своим вниманием:
— Сдавать принесла, дщерь?
И, взяв книжки, Гриня небрежно бросил их в кузов своей передвижки. Через минуту только пыль таяла на том месте, где стоял разукрашенный лозунгами фургон, — помчалась работящая кинопередвижка в отделение.
— Кто бы мог подумать, Гриня — и в академию! — бросила одна из конторщиц, а чабан Бунтий, который, опершись на герлыгу, все время стоял на крыльце молча — усы аккуратные, рубашка чистая, — молвил негромко:
— Нету таких академий, чтоб набирали дураков, а выпускали умных.
…Вечером майор Яцуба, натянув на себя комбинезон, хлопотал в гараже, готовил «москвича» в дорогу. Но и ковыряясь в моторе, видно, не мог отделаться от мысли о Мамайчуке, при каждом удобном случае обращался к жене, которая, тоже готовясь к завтрашнему дню, то и дело спускалась в погреб или поднималась из погреба:
— Ты только послушай, к чему он клонит, стервец… Еще нас же хочет и виновными сделать перед приезжим товарищем… «Мой шаг, говорит, вынужденный, это из-за вас, говорит, меня тянет либо взять в руки кадило, либо быть среди тех, кто на городских бульварах ржет по-лошадиному». Хохотом перепуганных идиотов это у них называется…
— По-моему, его просто нужно женить, — откликается Яцубиха. — Поговаривают, что к Тамаре-зоотехничке у него тайная любовь, оттого, может, и чудит…
— Нет, ты его поглубже копни… Он всем на свете недоволен. «Меня, говорит, мировая скорбь за душу хватает, снова чумаковать хочется, лишь только прикину, куда ведет эта атомная свистопляска… Ежели человечество, мол, не одумается, все на этой планете пойдет кувырком, начинай потом все с Адама. Кое-кого уже вижу, говорит, на полусогнутых, в звериной шкуре и с каменным топором в руках», — и, говоря это, смотрит прямо на меня, подлец…
Лина, покачиваясь в сетке гамака под орехом, слушает оттуда отцовские скрипучие рассуждения, и ей уже не смешно, что Мамайчук намеревается учиться на попа. Бессмысленно? А так ли много смысла в том, что она поедет обивать пороги в медицинский? Никогда не думала об этом, не собиралась, и вдруг — зубным врачом будет! Решала, правда, не она, решал за нее отец: он почему-то убежден, что из всех умений умение медика наиболее важное — медики и на фронте во время войны, и даже в местах заключения, в далеких исправительных лагерях, всюду люди нужные, дефицитные. Так в угоду его соображениям она вынуждена браться за нелюбимое дело, должна ехать, бороться за место, о котором кто-нибудь другой только мечтает. Разве что срежется на вступительных. Тоня шутит, грозится сформировать чабанскую бригаду из девчат, которые провалятся, а у Лины сейчас такое настроение, что хоть бы и провалиться.
Тоне можно позавидовать, ей все ясно, она сейчас далеко, уже где-то весело сияет глазами в отсветах пионерского костра, и никакие сомнения не раздирают ее — родится ж человек таким!.. А Лину терзают сомнения, душа ее неспокойна. Вверху над Линой в космической глубине алмазно блестят звездные узоры, стелется на юг Млечный Путь — Чумацкий Шлях, а когда на миг закроешь глаза, уже возникает перед тобой другая дорога, земная, степная, обсаженная мальвами, и про нее девушке хочется сложить стихи или передать все это музыкой… Потом ей почему-то вспоминается светлый лунный Крым и стиснутый скалами Бахчисарай, где их экскурсия ночевала, чебуречная, где вечером ели чебуреки, а после того при луне осматривали ханский дворец, парк и ту зловещую Соколиную башню, куда бросали девчат-полонянок… Окровавленных, растерзанных, измученных жаждой, гнали их по этой звездной чумацкой дороге с Украины в Крым. Растаптывались красота, честь, любовь, над всем господствовали произвол и культ грубых, кровавых ханов. Ханы сменялись ханами, а где они? Кажется, больше полсотни их было, а ни одного добрым словом не вспомнит ни песня, ни память людская… В небытие ушли вместе со своими евнухами, палачами, средневековыми пытками. Музейным экспонатом дотлевает грозная некогда Соколиная башня… Наверху она вся опоясана узорчатыми решетками, там держали соколов, обученных для ханской охоты. И только раз в год, по милости аллаха, туда, на башню, разрешалось подниматься невольницам-степнячкам, чтобы могли они посмотреть из той крымской тюрьмы на белый свет, на голубизну днепровскую, на далекое степное раздолье… Но и оттуда, с башни, им видны были лишь крутые горы, что нависают каменными лбами над городом, словно бы охраняя все живое, и только за теми гранитными скалами угадывали полонянки и горизонт широкий, и волю, и край родной… Сколько невольничьих песен в тех ущельях родилось, сколько слез было там пролито, от которых и ханский негорючий камень горел! Недаром же одна из пленниц на рушнике, что чудом сберегся с тех давних времен, вышила золотом и цветными нитями дерево-калину да соловья и посадила их в челнок-каючок, на лодочке послала ту вышитую девичью свою мечту через горы, куда порывалась ее душа!
Таков Бахчисарай. Словно жуткий сон, все это зримо вставало перед Линой: и тучи конников, и арканы, и полонянки, которых гоном гонят, чтобы похоронить в ханских гаремах степную их красоту и молодость, чтобы выпить, высушить их взлелеянные на воле чувства… Только потом, когда экскурсионная группа оставила наконец то прогнившее ханское логово да поднялась на гору, все мрачные видения прошлого разом исчезли, рассеялись, в горах был словно бы иной воздух, теплая южная ночь сухо звенела цикадами, и полная луна привольно сияла над Бахчисараем, над его минаретами и тополями. Лина и сейчас отсюда, из степи, будто охватывает взглядом все недавнее путешествие, чарующий край, где луна песенно освещает море, ровное и бесконечное, и поднятую в небо диадему Крымских гор от Ай-Петри до Чатыр-Дага. Какая-нибудь влюбленная пара, наверно, стоит теперь на том камне, где Лина недавно стояла, созерцает красоту ночных, наполненных свежестью долин, в которых то тут, то там лунный свет выхватывает силуэт тополя, что, будто придя из степей, побратавшись с кипарисом, стройно возвышается над кровавым ханским логовищем… Аромат ночи, стрекотание цикад, контральтовое клокотание воды в арыках… Все необычно, все не перестает удивлять Лину. Жила в снегах, в тундре, чувствовала ледяное дыхание арктического океана, грохот прибоев и даже не предполагала, что будут ласкать ее такие нежнейшие южные ночи, как там, в Крыму, и вот здесь, где пахнет орехом, степью, ночной фиалкой и спать можно во дворе, не залезая в меховой мешок, и где неутомимое стрекотание цикад будет звучать для тебя извечной мелодией мира…
До поздней ночи хватило отцу хлопот у «москвича», еще осталось и на утро. Собирались выехать с восходом, ведь неблизкая дорога, но уже и солнце поднялось, а «москвич» все голубовато поблескивает у совхозных мастерских, где отец еще что-то вытачивает да подпиливает. Лина тоже здесь, готовая в дорогу. Стоит в дверях мастерской и, не отрываясь, смотрит, как работает товарищ Куренной, бывший морской офицер-подводник, а нынче токарь по металлу. Есть что-то артистическое в его работе. Во время производственной практики хлопцы из их класса всегда толпой стояли у станка товарища Куренного, чтобы посмотреть, как он устанавливает резцы и начинает свое чародейство, как легко вьется ему под ноги лента сизого металлического серпантина. Лина однажды хотела взять стружку у него из-под ног, а она оказалась такой горячей, что даже пальцы обожгла. Этот товарищ Куренной в недавнем прошлом где-то на Севере плавал на подводной лодке, и, хотя до старости человеку еще далеко, пришлось брать отставку по состоянию здоровья. Дома, однако, после отставки сидеть не захотел, звали на работу в район, тоже не пошел, сам попросился в мастерскую. «Я, говорит, люблю токарничать…» И правда, любит, ничего не скажешь.
Властью над вещами, своим будничным трудовым творчеством — вот чем поражают здесь Лину рабочие. Муфты вытачивают, рессоры сваривают, в одном месте что-то куют, в другом разбирают мотор. Безногий газорезчик Мамайчук-старший в защитном козырьке умело и уверенно ведет язычок пламени по металлу, что-то выкраивает из толстого стального листа. От простого и до сложного — все умеют эти люди, все им дается. В углу мастерской ремонтируют кузов грузовика, там же приводят в порядок сиденья кабин, пружины новые вставляют вместо поломанных, на дворе несколько рабочих размышляют над каким-то приспособлением для комбайна, что-то налаживают, переиначивают, конструируют по-своему… Лине нравится эта атмосфера дела, творчества, коллективизма, нравится, когда механик, появляясь на пороге, кричит:
— Здорово, казачество!
А они и не смеются, будто и в самом деле казачество.
Напротив кузницы ржаво краснеют кучи разного лома, в котором Виталий Рясный и его друзья копались всю весну; сейчас среди железного утиля валяются, белея на солнце, еще и огромные манометры, снятые с того военного судна, что намертво легло в водах залива. Давно уже совхозные механизаторы раздели, ободрали то судно. Будто за «золотым руном» отправлялись они туда, в свои пиратские экспедиции, а теперь, во время перекура, собравшись возле мастерских, еще и ухмыляются, весело кивая в сторону залива, в сторону раздетогостального великана:
— Если б на колеса его да в степь… Вот был бы трактор!
Во время перекура Мамайчук-севастополец, порывисто-сердито отталкиваясь от земли, подъезжает к Яцубе, что все еще ковыряется в моторе голубенького своего «москвича»; инвалид ездит, скрежещет колесиками вокруг машины, насупленно рассматривает, будто впервые видит это чудо, и хоть сейчас Мамайчук не пьян, а Лина его почему-то побаивается. Девушку отпугивает и хмурое одутловатое лицо в грязной щетине, и увечье этого человека, и то, что на большом пальце у него вместо ногтя чернеет какая-то запеченная шишка, вроде пуговицы. Лине кажется, что ветеран вот-вот погрозит ей этой пуговицей или задаст какой-то такой вопрос, на который она не сумеет ответить.
Вопрос у него и впрямь созревает, но обращается он не к Лине, а к самому Яцубе:
— Скажи, друг, зачем тебе этот персональный «москвич»?
Отец отвечает шуткой, что вот, мол, повезет дочь в институт, пешком далеко идти, но Мамайчук шутки не принимает, ему, как всегда, не дает покоя Яцубина пенсия, которая, дескать, великовата для одного — на трех солдатских вдов хватило бы.
— Ты сознательный? Нет, скажи, ты сознательный? — въедливо, как клещ, пристает Мамайчук и указывает отцу на Куренного, хлопотавшего с комбайнерами у комбайна: вот, мол, он тоже отставник, с подводной списан, а сам пришел в мастерскую, потому что совесть у человека есть.
Слово за слово, и уже вспыхивает перебранка, отец кричит:
— Ты мне глаза этим не коли! Я не сам себе пенсию устанавливал! Я за нее пургой да цингой платил! Зубы вот… видел? — И он, оскалясь, показывает Мамайчуку полный рот нержавеющей стали. — Не на курорте, брат, был! Там был, где ребенок мой вместо яблок сырую картошку грыз. Жену похоронил, с собой не считался, с ног валился, своей власти служил! А сказали: «Бери отставку», — взял.
— Не взял бы… Сама жизнь тебе отставку дала, — взглядывает исподлобья Мамайчук, со скрежетом удаляясь в сторону мастерской, а отец, хлопнув капотом, повелительно бросает Лине:
— Садись!
«Москвич», лавируя меж комбайнов и старых сеялок, выбирается на простор, и тут девушка вдруг видит капитана Дорошенко; в белом кителе, в капитанской фуражке, он стоит над кучей ржавого лома, рассматривает огромную якорную цепь, которую тоже, видно, вместе с теми никому не нужными манометрами приволокли с ничейного судна. Давая «москвичу» дорогу, капитан посторонился и в этот момент заметил на переднем сиденье Лину, которая нескладно гнулась рядом с отцом, заметил и улыбнулся ей. Были в улыбке капитана доброжелательность и не многим свойственная деликатность, которую Лина еще на школьном вечере отметила в нем. Видимо, это ему присуще, есть в нем, вероятно, душевная потребность именно такого обращения с людьми. И сейчас — поднял руку, слегка шевельнул в воздухе пальцами: счастливой, дескать, дороги…
Радостно и чуть-чуть даже тоскливо стало девушке от мимолетной этой встречи с капитаном. Человек содержательной и красивой жизни, он такое глубокое впечатление произвел на нее на выпускном вечере, с такой проникновенной искренностью рассказывал им о степняке-парнишке, что с байды дядьки-капитана, преодолев все трудности, все-таки вышел на просторы океана… А в какой же она, Лина, отправляется океан? С какими предчувствиями трогается в первый свой рейс? Не океан, а, видимо, болото бумаг, валуны канцелярских столов ждут ее. Придется нервничать, трястись из-за каждой отметки, каждого балла. Сколько раз придется глушить в себе голос собственной совести, чтобы хоть на полшага продвинуться по пути к тому делу, которое ее совсем не привлекает! Бормашина да кресло — отец уверен, что именно они сделают Лину счастливой. А если она не пройдет по конкурсу? Отец развернет целую баталию, пустит в ход и угрозы и лесть, секретарш изведет допросами, а начальству будет униженно трясти руку, по-холопски схватив ее обеими руками. Будет и дочку учить науке заискиваний перед преподавателями, пронырству, ловкачеству. Неужели это неизбежно в жизни? Неужели рано или поздно, а надо будет с этим смириться?
В дороге «москвич» снова разладился, мотор несколько раз глох, кашлял, приходилось останавливаться. И пока отец гремел стартером или, подняв капот, что-то исправлял, Лина стояла у дороги, овеваемая горячим степным воздухом. Глаза отдыхали на желтых цветах дикой собачьей мальвы, скользили по упругим стеблям петрова батога, что синими звездочками светил среди посеревшей от пыли придорожной полыни, а думы Лины все были о том, как ей жить дальше и вообще как нужно жить человеку, чтобы он мог всегда открыто смотреть в глаза и капитану, и тому безногому озлобленному газорезчику Мамайчуку.
Напоследок мотор заглох (и теперь, кажется, окончательно), когда уже было рукой подать до канала, до места развернувшихся на его трассе работ. Уже видна была развороченная земля, целые холмы свежего грунта, среди которого, то скрываясь, то вновь показываясь, ходили бульдозеры, сверкая на солнце огромными лемехами.
Отец злился, до предела нажимал на стартер, то и дело крутил ручку, краснея от напряжения.
— Не заводится, хоть убей!
Нужно было искать какой-то выход, и отец решил: Лина остается у машины, а он идет пешком к каналостроителям просить подмоги. У них там много механизмов, смогут взять на буксир.
Отец ушел. Осталась Лина одна в «москвиче», который вскоре раскалился, как пустая консервная банка, — невозможно было сидеть в нем. Девушка выбралась на воздух, присела в тени машины на траве. Снова дикая мальва торчит перед нею, желтеет запыленными лепестками, жесткая, живучая… Земля накалена, как печной под. Ящерица прошмыгнула в нору, шмель пролетел, муравьи трудятся и трудятся без устали. А даль степная переливается текучим маревом, равнина такая же, как и в тундре, только небо здесь иное, и нет на Севере, в краю вечной мерзлоты, этих степных курганов, неизвестно кем и когда насыпанных… Чьи они? Скифские? Сарматские? Запорожские?
Отец долго не возвращается: нелегко, видно, было столковаться там в эту горячую рабочую пору. Наконец оттуда тронулась подмога. Степью напрямик, со страшным грохотом взрывая землю, вздымая тучу пыли, шла та подмога. Лина сначала даже не могла понять, что за чудовище ползет, бешено скрежещет навстречу.
Глазам своим не поверила: танк!
Настоящего танка она никогда не видела, только по кинофильмам и знала, а сейчас это, несомненно, он надвигался, окутанный пылью, огромный, яростный, безглазый, с загребущими гусеницами, с военным еще номером на грязно-зеленом борту. Только вместо башни на нем ребристо поднимается что-то похожее на кран, Лина позднее узнает, что это кто-то смекалистый, приспосабливая танк к мирной жизни, сбросив башню, действительно установил на танке обыкновенный рабочий кран, которым во время ремонта можно поднимать самые тяжелые двигатели. Танк с лязгом развернулся перед «москвичом», водитель лихо подцепил малыша стальным тросом и легко поволок в сторону канала, словно букашку какую-нибудь поволок! Лина, притаившись, сидела в «москвиче», сгорая от стыда. Она будто увидела себя со стороны, представила, каким смешным в глазах людей выглядит их лимузинчик, буксируемый по стерне огромным рабочим танком. Зрелище со стороны, наверно, и впрямь было занятное: все бульдозеры, скреперы, взобравшись на гору, остановились, водители самосвалов начали сигналить; видно было, как отовсюду бульдозеристы машут фуражками, и где-то на валу под самым небом сверкают белые зубы на запыленных лицах, — хохочут все, вся степь хохочет, наблюдая, как стальной буро-зеленый мамонт тащит к табору эту голубенькую, подхваченную в степи букашку.
Уже танк остановился и трос отцепили, а Лина все не решалась выйти из своего укрытия; самый воздух здесь, казалось, насыщен сверканием насмешек, хохотом, издевкой… Наконец она выскользнула из машины, будто волной выплеснутая навстречу этим людям, бульдозерам, тягачам, самосвалам. И все здесь было непривычным, обнаженным, поражающим — зубатые механизмы, жилые вагончики, Доска почета, бочонки с водой… Кто-то попросту, как запорожец, пьет прямо из бочонка, потом передает посудину отцу, и тот, напившись, солидно советует возить воду цистерной, а не такими вот бочонками.
— А мы нарочно это делаем, — отвечает тот, что пил, молодой, запыленный смугляк, и белки его глаз по-цыгански играют лукаво. — Если бы привезли цистерной, то на три дня — и протухла бы вода! А в таких волей-неволей ежедневно возят, и, стало быть, свеженькую пьем! Хочешь? — предложил он Лине и осторожно придержал бочонок, пока она напилась.
Напившись, сказала негромко:
— Благодарю.
— Так ты меня не узнала? — поставив бочонок на землю, весело окинул ее взором смугляк. — Это же я тебя на буксир брал! Никогда танкистом не был, а тут пришлось… А зовут меня Микола Египта, хоть с египтянами я родич такой… На одном солнышке портянки сушил! Ну, мы поехали! — крикнул он и, проворно забравшись в танк, рванул с места, аж земля задрожала.
Лина, сама не зная почему, улыбнулась ему вслед.
Пока отец возле походной мастерской ведет деловые переговоры, а потом с кем-то из ремонтников начинает обследовать внутренности «москвича», Лина, еще не совсем придя в себя после пережитого волнения, стоит, насупленно рассматривает Доску почета, откуда на нее смотрят, видно, те же самые бульдозеристы, которые только что хохотали на валу. Они и здесь, на фотографиях, веселые, бесшабашные, среди них и тот смугляк, что воду пил, а одеты еще по-зимнему или по-весеннему, в фуфайках. У этого шапка-ушанка набекрень, на ухо, а у того нарочно надвинута на лоб, этот положил на гусеницу бульдозера руку, словно другу на плечо, тот картинно позирует, подбоченясь, а один, здоровый, широкоплечий, видно развлекая товарищей, скорчил такую мину перед объективом, что невольно улыбнешься.
Из-за вагончика вышла девушка в ситцевом выгоревшем платьице, вероятно, ровесница Лине, только куда крепче, здоровее ее — из огня и солнца вся! Так и цветет здоровьем, тугое тело темно от загара.
— Просто комедия была смотреть, как вас тащили, — улыбается она Лине. — Это хлопцы ради шутки придумали для буксира танк послать. А Египте только подай…
— Нашли развлечение…
— Да вы на них не обижайтесь, — глаза девушки светились добротой и сочувствием. — Просто любят здесь у нас пошутить… А танк как раз без дела стоял. Ну, этот уж как зацепит, то потянет, он у нас трудяга.
Девчата разом взглянули на танк, стоявший поодаль на своем, видно, постоянном месте. Египта, выбравшись из танка по пояс, уже с кем-то ругался, ругался так, что Лине хотелось уши заткнуть.
— Не обращай внимания, — отворачиваясь от Египты, успокоила ее девушка. — Это он механика перевоспитывает.
Девчата разговорились. Вскоре Лина уже знала, что звать девушку Василинкой, а фамилия Брага, и что брат ее здесь работает бульдозеристом на канале, и что следующим летом она будет поступать в Ровенский институт инженеров водного хозяйства — канал обещает послать, будет стипендиаткой канала. А здесь? Здесь работает пикетажисткой — это от слова «пикет», канал на этом отрезке сооружается как раз между пикетами, которые она ставила. Обязанности несложные, ходишь, переставляешь гёодезическую рейку-пикет, а мастер нивелирует. Когда старик в хорошем настроении, то он и пикетажистку допускает к нивелиру, чтобы приучалась. Но это так, сверх программы, а главное дело пикетажистки переставлять рябенькие вешки.
— Видишь, вон у вагончика стоят? Одна моя, а другая — моей напарницы, ее сейчас нет.
— Где же она?
— Рассчиталась, мать у нее серьезно заболела, а ухаживать некому.
— Скажи, Василинка, своей работой ты… довольна?
— А что? Бывает, конечно, интереснее. Но и здесь пускай и по сто метров вперед, но все-таки вперед.
Другой мир, все такое далекое, а между тем Лине почему-то интересно было слушать и про эти пикеты, и про нивелиры, и про то, как здесь живут. Слушала, а тем временем кто-то подкрался из-за спины и — хвать ее за голову, схватил и крепко закрыл ладонями глаза. «Египта!» — мелькнула первая мысль, почему-то именно его руки представлялись такими горячими, крепкими, с орехами мозолей на ладонях. Нужно было отгадать, крикнуть имя, чтобы выпустил, и хорошо, что не крикнула, — когда высвободилась, увидела: Кузьма Осадчий! Улыбка до ушей, сам взъерошенный, в промасленной майке, в пылище. И в бровях и в чубе пыли набилось густо.
— Так вот кого тянули на буксире! — воскликнул Кузьма. — А я думал, там только старик твой. В путь-дорожку дальнюю? Куда же, если не секрет?
— Она в медицинский едет документы сдавать, — отозвалась первой Василинка.
— Что-то не слыхал я, чтобы ты медициной увлекалась, — удивился Кузьма. — Скоростным методом открыла в себе такую склонность?
— Какая там склонность, — досадливо усмехнулась Лина, а Кузьма весело, искренне пожелал:
— Ну, зеленой тебе улицы и голубого неба! А мы здесь, видишь, землицу пересыпаем. С места на место пересыпаем, а говорят, что-то получается.
— Не что-то, а магканал, — поправила Василина.
— Вот слышишь, маг… То есть магистральный, — объяснил Кузьма, — а не потому, что перед тобой какие-то маги… Здесь без магии, здесь вкалывать как следует надо. Но зато отгрохаем такой, что посолиднее будет, чем известные тебе каналы марсианские, которые Скиапарелли открыл. С самого Марса в телескоп виден будет наш степной арык. — Хлопец оживился, расфантазировался: — Уже где-то там сидит себе, пожалуй, этакий ученый-марсианин, немного на самурая похожий, рассматривает нашу работу в окуляр телескопа и покряхтывает: что такое? Не было канала в этом секторе Земли, и вот он уже есть! Где была бурая пустыня, ровная какая-то полосочка легла. Оптический обман? Или, может, и там, на планете Земля, есть более или менее разумные существа? Что-то там роют, прокладывают, ведут… А если так, то нужно их сооружение немедленно нанести на карту открытых каналов да скорее в диссертацию, ей-ей, за это дадут кому-нибудь доктора марсианских наук!
Девчат развлекают его шутки, обе смеются, а Кузьма тем временем, по-рабочему размашистым движением схватив бочонок с водой, пьет с жадностью, так что слышны глотки: «клох… клох…» Все у него здорово получается, хлопец и пьет даже так, как только что пили здесь взрослые бульдозеристы. Напившись, утирается всей пятерней, по-рабочему. Совсем недолго и пробыл здесь, а уже появилось в нем что-то уверенное, властное, расставив ноги, твердо стоит на земле Кузьма-каналостроитель, только жаль, что в ушах землища, хоть гречиху сей. А давно ли то было, когда хлопцы их класса еще только учились водить трактор. И сколько смеху бывало, когда за руль садился этот лопоухий Кузьма!.. То ли он придуривался, то ли в самом деле не умел управлять, только трактор никак не хотел слушаться и, выписывая по площади пьяные зигзаги, лез куда-то в степь наобум, а хлопцы изо всех сил кричали незадачливому водителю вдогонку:
— Кузьма, держи картуз!
Картуз был тогда на Кузьме какой-то чудной, не нашей эры, с переломанным козырьком, где он только такой выкопал! Даже жаль, что сейчас нет на Кузьме этого картуза, не удержал, видно, все-таки потерял где-то по дороге сюда, вместе со своей ученической беззаботностью.
— Вот так, Лина… Степи собираемся обводнить, а самим покамест напиться негде: бросай агрегат и беги к этим бочонкам за глотком воды.
— Потому что термосы порасплющивали, — говорит Василина с упреком.
— А как его не расплющишь, когда идешь почти слепым полетом… Принесут, поставят в бурьяне, разве ж там заметишь ваш термос… Наедешь — и лепешка из него!
— Подумаешь, герой! — спокойно хмыкнула Василинка. — А вчера кому от батька влетело за нарушение правил безопасности? Грозился и уши оборвать.
— Эти оборвет, другие вырастут, — отбился шуткой Кузьма и объяснил Лине: — Мастер нажаловался отцу, что высокие гребни оставляю, могло бы завалить… Но скоро мое пребывание в стажерах-подпасках закончится, уже есть телеграмма из Харькова: партию новых бульдозеров нам отправили, где-то и мой среди них.
— Еще дадут ли, — поддразнила Василинка.
— Дадут. Поблагодарю отца за науку, за здоровую критику, за бульдозер и на свой, на новый пересяду. Хватит ходить в подручных, заживу под лозунгом: «Вольносць и неподлеглосць!»
И, тряхнув чубом, Кузьма вразвалку направился к месту работы. Уже отойдя, обернулся к Лине:
— Хочешь посмотреть, какие горы ворочаю?
Девчата, весело переглянувшись, пошли за ним.
Построенный когда-то на границах Римской империи Троянов вал, следы которого еще и до сих пор тянутся по степям Приднестровья, вряд ли мог бы даже во времена строительства равняться мощью с этим валом — насыпью грунта, свежевывороченного из трассы канала. С высоты вала видна вся панорама работ. Но где же именно проляжет трасса канала? Лине без привычки трудно разобраться в этом хаосе. Всюду роют, взламывают, переворачивают степь, там снимают верхний слой, а здесь земля уже порезана глубокими траншеями, в одном месте лоснится чернозем, а рядом бульдозеры уже выгрызают из глубины желтую извечную глину, выгребают ее наверх, на валы, насыпают целые холмы. Посмотришь со стороны, кажется, что только пересыпают землю с места на место, а участниками строительства во всем этом угадывается порядок, мысль каналостроителя безошибочно сквозь этот хаос ведет ось канала, видит в степях будущее полноводное русло.
— Обрати внимание, Лина, как выполнены подготовительные работы, — указал Кузьма на тот участок, где склоны канала были уже сформированы. — Будто вручную, правда? А делалось все машиной! Это нужно уметь! Все брат ее, — кивнул на Василину. — Настоящий художник своего дела, народный художник земляных работ! Где Левко Иванович планировал дамбу, не требуется никаких ручных доделок. Да и вообще у нас народ здесь — во! Большинство ветераны, с Ингульца пришли, с Ингулецкой системы, — продолжал хвалиться Кузьма. — И в Придунайщине тоже наши систему озер создают… Гребни, стены вон те зачем? Мы их специально оставляем между забоями, чтобы грунт не расползался. Уж когда врежешься в траншею, то все вперед толкаешь. Ну, а потом мы, ясно, и те перемычки ломаем. Как наедешь, стена земли перед тобой садится, так и никнет. А когда вверх берешь, грохот такой, как в ракете, просто глохнешь от него. — Кузьма широко улыбнулся. — Вот это мой робот, — остановился он у бульдозера, неуклюже накренившегося.
Квадратная металлическая кабина, в кабине рычаги торчат, на сиденье комом брошенная фуфайка, промасленная, смятая. Кузьма, забравшись в кабину, усаживается на той фуфайке.
— «Чтоб вырастить розу, будьте землей… Я говорю вам, будьте землей!» — весело кричит он с бульдозера слова какого-то восточного поэта.
Скрежет гусениц, рев железа, удар чадной волны… Машине тяжело, натужный грохот оглушает Лину, она шарахается в сторону, а Кузьма беззвучно хохочет в кабине и направляет бульдозер вниз, в пыль, в жару, в разворошенный земляной водоворот.
— Пошел наш Кузьма на просторы двадцатого века, — шутит Василинка, видимо, привычной здесь поговоркой, и Лина даже в этой шутке ощущает атмосферу жизни своеобразной, ей недоступной.
Просторы двадцатого века — и выдумают же такое!.. Оглядываясь вокруг, Лина, однако, замечает, что просторы здесь как-то особенно чувствуешь, — они словно бы оживают, еще лучше видишь рядом с этим развороченным котлованом безбрежность степей и огромность полуденного неба.
— А наши хатки на колесах, правда, красивенькие? — кивает Василинка на яркие желто-красные и голубенькие вагончики, которые вроде автобусов на стоянке сгрудились внизу. — Это из Эстонии нам доставили.
Девчата неторопливо направляются туда, увязая в разрытой теплой земле.
— Привыкла уже, Василинка, к жизни на колесах?
— А что привыкать? Зато ведь нам, кроме основной ставки, еще и «колесные» платят, или «пыльные», как мы их называем, — рассудительно говорит Василинка, и ее большие блестящие карие глаза лучатся улыбкой. — Вагончиков, правда, не хватает, часть наших в Брылевке живет, их на машинах возят на работу и с работы. Я тоже иногда езжу: натрясешься за дорогу, стиснут тебя, сидишь, согнешься — колени выше ушей! — Она снова улыбается ровной своей улыбкой, спокойная невозмутимость, кажется, никогда ее не покидает.
— А все-таки я вижу, тебе такая жизнь по душе.
— Жизнь как жизнь. Бывает, и допекут тебя чем-нибудь, а потом глянешь вокруг… все же твоя работа видна… Не зря живешь.
Бульдозеры всюду грохотали, будто амфибии плавали в земле, и уже не узнать было, где там Кузьма Осадчий — затерялся хлопец со своим агрегатом среди других бульдозеров, слился с ними, с их грохотом, скрежетом, пылью.
А тем временем и у людей, которые исправляли «москвич» возле ремонтного вагончика, дело, видно, приближалось к концу.
Один из рабочих-ремонтников, которые помогали Яцубе, давал хозяину последние напутствия:
— Не допускайте, чтоб вода закипела. И на стартер не жмите без памяти. А если вам придется ехать по заповедной степи, будьте особо внимательны.
— Это почему же?
— Чтобы зубробизоны с вами не пошутили. Они же там на воле гуляют.
— Ну вот, пораспускали… Скоро и львов из-за решеток повыпускают. А зубробизоны, разве они на людей кидаются?
— Человека увидят — ничего, а больно уж почему-то не любят такие вот персональные автомобильчики последнего выпуска. Только увидит, прет за ним изо всех сил, чтоб на рога поднять.
— Ну, это уж вы заливаете, — изучающе-подозрительно посмотрел на собеседника отставник.
— Я очевидец, — подходя, говорит Египта. — Сам был свидетелем, я ж и там работал одно время. Как-то мы на «ЗИСе» набираем сено в степи, вдруг топот! Оглянулись — табун! Целый табунище бизонов летит на нас! Братва кто куда, а бизоны и не к нам, они прямо к нашему «ЗИСу»! Как двинули, так и полетел вместе с сеном вверх тормашками. Так это же «ЗИС»! А такого лилипута, как ваш, ковырнет одним рогом и вверх колесами поставит.
Яцуба, вытирая испачканные мазутом пальцы, посматривал исподлобья на Египту, не знал, видимо, верить или нет, серьезно тот говорит или только разыгрывает, дурачит его.
Потерял майор Яцуба здесь времени немало. Однако за работой не забывал поглядывать на дочь, видел, как она сначала с интересом разговаривала с какой-то здешней пышногрудой девушкой, потом сын Осадчего присоединился к ним, и слышны были оттуда хиханьки да хаханьки, все между делом видел майор: и как смеялись, и как воду пили, и как ходили на вал. Потом девчата зачем-то вдвоем вон в тот вагончик шмыгнули, где штаб всего этого отряда.
Когда наконец «москвич» завелся, Яцуба от облегчения даже подобрел, настойчиво просигналил раз и другой, потом высунулся из машины и крикнул бодро:
— Лина! Где ты там? Поехали!
Дочки какое-то время не было, потом она появилась в дверях вагончика, непривычно веселая, возбужденная, даже поразила отца своей приветливой возбужденностью, а еще больше поразила рейкой полосатой в руках.
— Папа, я не еду. Я остаюсь здесь… Я — пикетажистка!
Разогнув сомлевшую поясницу, Яцуба оглядывает свое хозяйство. В это время собака, здоровенная овчарка, бросается к калитке и, став на задние лапы, выглядывает на улицу через забор; явный признак, что за оградой кто-то есть.
— Лина! — слышен оттуда девичий голос.
Лина словно ждала этого: оторвавшись от цветов, метнулась к забору, схватила собаку за ошейник, отбросила в сторону.
— Заходи, заходи, он не тронет, — говорит она той улыбающейся особе, что появляется во дворе в походных синих шароварах, с рюкзаком за плечами и палкой в руке. Ах, Тоня Горпищенко пожаловала! В дорогу, что ли, она снарядилась?
— Попрощаться забежала, уезжаю, — весело звенит Тоня, а заметив меж виноградными шпалерами чалму майора над литой бронзой спины, задиристо бросает и туда:
— Здравствуйте! Когда уж вы своего пса в милицию передадите?
— Он и мне нужен, — угрюмо откликается майор.
— Там хоть ворюгу какого-нибудь поймал бы.
— Пускай сами себе обучают.
И майор снова налег на тяпку.
Лина в тихом восторге осматривает Тоню в дорожном ее снаряжении.
— Ты все-таки решилась?
— А что? Лето пробуду в пионерлагере, помуштрую малышню, накупаюсь в море, а тогда…
— Что тогда?
— Вернусь в совхоз да организую девичью чабанскую бригаду! — смеется Тоня. — Из тех, что по конкурсу в институты не пройдут. Мы тогда кое-кому нос утрем! Есть же вон в совхозе «Приморский» такая бригада, из одних женщин-чабанок. Их старшая чабанка даже в Москву на выставку ездила, а я-то что ж, не смогла бы? По сто двадцать ягнят не дала бы на сотню овцематок? — Смеясь, она даже ногой притопнула. Легко выскользнув из-под рюкзака, Тоня бросает его наземь. — Герлыгой меня не запугаешь, я же потомственная чабанка.
Лина оживает, веселеет возле подруги, словно биотоки какие-то льются на нее от Тони, словно самую силу жизни излучают эти полные искр и блеска глаза и личико лукавое, разрумянившееся, персиково-тугое… Этой Тоне просто позавидовать можно: из всего умеет черпать радость, жизнь для нее полна гармонии, на каждом шагу ждет ее счастье. И разве не эта жизнерадостная беззаботность придает ей такую красоту, солнечность?
— Ой, как твои гладиолусы распустились!
Тоня уже возле клумбы, над каждым цветком наклоняется, над каждым ахает от восторга.
— Ах, какой! А этот! Ух, красавец! Как небо при восходе солнца! Заря утренняя… Только еще нежнее.
— А этот, жемчужно-розовый? — Лина еле сдерживает гордость. — Мне он почему-то больше всех нравится… «Ариозо» называется этот сорт. Снег и утренняя заря… Хотя и это не точно. Такие тонкие цвета, видимо, только музыкой можно передать.
— А это что за казак? — Тоня уже склонилась над другим цветком, рубиново-красным.
— Ты угадала, казак и есть — «Степан Разин»… А это «Касвалон»… Белый — это «Зоя»… А это «Синьорита», — касается Лина рукой яркого, оранжево-абрикосового соцветия.
А Тоня пробегает взором грядку все дальше, маленькие загорелые, в ссадинах руки ее так и мелькают между стеблями да соцветиями, глаза зорко всматриваются в тугие нераспустившиеся бутоны, что выступают на верхушках.
— Столько сортов!.. И каждый нужно было кому-то вывести… — на миг задумалась Тоня.
Лина, подпушивая землю детскими грабельками, улыбнулась:
— Есть теория, что цветы занесены к нам с других планет. Что когда-то на Земле были одни только папоротники…
— Выдумки! И не забивай ты ими себе голову. Где это те планеты, чтобы с них такие цветы до нас долетели? Люди, люди, Линок, сами все вывели!
— И в то же время есть люди, Тоня, которые век живут и никогда не видят такого, — ответила сдержанно Лина. — Это же цветы солнца, не всюду их вырастишь. Я уже думала: если бы хоть несколько сортов на Север!.. Ведь я и сама, пока была на Севере, просто не догадывалась, что есть на свете такая красота.
— Гладиолусов и у нас не густо. Вот, пожалуй, только у тебя. У нас возле хат больше мальву сеют, ты же видела, возле школы у нас полно мальв: крепкие, высокие вытягиваются. Правда, бывает, и мальва может пригодиться в роли наглядного пособия, — усмехнулась Тоня с обычным своим озорством. — Как-то в пятом классе спросили мы Василия Карповича, что такое эстетика, так он нам как раз на примере с мальвой объяснял. «Посмотрите, говорит, в предвечерний час, когда мальва расцветает, а солнце нальет ее краской, и лепестки просвечивают насквозь, и вся она сияет красотой…» Вот и все, что мне запомнилось про эстетику, — засмеялась Тоня и, заметив грусть в глазах Лины, спросила: — А разве у вас там, при лагерях, в тундре… вовсе никакие цветы не выдерживают? Мох, и больше ничего?
— Нет, растут и у нас там… цветы — морозники называются… Они, как подснежники, пробивают снег и цветут… Я вот напишу, мне вышлют, может, скрестить удастся.
Тоня снова приникла к цветам.
— Ну, Лина, как хочешь, а эту «Ариозочку» ты мне срежь. Без нее со двора не уйду!
Лина сбегала на веранду и, вернувшись с ножницами, осторожно срезала стебелек гладиолуса, над которым Тоня стояла неотступно. Подавая стебелек Тоне, спросила:
— Это для?..
— Тсс!.. — приложив палец к губам, цыкнула Тоня и озорно оглянулась в сторону майора. Потом неожиданно громко, чтобы и майор слышал, выпалила: — А то кому же! Ему, властелину эфира! Забегу, подкрадусь тихонечко с улицы к радиоузлу, положу на окно, пускай сам догадается… А его и отрывать не буду, он теперь из наушников и не вылезает…
Лина улыбнулась, спросила тихо:
— Как же он, ревнивец такой, тебя отпускает?
— Все будет о'кей, как говорит капитан, — пошутила Тоня и снова весело притопнула ногой: ей не стоялось на месте. — Это Лукия Назаровна думала, что, как спровадит Тоньку в пионерлагерь, так может быть спокойной за своего сыночка. Ох, ошибаетесь, уважаемая моя будущая свекровь! Забыли, что где сердце лежит, туда и глаз бежит!
С этими словами Тоня подхватывает с земли рюкзак, ловко набрасывает на спину, на бегу чмокает Лину в щеку и, шутливо погрозив собаке палкой, исчезает за калиткой.
Лина присела на скамью в тени ореха, взволнованная, охваченная радостным смятением. Ну и Тоня! Нет ее, уже побежала, уже где-то взбивает палкой по улице пыль, а здесь, во дворе, еще звенит ее смех, в самом воздухе словно бы еще искрится безудержное Тонино веселье, полыхает огонь ее темперамента. Недавно они целым классом ездили на экскурсию в Крым (Пахом Хрисанфович сдержал-таки слово и дал грузовик). В дороге Тоня показала себя такой заводилой, что Лина подчас просто поражалась ее кипучей энергии, общительности, умению не обращать внимания на неприятные мелочи, всей душой жить, упиваться этим щедрым миром и его чудесами. Какое было путешествие! Махнули они до самого Севастополя, побывали на раскопках Херсонеса, где больше всего Лину поразили не стародавние беломраморные колонны да капители, а арбузные семечки, которые с эллинских времен сохранились в глиняных амфорах и свидетельствовали о том, что и эллины разводили бахчевые. Потом побывали на Сапун-горе и, затаив дыхание, осматривали диораму, на которой, словно живые, вставали герои штурма — солдаты и матросы, охваченные пламенем битвы. А как потрясло их, когда, осматривая Графскую пристань, они узнали от экскурсовода, что среди десантников-черноморцев, первыми ворвавшихся на Графскую пристань, был их земляк, их вечно заросший грязной щетиной Мамайчук Мартын, который сейчас со скрежетом гоняет по совхозу на своих колесиках! Сегодня как-то и не похож этот искалеченный человек на героя, а тогда он первым поднял свою бескозырку на высокой арке над Графской пристанью, и бескозырка заменяла атакующим знамя, оповещала всех, что в тот день, 9 мая 1944 года, советский воин с боем возвратился в Севастополь… Подвиг стоил Мамайчуку дорого: с севастопольской мостовой его, тяжело раненного, забрали в госпиталь; и боевой орден, которым командование наградило героя-десантника, еще долго после войны разыскивал его, пока не нашел инвалидом без ног в этом овцеводческом степном совхозе.
Завершением их экскурсии была Новая Каховка — солнечный молодой город с могучей плотиной гидростанции, с раздольным гоголевским Днепром, с исполинскими платанами, раскинувшими вдоль берега высокие свои шатры; из-под корней у них большими и малыми струями звенит-струится родниковая вода, множество ключей бьет, чистых, разноголосых; они сливаются в единую, тихую и певучую музыку воды. А дорога, которой они ехали в Каховку, — широкий степной шлях, на десятки километров обсаженный мальвами! С ума можно было сойти от этой красоты! От самого Ново-Троицка и до Каховки цветут и цветут они вдоль шляха, крепкие и высокие. Белым цветом! Розовым! Красным! Желтым! Не боятся ни зноя, ни горячих сухих ветров. Вот такой жизненно цепкой, сильной и неподатливой представляется Лине и эта неугомонная Тоня Горпищенко, что живет и не тужит. Рюкзак на плечи и — в пионерлагерь на целое лето вожатой. «А я? На что я способна?»
Выводит Лину из задумчивости стук калитки: это пришла мачеха, еще довольно моложавая женщина, но такая раскормленная, с таким животом, что и не поймешь — беременна она или это «соцнакопление». Присев тоже в холодке под орехом, мачеха, тяжело дыша, спрашивает Лину, что ей собирать в дорогу, ведь она, мол, ради этого и с работы отпросилась. А девушку даже досада берет: поездка всего на два дня, только документы сдать и назад, а суматохи, будто собирают тебя на остров Диксон. Утром отец проверял чемоданчик, сейчас мачеха будет наводить контроль.
— Чего там собирать!.. Что нужно, уже собрала, — с еле скрываемым раздражением говорит Лина, и ей самой становится неприятно за этот свой тон.
Но мачеха, видимо, привыкла к нему, провинность ее прошлого словно бы требует именно такого отношения со стороны падчерицы, и Яцубиха, пожалуй, была бы даже удивлена, если бы Лина заговорила иначе.
Подошел отец.
— Что нового на медфронте? — спрашивает он.
И мачеха, отдышавшись, послушно рассказывает (так, словно докладывает), что директора снова привезли из степи на медпункт в тяжелом состоянии, а во Втором отделении поранился у трактора хлопец-прицепщик, а Мамайчук-неуправляемый приходил за справкой о состоянии здоровья.
— Собирает документы, тоже думает поступать. И знаете куда? В Духовную академию!
Отец, разматывавший полотенце с головы, так и застыл, уставившись на жену.
— Да он что, обалдел? В логово поповское?
Лина узнает Мамайчука и в этом. Она уже представляет его, Гриню-неуправляемого, в рясе, с кадилом в руке, перед толпой «грешников». Наконец-то Грине пригодится стиляжная его борода: словно знал, зачем отращивал!
— Вот это будет пастырь! — смеется Лина. — Этот поисповедует бюрократов…
Отцу же не до смеха.
— Отколол номер! — насупившись, бормочет он. — Один отколол, а с десятерых спросят. ЧП. Настоящее ЧП. Пятно на весь район, на область… Непременно с каждого из нас спросят, где были, куда смотрели!
— Не ты же его подговаривал, — успокаивает мачеха. — У него есть отец, да еще и герой, с отца пускай спрашивают. Ты-то тут при чем?
— Как при чем? — взъярился Яцуба. — Они хаты будут жечь, а наше дело сторона? Пятно на всю область, а я сбоку? Да вы понимаете, что это такое?! Комсомолец — и в Духовную! Из этой самой ячейки, где я жизнь начинал, где мы поповен из комсомола исключали, теперь заявление в попы! А мы, старшие, где были, куда смотрели? Нет, я иду в штаб. Я должен быть там!
Через минуту отцовская капроновая шляпа уже колыхалась по ту сторону забора.
Лину тоже разбирало любопытство — хотелось больше услышать об этой сенсационной новости; она вспомнила, что нужно сдать несколько книг в клубную библиотеку, которой по совместительству тоже заведует сумасбродный Гриня; быстро собрав их — это были сборники стихов, — Лина направилась в клуб. Впрочем, до клуба она и не добежала — какой там клуб, когда вся суматоха у конторы; здесь стоит Мамайчукова летучка, и любопытных уже собралось немало, а сам виновник переполоха молча хлопочет в кузове своего украшенного лозунгами фургона, спокойно, будто ничего и не случилось, укладывает коробки с кинолентой, прежде чем двинуться в отделение совхоза. А паства, состоящая из конторских девчат и рабочих, которые, заняв очередь, ждут на крыльце кассира, да еще хлопцев-радистов, что выглядывают из окна радиоузла, расплываясь в улыбках, — эта паства с веселой жадностью ждет слова будущего своего пастыря.
Закончив работу, Гриня высовывает невзрачную свою медно-рыжую бороденку из фургона.
— И не удивляйтесь, — говорит он. — Все бросились по институтам, по техникумам, все заявления подаете, а я что, у бога теленка съел? Вы в светские заведения, а я в духовное, это меня больше устраивает. Стипендию обещают приличную, кормить будут калорийно, что для моего организма тоже не последнее дело… А главное, конечно, не в харчах, а в духовной пище, которой так жаждет моя душа. Источники истины, где они? Для чего живу? Кем я создан и каково мое предназначение на этой грешной планете? Все не разгадано. Все покрыто мраком неизвестности. А между тем я все больше чувствую, что мое существо действительно божественного происхождения. Чем я отличаюсь, скажем, от коня?
— Или от барана? — бросает кто-то из очереди.
— А тем, — пропустив реплику мимо ушей, продолжает Гриня, — что я не только про силос думаю! Четырнадцать миллиардов клеток вложено мне в эту черепную коробку, для чего это? Для силоса? Нет, для работы куда более сложной…
В это время из глубины конторских недр появляется майор Яцуба и, растолкав девчат, выходит на крыльцо, обращается к Мамайчуку:
— Тебя приглашают!
— Слышите, приглашают, — улыбается Гриня пастве. — Раньше вызывали, требовали, а теперь приглашают…
Когда он в своей рубашке навыпуск горделиво проходит мимо Яцубы, тот бросает ему с презрением:
— Позор! Я в твоем возрасте, милейший, церкви разрушал, а ты? Из узких брючек да в рясу?
Мамайчук меряет взглядом сухопарую фигуру Яцубы.
— Хотите знать, кто меня толкает на этот шаг?
— Ну-ну! Кто?
— Вы! Вы, товарищ отставник! Нестерпимы до одури стали ваши поучения, вот почему иду в объятия клерикалов!
Громко выпалив это, Гриня степенно шагнул через порог в узкий конторский коридор, а следом за ним, будто конвоир, пошел и майор, горячо доказывая свое.
Было известно, что Гриню вызвало на беседу совхозное начальство, что и отец его тоже сейчас там, в директорском кабинете, и даже есть кто-то приезжий: будут вместе уламывать неуправляемого.
Кто знает, о чем с ним вели там переговоры, только Гриня долго не выходил, а когда вышел, поднял вверх указательный палец и тоном Галилея, произносящего свое знаменитое «А все-таки она вертится!», изрек:
— Юмор, люди. Юмор превыше всего!
Заметив Лину, что с книжечками под мышкой, сутулясь, стояла в сторонке у газетной витрины, Гриня мимоходом удостоил ее своим вниманием:
— Сдавать принесла, дщерь?
И, взяв книжки, Гриня небрежно бросил их в кузов своей передвижки. Через минуту только пыль таяла на том месте, где стоял разукрашенный лозунгами фургон, — помчалась работящая кинопередвижка в отделение.
— Кто бы мог подумать, Гриня — и в академию! — бросила одна из конторщиц, а чабан Бунтий, который, опершись на герлыгу, все время стоял на крыльце молча — усы аккуратные, рубашка чистая, — молвил негромко:
— Нету таких академий, чтоб набирали дураков, а выпускали умных.
…Вечером майор Яцуба, натянув на себя комбинезон, хлопотал в гараже, готовил «москвича» в дорогу. Но и ковыряясь в моторе, видно, не мог отделаться от мысли о Мамайчуке, при каждом удобном случае обращался к жене, которая, тоже готовясь к завтрашнему дню, то и дело спускалась в погреб или поднималась из погреба:
— Ты только послушай, к чему он клонит, стервец… Еще нас же хочет и виновными сделать перед приезжим товарищем… «Мой шаг, говорит, вынужденный, это из-за вас, говорит, меня тянет либо взять в руки кадило, либо быть среди тех, кто на городских бульварах ржет по-лошадиному». Хохотом перепуганных идиотов это у них называется…
— По-моему, его просто нужно женить, — откликается Яцубиха. — Поговаривают, что к Тамаре-зоотехничке у него тайная любовь, оттого, может, и чудит…
— Нет, ты его поглубже копни… Он всем на свете недоволен. «Меня, говорит, мировая скорбь за душу хватает, снова чумаковать хочется, лишь только прикину, куда ведет эта атомная свистопляска… Ежели человечество, мол, не одумается, все на этой планете пойдет кувырком, начинай потом все с Адама. Кое-кого уже вижу, говорит, на полусогнутых, в звериной шкуре и с каменным топором в руках», — и, говоря это, смотрит прямо на меня, подлец…
Лина, покачиваясь в сетке гамака под орехом, слушает оттуда отцовские скрипучие рассуждения, и ей уже не смешно, что Мамайчук намеревается учиться на попа. Бессмысленно? А так ли много смысла в том, что она поедет обивать пороги в медицинский? Никогда не думала об этом, не собиралась, и вдруг — зубным врачом будет! Решала, правда, не она, решал за нее отец: он почему-то убежден, что из всех умений умение медика наиболее важное — медики и на фронте во время войны, и даже в местах заключения, в далеких исправительных лагерях, всюду люди нужные, дефицитные. Так в угоду его соображениям она вынуждена браться за нелюбимое дело, должна ехать, бороться за место, о котором кто-нибудь другой только мечтает. Разве что срежется на вступительных. Тоня шутит, грозится сформировать чабанскую бригаду из девчат, которые провалятся, а у Лины сейчас такое настроение, что хоть бы и провалиться.
Тоне можно позавидовать, ей все ясно, она сейчас далеко, уже где-то весело сияет глазами в отсветах пионерского костра, и никакие сомнения не раздирают ее — родится ж человек таким!.. А Лину терзают сомнения, душа ее неспокойна. Вверху над Линой в космической глубине алмазно блестят звездные узоры, стелется на юг Млечный Путь — Чумацкий Шлях, а когда на миг закроешь глаза, уже возникает перед тобой другая дорога, земная, степная, обсаженная мальвами, и про нее девушке хочется сложить стихи или передать все это музыкой… Потом ей почему-то вспоминается светлый лунный Крым и стиснутый скалами Бахчисарай, где их экскурсия ночевала, чебуречная, где вечером ели чебуреки, а после того при луне осматривали ханский дворец, парк и ту зловещую Соколиную башню, куда бросали девчат-полонянок… Окровавленных, растерзанных, измученных жаждой, гнали их по этой звездной чумацкой дороге с Украины в Крым. Растаптывались красота, честь, любовь, над всем господствовали произвол и культ грубых, кровавых ханов. Ханы сменялись ханами, а где они? Кажется, больше полсотни их было, а ни одного добрым словом не вспомнит ни песня, ни память людская… В небытие ушли вместе со своими евнухами, палачами, средневековыми пытками. Музейным экспонатом дотлевает грозная некогда Соколиная башня… Наверху она вся опоясана узорчатыми решетками, там держали соколов, обученных для ханской охоты. И только раз в год, по милости аллаха, туда, на башню, разрешалось подниматься невольницам-степнячкам, чтобы могли они посмотреть из той крымской тюрьмы на белый свет, на голубизну днепровскую, на далекое степное раздолье… Но и оттуда, с башни, им видны были лишь крутые горы, что нависают каменными лбами над городом, словно бы охраняя все живое, и только за теми гранитными скалами угадывали полонянки и горизонт широкий, и волю, и край родной… Сколько невольничьих песен в тех ущельях родилось, сколько слез было там пролито, от которых и ханский негорючий камень горел! Недаром же одна из пленниц на рушнике, что чудом сберегся с тех давних времен, вышила золотом и цветными нитями дерево-калину да соловья и посадила их в челнок-каючок, на лодочке послала ту вышитую девичью свою мечту через горы, куда порывалась ее душа!
Таков Бахчисарай. Словно жуткий сон, все это зримо вставало перед Линой: и тучи конников, и арканы, и полонянки, которых гоном гонят, чтобы похоронить в ханских гаремах степную их красоту и молодость, чтобы выпить, высушить их взлелеянные на воле чувства… Только потом, когда экскурсионная группа оставила наконец то прогнившее ханское логово да поднялась на гору, все мрачные видения прошлого разом исчезли, рассеялись, в горах был словно бы иной воздух, теплая южная ночь сухо звенела цикадами, и полная луна привольно сияла над Бахчисараем, над его минаретами и тополями. Лина и сейчас отсюда, из степи, будто охватывает взглядом все недавнее путешествие, чарующий край, где луна песенно освещает море, ровное и бесконечное, и поднятую в небо диадему Крымских гор от Ай-Петри до Чатыр-Дага. Какая-нибудь влюбленная пара, наверно, стоит теперь на том камне, где Лина недавно стояла, созерцает красоту ночных, наполненных свежестью долин, в которых то тут, то там лунный свет выхватывает силуэт тополя, что, будто придя из степей, побратавшись с кипарисом, стройно возвышается над кровавым ханским логовищем… Аромат ночи, стрекотание цикад, контральтовое клокотание воды в арыках… Все необычно, все не перестает удивлять Лину. Жила в снегах, в тундре, чувствовала ледяное дыхание арктического океана, грохот прибоев и даже не предполагала, что будут ласкать ее такие нежнейшие южные ночи, как там, в Крыму, и вот здесь, где пахнет орехом, степью, ночной фиалкой и спать можно во дворе, не залезая в меховой мешок, и где неутомимое стрекотание цикад будет звучать для тебя извечной мелодией мира…
До поздней ночи хватило отцу хлопот у «москвича», еще осталось и на утро. Собирались выехать с восходом, ведь неблизкая дорога, но уже и солнце поднялось, а «москвич» все голубовато поблескивает у совхозных мастерских, где отец еще что-то вытачивает да подпиливает. Лина тоже здесь, готовая в дорогу. Стоит в дверях мастерской и, не отрываясь, смотрит, как работает товарищ Куренной, бывший морской офицер-подводник, а нынче токарь по металлу. Есть что-то артистическое в его работе. Во время производственной практики хлопцы из их класса всегда толпой стояли у станка товарища Куренного, чтобы посмотреть, как он устанавливает резцы и начинает свое чародейство, как легко вьется ему под ноги лента сизого металлического серпантина. Лина однажды хотела взять стружку у него из-под ног, а она оказалась такой горячей, что даже пальцы обожгла. Этот товарищ Куренной в недавнем прошлом где-то на Севере плавал на подводной лодке, и, хотя до старости человеку еще далеко, пришлось брать отставку по состоянию здоровья. Дома, однако, после отставки сидеть не захотел, звали на работу в район, тоже не пошел, сам попросился в мастерскую. «Я, говорит, люблю токарничать…» И правда, любит, ничего не скажешь.
Властью над вещами, своим будничным трудовым творчеством — вот чем поражают здесь Лину рабочие. Муфты вытачивают, рессоры сваривают, в одном месте что-то куют, в другом разбирают мотор. Безногий газорезчик Мамайчук-старший в защитном козырьке умело и уверенно ведет язычок пламени по металлу, что-то выкраивает из толстого стального листа. От простого и до сложного — все умеют эти люди, все им дается. В углу мастерской ремонтируют кузов грузовика, там же приводят в порядок сиденья кабин, пружины новые вставляют вместо поломанных, на дворе несколько рабочих размышляют над каким-то приспособлением для комбайна, что-то налаживают, переиначивают, конструируют по-своему… Лине нравится эта атмосфера дела, творчества, коллективизма, нравится, когда механик, появляясь на пороге, кричит:
— Здорово, казачество!
А они и не смеются, будто и в самом деле казачество.
Напротив кузницы ржаво краснеют кучи разного лома, в котором Виталий Рясный и его друзья копались всю весну; сейчас среди железного утиля валяются, белея на солнце, еще и огромные манометры, снятые с того военного судна, что намертво легло в водах залива. Давно уже совхозные механизаторы раздели, ободрали то судно. Будто за «золотым руном» отправлялись они туда, в свои пиратские экспедиции, а теперь, во время перекура, собравшись возле мастерских, еще и ухмыляются, весело кивая в сторону залива, в сторону раздетогостального великана:
— Если б на колеса его да в степь… Вот был бы трактор!
Во время перекура Мамайчук-севастополец, порывисто-сердито отталкиваясь от земли, подъезжает к Яцубе, что все еще ковыряется в моторе голубенького своего «москвича»; инвалид ездит, скрежещет колесиками вокруг машины, насупленно рассматривает, будто впервые видит это чудо, и хоть сейчас Мамайчук не пьян, а Лина его почему-то побаивается. Девушку отпугивает и хмурое одутловатое лицо в грязной щетине, и увечье этого человека, и то, что на большом пальце у него вместо ногтя чернеет какая-то запеченная шишка, вроде пуговицы. Лине кажется, что ветеран вот-вот погрозит ей этой пуговицей или задаст какой-то такой вопрос, на который она не сумеет ответить.
Вопрос у него и впрямь созревает, но обращается он не к Лине, а к самому Яцубе:
— Скажи, друг, зачем тебе этот персональный «москвич»?
Отец отвечает шуткой, что вот, мол, повезет дочь в институт, пешком далеко идти, но Мамайчук шутки не принимает, ему, как всегда, не дает покоя Яцубина пенсия, которая, дескать, великовата для одного — на трех солдатских вдов хватило бы.
— Ты сознательный? Нет, скажи, ты сознательный? — въедливо, как клещ, пристает Мамайчук и указывает отцу на Куренного, хлопотавшего с комбайнерами у комбайна: вот, мол, он тоже отставник, с подводной списан, а сам пришел в мастерскую, потому что совесть у человека есть.
Слово за слово, и уже вспыхивает перебранка, отец кричит:
— Ты мне глаза этим не коли! Я не сам себе пенсию устанавливал! Я за нее пургой да цингой платил! Зубы вот… видел? — И он, оскалясь, показывает Мамайчуку полный рот нержавеющей стали. — Не на курорте, брат, был! Там был, где ребенок мой вместо яблок сырую картошку грыз. Жену похоронил, с собой не считался, с ног валился, своей власти служил! А сказали: «Бери отставку», — взял.
— Не взял бы… Сама жизнь тебе отставку дала, — взглядывает исподлобья Мамайчук, со скрежетом удаляясь в сторону мастерской, а отец, хлопнув капотом, повелительно бросает Лине:
— Садись!
«Москвич», лавируя меж комбайнов и старых сеялок, выбирается на простор, и тут девушка вдруг видит капитана Дорошенко; в белом кителе, в капитанской фуражке, он стоит над кучей ржавого лома, рассматривает огромную якорную цепь, которую тоже, видно, вместе с теми никому не нужными манометрами приволокли с ничейного судна. Давая «москвичу» дорогу, капитан посторонился и в этот момент заметил на переднем сиденье Лину, которая нескладно гнулась рядом с отцом, заметил и улыбнулся ей. Были в улыбке капитана доброжелательность и не многим свойственная деликатность, которую Лина еще на школьном вечере отметила в нем. Видимо, это ему присуще, есть в нем, вероятно, душевная потребность именно такого обращения с людьми. И сейчас — поднял руку, слегка шевельнул в воздухе пальцами: счастливой, дескать, дороги…
Радостно и чуть-чуть даже тоскливо стало девушке от мимолетной этой встречи с капитаном. Человек содержательной и красивой жизни, он такое глубокое впечатление произвел на нее на выпускном вечере, с такой проникновенной искренностью рассказывал им о степняке-парнишке, что с байды дядьки-капитана, преодолев все трудности, все-таки вышел на просторы океана… А в какой же она, Лина, отправляется океан? С какими предчувствиями трогается в первый свой рейс? Не океан, а, видимо, болото бумаг, валуны канцелярских столов ждут ее. Придется нервничать, трястись из-за каждой отметки, каждого балла. Сколько раз придется глушить в себе голос собственной совести, чтобы хоть на полшага продвинуться по пути к тому делу, которое ее совсем не привлекает! Бормашина да кресло — отец уверен, что именно они сделают Лину счастливой. А если она не пройдет по конкурсу? Отец развернет целую баталию, пустит в ход и угрозы и лесть, секретарш изведет допросами, а начальству будет униженно трясти руку, по-холопски схватив ее обеими руками. Будет и дочку учить науке заискиваний перед преподавателями, пронырству, ловкачеству. Неужели это неизбежно в жизни? Неужели рано или поздно, а надо будет с этим смириться?
В дороге «москвич» снова разладился, мотор несколько раз глох, кашлял, приходилось останавливаться. И пока отец гремел стартером или, подняв капот, что-то исправлял, Лина стояла у дороги, овеваемая горячим степным воздухом. Глаза отдыхали на желтых цветах дикой собачьей мальвы, скользили по упругим стеблям петрова батога, что синими звездочками светил среди посеревшей от пыли придорожной полыни, а думы Лины все были о том, как ей жить дальше и вообще как нужно жить человеку, чтобы он мог всегда открыто смотреть в глаза и капитану, и тому безногому озлобленному газорезчику Мамайчуку.
Напоследок мотор заглох (и теперь, кажется, окончательно), когда уже было рукой подать до канала, до места развернувшихся на его трассе работ. Уже видна была развороченная земля, целые холмы свежего грунта, среди которого, то скрываясь, то вновь показываясь, ходили бульдозеры, сверкая на солнце огромными лемехами.
Отец злился, до предела нажимал на стартер, то и дело крутил ручку, краснея от напряжения.
— Не заводится, хоть убей!
Нужно было искать какой-то выход, и отец решил: Лина остается у машины, а он идет пешком к каналостроителям просить подмоги. У них там много механизмов, смогут взять на буксир.
Отец ушел. Осталась Лина одна в «москвиче», который вскоре раскалился, как пустая консервная банка, — невозможно было сидеть в нем. Девушка выбралась на воздух, присела в тени машины на траве. Снова дикая мальва торчит перед нею, желтеет запыленными лепестками, жесткая, живучая… Земля накалена, как печной под. Ящерица прошмыгнула в нору, шмель пролетел, муравьи трудятся и трудятся без устали. А даль степная переливается текучим маревом, равнина такая же, как и в тундре, только небо здесь иное, и нет на Севере, в краю вечной мерзлоты, этих степных курганов, неизвестно кем и когда насыпанных… Чьи они? Скифские? Сарматские? Запорожские?
Отец долго не возвращается: нелегко, видно, было столковаться там в эту горячую рабочую пору. Наконец оттуда тронулась подмога. Степью напрямик, со страшным грохотом взрывая землю, вздымая тучу пыли, шла та подмога. Лина сначала даже не могла понять, что за чудовище ползет, бешено скрежещет навстречу.
Глазам своим не поверила: танк!
Настоящего танка она никогда не видела, только по кинофильмам и знала, а сейчас это, несомненно, он надвигался, окутанный пылью, огромный, яростный, безглазый, с загребущими гусеницами, с военным еще номером на грязно-зеленом борту. Только вместо башни на нем ребристо поднимается что-то похожее на кран, Лина позднее узнает, что это кто-то смекалистый, приспосабливая танк к мирной жизни, сбросив башню, действительно установил на танке обыкновенный рабочий кран, которым во время ремонта можно поднимать самые тяжелые двигатели. Танк с лязгом развернулся перед «москвичом», водитель лихо подцепил малыша стальным тросом и легко поволок в сторону канала, словно букашку какую-нибудь поволок! Лина, притаившись, сидела в «москвиче», сгорая от стыда. Она будто увидела себя со стороны, представила, каким смешным в глазах людей выглядит их лимузинчик, буксируемый по стерне огромным рабочим танком. Зрелище со стороны, наверно, и впрямь было занятное: все бульдозеры, скреперы, взобравшись на гору, остановились, водители самосвалов начали сигналить; видно было, как отовсюду бульдозеристы машут фуражками, и где-то на валу под самым небом сверкают белые зубы на запыленных лицах, — хохочут все, вся степь хохочет, наблюдая, как стальной буро-зеленый мамонт тащит к табору эту голубенькую, подхваченную в степи букашку.
Уже танк остановился и трос отцепили, а Лина все не решалась выйти из своего укрытия; самый воздух здесь, казалось, насыщен сверканием насмешек, хохотом, издевкой… Наконец она выскользнула из машины, будто волной выплеснутая навстречу этим людям, бульдозерам, тягачам, самосвалам. И все здесь было непривычным, обнаженным, поражающим — зубатые механизмы, жилые вагончики, Доска почета, бочонки с водой… Кто-то попросту, как запорожец, пьет прямо из бочонка, потом передает посудину отцу, и тот, напившись, солидно советует возить воду цистерной, а не такими вот бочонками.
— А мы нарочно это делаем, — отвечает тот, что пил, молодой, запыленный смугляк, и белки его глаз по-цыгански играют лукаво. — Если бы привезли цистерной, то на три дня — и протухла бы вода! А в таких волей-неволей ежедневно возят, и, стало быть, свеженькую пьем! Хочешь? — предложил он Лине и осторожно придержал бочонок, пока она напилась.
Напившись, сказала негромко:
— Благодарю.
— Так ты меня не узнала? — поставив бочонок на землю, весело окинул ее взором смугляк. — Это же я тебя на буксир брал! Никогда танкистом не был, а тут пришлось… А зовут меня Микола Египта, хоть с египтянами я родич такой… На одном солнышке портянки сушил! Ну, мы поехали! — крикнул он и, проворно забравшись в танк, рванул с места, аж земля задрожала.
Лина, сама не зная почему, улыбнулась ему вслед.
Пока отец возле походной мастерской ведет деловые переговоры, а потом с кем-то из ремонтников начинает обследовать внутренности «москвича», Лина, еще не совсем придя в себя после пережитого волнения, стоит, насупленно рассматривает Доску почета, откуда на нее смотрят, видно, те же самые бульдозеристы, которые только что хохотали на валу. Они и здесь, на фотографиях, веселые, бесшабашные, среди них и тот смугляк, что воду пил, а одеты еще по-зимнему или по-весеннему, в фуфайках. У этого шапка-ушанка набекрень, на ухо, а у того нарочно надвинута на лоб, этот положил на гусеницу бульдозера руку, словно другу на плечо, тот картинно позирует, подбоченясь, а один, здоровый, широкоплечий, видно развлекая товарищей, скорчил такую мину перед объективом, что невольно улыбнешься.
Из-за вагончика вышла девушка в ситцевом выгоревшем платьице, вероятно, ровесница Лине, только куда крепче, здоровее ее — из огня и солнца вся! Так и цветет здоровьем, тугое тело темно от загара.
— Просто комедия была смотреть, как вас тащили, — улыбается она Лине. — Это хлопцы ради шутки придумали для буксира танк послать. А Египте только подай…
— Нашли развлечение…
— Да вы на них не обижайтесь, — глаза девушки светились добротой и сочувствием. — Просто любят здесь у нас пошутить… А танк как раз без дела стоял. Ну, этот уж как зацепит, то потянет, он у нас трудяга.
Девчата разом взглянули на танк, стоявший поодаль на своем, видно, постоянном месте. Египта, выбравшись из танка по пояс, уже с кем-то ругался, ругался так, что Лине хотелось уши заткнуть.
— Не обращай внимания, — отворачиваясь от Египты, успокоила ее девушка. — Это он механика перевоспитывает.
Девчата разговорились. Вскоре Лина уже знала, что звать девушку Василинкой, а фамилия Брага, и что брат ее здесь работает бульдозеристом на канале, и что следующим летом она будет поступать в Ровенский институт инженеров водного хозяйства — канал обещает послать, будет стипендиаткой канала. А здесь? Здесь работает пикетажисткой — это от слова «пикет», канал на этом отрезке сооружается как раз между пикетами, которые она ставила. Обязанности несложные, ходишь, переставляешь гёодезическую рейку-пикет, а мастер нивелирует. Когда старик в хорошем настроении, то он и пикетажистку допускает к нивелиру, чтобы приучалась. Но это так, сверх программы, а главное дело пикетажистки переставлять рябенькие вешки.
— Видишь, вон у вагончика стоят? Одна моя, а другая — моей напарницы, ее сейчас нет.
— Где же она?
— Рассчиталась, мать у нее серьезно заболела, а ухаживать некому.
— Скажи, Василинка, своей работой ты… довольна?
— А что? Бывает, конечно, интереснее. Но и здесь пускай и по сто метров вперед, но все-таки вперед.
Другой мир, все такое далекое, а между тем Лине почему-то интересно было слушать и про эти пикеты, и про нивелиры, и про то, как здесь живут. Слушала, а тем временем кто-то подкрался из-за спины и — хвать ее за голову, схватил и крепко закрыл ладонями глаза. «Египта!» — мелькнула первая мысль, почему-то именно его руки представлялись такими горячими, крепкими, с орехами мозолей на ладонях. Нужно было отгадать, крикнуть имя, чтобы выпустил, и хорошо, что не крикнула, — когда высвободилась, увидела: Кузьма Осадчий! Улыбка до ушей, сам взъерошенный, в промасленной майке, в пылище. И в бровях и в чубе пыли набилось густо.
— Так вот кого тянули на буксире! — воскликнул Кузьма. — А я думал, там только старик твой. В путь-дорожку дальнюю? Куда же, если не секрет?
— Она в медицинский едет документы сдавать, — отозвалась первой Василинка.
— Что-то не слыхал я, чтобы ты медициной увлекалась, — удивился Кузьма. — Скоростным методом открыла в себе такую склонность?
— Какая там склонность, — досадливо усмехнулась Лина, а Кузьма весело, искренне пожелал:
— Ну, зеленой тебе улицы и голубого неба! А мы здесь, видишь, землицу пересыпаем. С места на место пересыпаем, а говорят, что-то получается.
— Не что-то, а магканал, — поправила Василина.
— Вот слышишь, маг… То есть магистральный, — объяснил Кузьма, — а не потому, что перед тобой какие-то маги… Здесь без магии, здесь вкалывать как следует надо. Но зато отгрохаем такой, что посолиднее будет, чем известные тебе каналы марсианские, которые Скиапарелли открыл. С самого Марса в телескоп виден будет наш степной арык. — Хлопец оживился, расфантазировался: — Уже где-то там сидит себе, пожалуй, этакий ученый-марсианин, немного на самурая похожий, рассматривает нашу работу в окуляр телескопа и покряхтывает: что такое? Не было канала в этом секторе Земли, и вот он уже есть! Где была бурая пустыня, ровная какая-то полосочка легла. Оптический обман? Или, может, и там, на планете Земля, есть более или менее разумные существа? Что-то там роют, прокладывают, ведут… А если так, то нужно их сооружение немедленно нанести на карту открытых каналов да скорее в диссертацию, ей-ей, за это дадут кому-нибудь доктора марсианских наук!
Девчат развлекают его шутки, обе смеются, а Кузьма тем временем, по-рабочему размашистым движением схватив бочонок с водой, пьет с жадностью, так что слышны глотки: «клох… клох…» Все у него здорово получается, хлопец и пьет даже так, как только что пили здесь взрослые бульдозеристы. Напившись, утирается всей пятерней, по-рабочему. Совсем недолго и пробыл здесь, а уже появилось в нем что-то уверенное, властное, расставив ноги, твердо стоит на земле Кузьма-каналостроитель, только жаль, что в ушах землища, хоть гречиху сей. А давно ли то было, когда хлопцы их класса еще только учились водить трактор. И сколько смеху бывало, когда за руль садился этот лопоухий Кузьма!.. То ли он придуривался, то ли в самом деле не умел управлять, только трактор никак не хотел слушаться и, выписывая по площади пьяные зигзаги, лез куда-то в степь наобум, а хлопцы изо всех сил кричали незадачливому водителю вдогонку:
— Кузьма, держи картуз!
Картуз был тогда на Кузьме какой-то чудной, не нашей эры, с переломанным козырьком, где он только такой выкопал! Даже жаль, что сейчас нет на Кузьме этого картуза, не удержал, видно, все-таки потерял где-то по дороге сюда, вместе со своей ученической беззаботностью.
— Вот так, Лина… Степи собираемся обводнить, а самим покамест напиться негде: бросай агрегат и беги к этим бочонкам за глотком воды.
— Потому что термосы порасплющивали, — говорит Василина с упреком.
— А как его не расплющишь, когда идешь почти слепым полетом… Принесут, поставят в бурьяне, разве ж там заметишь ваш термос… Наедешь — и лепешка из него!
— Подумаешь, герой! — спокойно хмыкнула Василинка. — А вчера кому от батька влетело за нарушение правил безопасности? Грозился и уши оборвать.
— Эти оборвет, другие вырастут, — отбился шуткой Кузьма и объяснил Лине: — Мастер нажаловался отцу, что высокие гребни оставляю, могло бы завалить… Но скоро мое пребывание в стажерах-подпасках закончится, уже есть телеграмма из Харькова: партию новых бульдозеров нам отправили, где-то и мой среди них.
— Еще дадут ли, — поддразнила Василинка.
— Дадут. Поблагодарю отца за науку, за здоровую критику, за бульдозер и на свой, на новый пересяду. Хватит ходить в подручных, заживу под лозунгом: «Вольносць и неподлеглосць!»
И, тряхнув чубом, Кузьма вразвалку направился к месту работы. Уже отойдя, обернулся к Лине:
— Хочешь посмотреть, какие горы ворочаю?
Девчата, весело переглянувшись, пошли за ним.
Построенный когда-то на границах Римской империи Троянов вал, следы которого еще и до сих пор тянутся по степям Приднестровья, вряд ли мог бы даже во времена строительства равняться мощью с этим валом — насыпью грунта, свежевывороченного из трассы канала. С высоты вала видна вся панорама работ. Но где же именно проляжет трасса канала? Лине без привычки трудно разобраться в этом хаосе. Всюду роют, взламывают, переворачивают степь, там снимают верхний слой, а здесь земля уже порезана глубокими траншеями, в одном месте лоснится чернозем, а рядом бульдозеры уже выгрызают из глубины желтую извечную глину, выгребают ее наверх, на валы, насыпают целые холмы. Посмотришь со стороны, кажется, что только пересыпают землю с места на место, а участниками строительства во всем этом угадывается порядок, мысль каналостроителя безошибочно сквозь этот хаос ведет ось канала, видит в степях будущее полноводное русло.
— Обрати внимание, Лина, как выполнены подготовительные работы, — указал Кузьма на тот участок, где склоны канала были уже сформированы. — Будто вручную, правда? А делалось все машиной! Это нужно уметь! Все брат ее, — кивнул на Василину. — Настоящий художник своего дела, народный художник земляных работ! Где Левко Иванович планировал дамбу, не требуется никаких ручных доделок. Да и вообще у нас народ здесь — во! Большинство ветераны, с Ингульца пришли, с Ингулецкой системы, — продолжал хвалиться Кузьма. — И в Придунайщине тоже наши систему озер создают… Гребни, стены вон те зачем? Мы их специально оставляем между забоями, чтобы грунт не расползался. Уж когда врежешься в траншею, то все вперед толкаешь. Ну, а потом мы, ясно, и те перемычки ломаем. Как наедешь, стена земли перед тобой садится, так и никнет. А когда вверх берешь, грохот такой, как в ракете, просто глохнешь от него. — Кузьма широко улыбнулся. — Вот это мой робот, — остановился он у бульдозера, неуклюже накренившегося.
Квадратная металлическая кабина, в кабине рычаги торчат, на сиденье комом брошенная фуфайка, промасленная, смятая. Кузьма, забравшись в кабину, усаживается на той фуфайке.
— «Чтоб вырастить розу, будьте землей… Я говорю вам, будьте землей!» — весело кричит он с бульдозера слова какого-то восточного поэта.
Скрежет гусениц, рев железа, удар чадной волны… Машине тяжело, натужный грохот оглушает Лину, она шарахается в сторону, а Кузьма беззвучно хохочет в кабине и направляет бульдозер вниз, в пыль, в жару, в разворошенный земляной водоворот.
— Пошел наш Кузьма на просторы двадцатого века, — шутит Василинка, видимо, привычной здесь поговоркой, и Лина даже в этой шутке ощущает атмосферу жизни своеобразной, ей недоступной.
Просторы двадцатого века — и выдумают же такое!.. Оглядываясь вокруг, Лина, однако, замечает, что просторы здесь как-то особенно чувствуешь, — они словно бы оживают, еще лучше видишь рядом с этим развороченным котлованом безбрежность степей и огромность полуденного неба.
— А наши хатки на колесах, правда, красивенькие? — кивает Василинка на яркие желто-красные и голубенькие вагончики, которые вроде автобусов на стоянке сгрудились внизу. — Это из Эстонии нам доставили.
Девчата неторопливо направляются туда, увязая в разрытой теплой земле.
— Привыкла уже, Василинка, к жизни на колесах?
— А что привыкать? Зато ведь нам, кроме основной ставки, еще и «колесные» платят, или «пыльные», как мы их называем, — рассудительно говорит Василинка, и ее большие блестящие карие глаза лучатся улыбкой. — Вагончиков, правда, не хватает, часть наших в Брылевке живет, их на машинах возят на работу и с работы. Я тоже иногда езжу: натрясешься за дорогу, стиснут тебя, сидишь, согнешься — колени выше ушей! — Она снова улыбается ровной своей улыбкой, спокойная невозмутимость, кажется, никогда ее не покидает.
— А все-таки я вижу, тебе такая жизнь по душе.
— Жизнь как жизнь. Бывает, и допекут тебя чем-нибудь, а потом глянешь вокруг… все же твоя работа видна… Не зря живешь.
Бульдозеры всюду грохотали, будто амфибии плавали в земле, и уже не узнать было, где там Кузьма Осадчий — затерялся хлопец со своим агрегатом среди других бульдозеров, слился с ними, с их грохотом, скрежетом, пылью.
А тем временем и у людей, которые исправляли «москвич» возле ремонтного вагончика, дело, видно, приближалось к концу.
Один из рабочих-ремонтников, которые помогали Яцубе, давал хозяину последние напутствия:
— Не допускайте, чтоб вода закипела. И на стартер не жмите без памяти. А если вам придется ехать по заповедной степи, будьте особо внимательны.
— Это почему же?
— Чтобы зубробизоны с вами не пошутили. Они же там на воле гуляют.
— Ну вот, пораспускали… Скоро и львов из-за решеток повыпускают. А зубробизоны, разве они на людей кидаются?
— Человека увидят — ничего, а больно уж почему-то не любят такие вот персональные автомобильчики последнего выпуска. Только увидит, прет за ним изо всех сил, чтоб на рога поднять.
— Ну, это уж вы заливаете, — изучающе-подозрительно посмотрел на собеседника отставник.
— Я очевидец, — подходя, говорит Египта. — Сам был свидетелем, я ж и там работал одно время. Как-то мы на «ЗИСе» набираем сено в степи, вдруг топот! Оглянулись — табун! Целый табунище бизонов летит на нас! Братва кто куда, а бизоны и не к нам, они прямо к нашему «ЗИСу»! Как двинули, так и полетел вместе с сеном вверх тормашками. Так это же «ЗИС»! А такого лилипута, как ваш, ковырнет одним рогом и вверх колесами поставит.
Яцуба, вытирая испачканные мазутом пальцы, посматривал исподлобья на Египту, не знал, видимо, верить или нет, серьезно тот говорит или только разыгрывает, дурачит его.
Потерял майор Яцуба здесь времени немало. Однако за работой не забывал поглядывать на дочь, видел, как она сначала с интересом разговаривала с какой-то здешней пышногрудой девушкой, потом сын Осадчего присоединился к ним, и слышны были оттуда хиханьки да хаханьки, все между делом видел майор: и как смеялись, и как воду пили, и как ходили на вал. Потом девчата зачем-то вдвоем вон в тот вагончик шмыгнули, где штаб всего этого отряда.
Когда наконец «москвич» завелся, Яцуба от облегчения даже подобрел, настойчиво просигналил раз и другой, потом высунулся из машины и крикнул бодро:
— Лина! Где ты там? Поехали!
Дочки какое-то время не было, потом она появилась в дверях вагончика, непривычно веселая, возбужденная, даже поразила отца своей приветливой возбужденностью, а еще больше поразила рейкой полосатой в руках.
— Папа, я не еду. Я остаюсь здесь… Я — пикетажистка!

Капитан Дорошенко
Долгая жизнь выпала на долю старой Дорошенчихи, или Чабанихи, как чаще называют ее. Давно уже нет панского дворца — сжег его в годы гражданской войны какой-то Рябошапка, — нет и бассейнов, в которых купалась ее горемычная юность, нет и мужа-чабана, умершего еще в первую голодовку. Сыновья? Один из ее сыновей погиб во время финской в снегах на Карельском перешейке, другой без вести пропал в сорок первом, служил кадровую на румынской границе. Исчез, как тысячи их исчезали в те дни, среди грохота фронтов, бушующих пожаров, когда и ветры веяли над землей горячие и небо высокое горело над людьми. Нареченные ее сыновей давно вышли замуж за других, родили детей, а Дорошенчиха и до сих пор упрямо называет их своими невестками, а они тоже, хоть изредка, — когда муж обидит, — забегают поплакать к старухе. Поотдавала войнам сыновей, остался ей только этот, самый старший, что юношей отправился в море, плавал на байдах с олешковскими да збурьевскими дядьками по «Золотой линии», а потом и в дальние плавания пошел, по всем морям-океанам пронес смуглую материнскую красоту. Кажется, только тем и держится Дорошенчиха на свете, что ждет сына в гости. Приезжает он все такой же стройный, как в молодости, подтянутый, с неугасающей приветливостью в глазах, только с каждым разом больше седины серебрится на висках да больше тронута усталостью улыбка. А однажды капитан не приехал летом. Был он с научной экспедицией в далеком океане, как раз в тех водах, над которыми вставали тогда сатанинские грибы атомных взрывов. Старая Дорошенчиха, что внимательнее всех в совхозе слушала передачи радио, что тревожнее всех синоптиков переживала сообщения о движении циклонов и ураганов, первой услышала и об этих атомных испытаниях. Услышав, сама не своя выскочила со двора, поспешила на почту. Люди оглядывались ей вслед, а она никого не видела, с палкой в руке торопливо, широко шагала серединой улицы. На почту, где раньше ее ждали добрые вести от сына, куда всегда заходила торжественно, словно в храм, и откуда возвращалась просветленной, с озаренным загадочной улыбкой лицом, — на этот раз она ворвалась разъяренная, с проклятиями на устах: — Что они там думают, ироды? Что они делают, разрази их гром! И стучала в пол своей палкой, растрепанная, худая, кричала в окошко, за которым как раз сидела одна из ее «невесток»: — Пиши! «Молнии» пиши! Радиограммы! — Кому же писать? — растерялась та. — Министрам всем! Президентам! Что они думают? Люди ж на море! Сын мой там!!! Все служащие сбежались на шум: и почтовые и из сберкассы, никто толком не знал, как выполнить требования Чабанихи, но и отказать ей было невозможно, кажется, она и глаза выцарапала бы тому, кто отказался бы принять ее послания. — Пошлем, пошлем, — успокоил Чабаниху начальник почты. И только после этого буря гнева у нее сменилась слезами; слепая от них, побрела она домой, поплелась походкой человека, разбитого тяжким горем. Как села возле хаты, так и сидела до самой ночи. Соседки и «невестки» приходили проведать: может, надо чем-нибудь помочь? Она неохотно им отвечала. Поговаривали потом, что неладно с Чабанихой, разум помутился, но в глазах ее, как и раньше, виден был ум непомраченный, в темной глубине их стояла горючая боль. Целыми днями сидела и молчала, а когда начал однажды накрапывать дождь, окликнула детей, предупредила, чтобы не бегали под дождем: теперь, мол, дожди поганые. Ждала ответов на свои послания. Вестей от сына ждала. А как стало известно, что атомные испытания в океане прекращены, и от сына пришла уже из советского порта радиограмма, сообщавшая, что он цел и невредим, мать будто вернулась к жизни. Впрочем, и после этого она оставалась в уверенности, что именно она своими посланиями-«молниями» спасла сына, отвратила от него беду в океане. Теперь сын дома. Занимается заря, а он лежит, спит сладко, и мать ходит на цыпочках, чтобы его не разбудить, осторожно ставит у изголовья стакан травяного настоя — пусть выпьет натощак, когда проснется. Как только сын пожаловался после приезда, что головные боли часто мучают, она успокоила убежденно, твердо: — Я знаю такие травки в степи, их нужно до восхода солнца собирать, сделаю настой и любые головные боли сниму. Один приезжал ко мне даже из города, сам врач, а я сделала ему настой, передавал — помогло. Поможет и тебе. Знает она также, что у сына не все ладно с глазами, последнее время ухудшается зрение, но верит, что и это пройдет: у него просто кровь приливает. А темные, в черепаховой оправе, очки мать невзлюбила сразу, забрала, спрятала, не дает надевать даже при ярком свете.
— Орлы на солнце смотрят, а какое у них зрение!
К утреннему чаю мать ставит на стол тарелку со свежими, налитыми медом сотами, и делает это так же тихо, украдкой, чтобы не потревожить сына, а он тем временем уже проснулся, уже полураскрытыми глазами следит за матерью. Она даже помолодела с его приездом, без устали хлопочет. Кто по-настоящему счастлив тем, что он будет жить теперь без странствий, так это, конечно, она, мать. И то хорошо, хоть ей принес он отраду, пускай она немного поживет в покое. Вот только найдет ли он здесь покой для себя? Брошен якорь, и, кажется, надолго. «Поезжай, — сказали ему, — подлечись, отдохни, а там увидим. Мы тебя еще позовем». Но позовут ли? В пароходстве полно друзей, однако бывает такое, что и друзья бессильны. В его положении остается лишь верить в чудо народной медицины. Разве не ирония судьбы: в то время, когда есть опыт, знания, когда всей душой стремишься к жизни полнокровной, деятельной… вдруг очутиться здесь, в тихой заводи, где, быть может, вечный штиль тебя ждет!.. Потолок. Посудник над дверным косяком. На нем потемневший от времени, еле заметный казак с копьем и криница. Давно нарисованы они. Отсюда начиналась жизнь, здесь, кажется, и замкнется круг… Ночевал в бамбуковых хижинах, в гостиничных клетках небоскребов, в душные тропические ночи выносил постель из каюты на бак и там спал, обливаясь потом, а теперь вот снова на постели своего детства, снова перед глазами темнеет нарисованный казак с копьем да криница… Неужели это и все? Неужели промелькнула жизнь? Как летняя мимолетная гроза, сверкнула щедрыми дождями да солнцем, отшумела, прошла…
…Один из последних рейсов был исключительным, десятки тысяч миль прошел он на своем белом красавце корабле с научной экспедицией на борту. Изучали дно океана. Подводные вулканы наносили на карту. Проникая взором в глубину, обнаруживали горные хребты под толщей океана и никому ранее не известные впадины, ущелья. Брали планктон, изучали циркуляцию вод, строение земной коры… Дорошенко и сам был захвачен работой экспедиции, охотно брался порой за то, что вовсе не входило в обязанности капитана. «Давненько что-то мы не тралили», — бывало, скажет ученому, своему другу, известному океанологу, и, когда тот прикажет класть судно в дрейф и спускать приборы в глубину океана, Дорошенко сам становится к лебедке. Такое траление — операция длительная, и все нужно делать с осторожностью, глубины огромные, но какое это интересное занятие, какие радостные неожиданности сулит. Здорово устали в этом плавании участники экспедиции, почернели, бородами позарастали, зато сколько увидели чудес!.. Алел флагом его корабль в водах самых отдаленных архипелагов, белоснежно сиял под пальмами таких островов, где раньше не ступала нога его соотечественников. Черные губернаторы островов давали приемы в его честь… Местные жители с утра и до вечера толпились у причала, возникала очередь желающих попасть на судно, посмотреть, как живут советские моряки.
А потом был тот случай в океане, который чуть не закончился трагедией… Никто из участников экспедиции не видел самого взрыва, не видели они над просторами океана того зловещего, зажженного варварской рукой апокалипсического солнца. Но хотя были они в ином положении, нежели японские рыбаки, и смертоносным пеплом палубу их не засыпало, однако он, Дорошенко, как сейчас, помнит озабоченные лица собравшихся на палубе ученых, когда в дождевой воде были обнаружены опасные признаки.
Все меры были приняты. Палубу и надстройки тщательно промыли. Однако родину уже встревожила их судьба. «Немедленно вернуться в ближайший отечественный порт!» — такой получили по радио приказ. Прервав научный рейс, в гнетущем настроении направились к родным берегам. Еще и в гавань не вошли, как примчался из порта катер с целой группой врачей, и суровый молодой дозиметрист, закованный в панцирь профессиональной выдержки, первым поднялся на палубу.
К счастью, оказалось, что судно не заражено, люди здоровы.
Его белоснежный лайнер и сейчас где-то в экспедиции. На этот раз судно повел бывший старпом, воспитанник Дорошенко. Где они теперь? На каких широтах? Счастлив был бы сейчас пусть не капитаном — рядовым матросом попасть к ним на борт, с радостью драил бы палубу, честно выстаивал бы матросскую вахту, во время бури с полуслова бросался бы натягивать вдоль палубы штормовые леера. Не представлял, что так тяжко будет ему расставаться с этой нелегкой жизнью, с вахтами, запахом канатов, соленым воздухом моря, криком чаек…
Встает, пьет материнское колдовское зелье, босой выходит побродить по двору, по росистому спорышу. Клубок красного солнца пылает сквозь туманно-мягкие тамарисковые заросли, небо над степью чистое, и самолет, как рыбина, пошел вверх, вонзаясь в прозрачную голубизну. Не слышно звука, лишь виден обтекаемый рыбий силуэт, потом наконец доносится и звук, далеко позади самолета возникает он, тот мощный реактивный грохот. Самолет понесся сам по себе, а грохот живет отдельно, как эхо, как воспоминание о его полете.
Мимо двора идет Лукия, спешит куда-то.
— С добрым утром! — говорит она, замедляя шаг у калитки.
— С добрым утром, Лукия.
— В область еду… Может, поручение будет какое?
Дорошенко подходит к калитке, смотрит на Лукию, свежую, только что умытую, и она, как в девичестве, сразу краснеет под его взглядом, краснеет так густо, что словно бы даже сизым инеем покрываются ее тугие щеки, а в глазах слезы неловкости уже сверкают, светятся, от них и глаза наливаются светом. «Ну чего ты до сих пор смущаешься, Лукия?» — так и хочется спросить.
— Ну, так как же, будет поручение? — повторяет она.
— Привет Пахому передай. Ты ведь навестишь его?
— Непременно.
Не избежал-таки хирургического ножа Пахом, упрямый их подвижник… Схватило прямо возле силоса, да так схватило, что на самолете пришлось отправлять беднягу в область, в тот же день и оперировали… Пилот Серобаба, румянощекий жизнелюб с черными холеными усами, шутя рассказывал потом в совхозе, что директор якобы и там, под ножом хирурга, кричал: «Обождите! Силосование не закончил! Мясо не сдал! Шерсть еще не всю на шерстомойку отправил!..»
— Рано, рано скрутило Пахома, — задумчиво говорит Дорошенко.
— Выкарабкается, — в голосе Лукии не чувствуется грусти. — Хлопоты и умереть не дадут… Ну, всего…
И она уходит — ей пора, кивнула на прощание, одними ресницами попрощалась, и Дорошенко заметил, как глаза ее в этот миг еще больше налились светом. Ушла. Косы Лукии уложены на затылке высоким тугим узлом. Дорошенко молча смотрит на тот узел, ему немного грустно, что Лукия отдаляется от него, что предназначенные для города высокие каблуки ее постукивают все дальше, размеренно и горделиво. Лукия — вот его щедрая молодость, вот чьей дружбой он может гордиться!.. Правда, не все получилось, как мечталось, но и поныне в душе не остыл жар того костра, что таким ярким пламенем вспыхнул когда-то…
Вот он, еще молодой, полный любви к ней, в Буэнос-Айрес идет, в первый самостоятельный рейс. Осень, непогода, ночь, из тех ночей, что ломают корабли, что бурлят стихиями, в шквалах разносят тревожные сигналы «SOS»… Ревет, бушует Атлантика, а в смятенном океане неба тревожная бредет луна. Одно расплывшееся пятно, желток света среди тускло-серебристой бесконечности, среди водоворота и хаоса туч. Косматые буруны, будто львы, идут да идут из просторов ночи, растут, обваливаются, сотрясают ударами судно. Катастрофа казалась неминуемой, и если ты не потерял тогда самообладания, вывел судно, то, может, и потому, что был не одинок, что и среди атлантических пучин она, Лукия, смотрела на тебя смеющимися влюбленными глазами.
И теперь, провожая взглядом Лукию, Дорошенко чувствует, как пробуждается давняя нежность к ней, растет неутоленная жажда что-то вернуть, что-то повторить — далекое, как молодость, неуловимое, как сон… Снова начать жизнь? Не об этом ли твоя тоска? Но этого еще никто не испытал, никому еще не удавалось миновать тот мрачный последний порт, что каждого рано или поздно ожидает… Многих друзей юности уже нет, вот и Пахом, однокашник, сгорел на работе, а ему, Дорошенко, еще мерещится, что его позовут…
…Но позовут ли? Или, быть может, это уж не временный недуг, а твой неотвратимый вечер властно на тебя надвигается? И это в то время, когда так много тебе открылось! Красота мира, которую ты в юности и не понимал по-настоящему, во всяком случае, не замечал, не дорожил ею так, как сейчас… Красота человеческих лиц, взглядов, поступков, порывов… Вся жизнь только теперь открывается тебе в своих существеннейших связях и достоинствах. Может, это и есть то, что называют мудростью? Мысль ясная, мозг светится, как говорил любимый его художник… А день клонится к вечеру… И с этим смириться? Ослепнуть к синеве небес, оглохнуть к далекому гулу океана? Неужели не понадобятся больше твое умение, твои знания, твоя воля и твое беспокойство? Или все-таки ты еще нужен?
Мать идет с огорода. Платок на ней чистый, белый, как в воскресный день, — для нее и впрямь теперь всегда воскресенье. В руках несет укроп, морковь, пучочек петрушки, свежезеленой, росистой.
— Зелени тебе к завтраку… Может, что-нибудь не так у меня, сынок? Ты говори.
— Все так, мамо, все так.
Знает она также, что у сына не все ладно с глазами, последнее время ухудшается зрение, но верит, что и это пройдет: у него просто кровь приливает. А темные, в черепаховой оправе, очки мать невзлюбила сразу, забрала, спрятала, не дает надевать даже при ярком свете.
— Орлы на солнце смотрят, а какое у них зрение!
К утреннему чаю мать ставит на стол тарелку со свежими, налитыми медом сотами, и делает это так же тихо, украдкой, чтобы не потревожить сына, а он тем временем уже проснулся, уже полураскрытыми глазами следит за матерью. Она даже помолодела с его приездом, без устали хлопочет. Кто по-настоящему счастлив тем, что он будет жить теперь без странствий, так это, конечно, она, мать. И то хорошо, хоть ей принес он отраду, пускай она немного поживет в покое. Вот только найдет ли он здесь покой для себя? Брошен якорь, и, кажется, надолго. «Поезжай, — сказали ему, — подлечись, отдохни, а там увидим. Мы тебя еще позовем». Но позовут ли? В пароходстве полно друзей, однако бывает такое, что и друзья бессильны. В его положении остается лишь верить в чудо народной медицины. Разве не ирония судьбы: в то время, когда есть опыт, знания, когда всей душой стремишься к жизни полнокровной, деятельной… вдруг очутиться здесь, в тихой заводи, где, быть может, вечный штиль тебя ждет!.. Потолок. Посудник над дверным косяком. На нем потемневший от времени, еле заметный казак с копьем и криница. Давно нарисованы они. Отсюда начиналась жизнь, здесь, кажется, и замкнется круг… Ночевал в бамбуковых хижинах, в гостиничных клетках небоскребов, в душные тропические ночи выносил постель из каюты на бак и там спал, обливаясь потом, а теперь вот снова на постели своего детства, снова перед глазами темнеет нарисованный казак с копьем да криница… Неужели это и все? Неужели промелькнула жизнь? Как летняя мимолетная гроза, сверкнула щедрыми дождями да солнцем, отшумела, прошла…
…Один из последних рейсов был исключительным, десятки тысяч миль прошел он на своем белом красавце корабле с научной экспедицией на борту. Изучали дно океана. Подводные вулканы наносили на карту. Проникая взором в глубину, обнаруживали горные хребты под толщей океана и никому ранее не известные впадины, ущелья. Брали планктон, изучали циркуляцию вод, строение земной коры… Дорошенко и сам был захвачен работой экспедиции, охотно брался порой за то, что вовсе не входило в обязанности капитана. «Давненько что-то мы не тралили», — бывало, скажет ученому, своему другу, известному океанологу, и, когда тот прикажет класть судно в дрейф и спускать приборы в глубину океана, Дорошенко сам становится к лебедке. Такое траление — операция длительная, и все нужно делать с осторожностью, глубины огромные, но какое это интересное занятие, какие радостные неожиданности сулит. Здорово устали в этом плавании участники экспедиции, почернели, бородами позарастали, зато сколько увидели чудес!.. Алел флагом его корабль в водах самых отдаленных архипелагов, белоснежно сиял под пальмами таких островов, где раньше не ступала нога его соотечественников. Черные губернаторы островов давали приемы в его честь… Местные жители с утра и до вечера толпились у причала, возникала очередь желающих попасть на судно, посмотреть, как живут советские моряки.
А потом был тот случай в океане, который чуть не закончился трагедией… Никто из участников экспедиции не видел самого взрыва, не видели они над просторами океана того зловещего, зажженного варварской рукой апокалипсического солнца. Но хотя были они в ином положении, нежели японские рыбаки, и смертоносным пеплом палубу их не засыпало, однако он, Дорошенко, как сейчас, помнит озабоченные лица собравшихся на палубе ученых, когда в дождевой воде были обнаружены опасные признаки.
Все меры были приняты. Палубу и надстройки тщательно промыли. Однако родину уже встревожила их судьба. «Немедленно вернуться в ближайший отечественный порт!» — такой получили по радио приказ. Прервав научный рейс, в гнетущем настроении направились к родным берегам. Еще и в гавань не вошли, как примчался из порта катер с целой группой врачей, и суровый молодой дозиметрист, закованный в панцирь профессиональной выдержки, первым поднялся на палубу.
К счастью, оказалось, что судно не заражено, люди здоровы.
Его белоснежный лайнер и сейчас где-то в экспедиции. На этот раз судно повел бывший старпом, воспитанник Дорошенко. Где они теперь? На каких широтах? Счастлив был бы сейчас пусть не капитаном — рядовым матросом попасть к ним на борт, с радостью драил бы палубу, честно выстаивал бы матросскую вахту, во время бури с полуслова бросался бы натягивать вдоль палубы штормовые леера. Не представлял, что так тяжко будет ему расставаться с этой нелегкой жизнью, с вахтами, запахом канатов, соленым воздухом моря, криком чаек…
Встает, пьет материнское колдовское зелье, босой выходит побродить по двору, по росистому спорышу. Клубок красного солнца пылает сквозь туманно-мягкие тамарисковые заросли, небо над степью чистое, и самолет, как рыбина, пошел вверх, вонзаясь в прозрачную голубизну. Не слышно звука, лишь виден обтекаемый рыбий силуэт, потом наконец доносится и звук, далеко позади самолета возникает он, тот мощный реактивный грохот. Самолет понесся сам по себе, а грохот живет отдельно, как эхо, как воспоминание о его полете.
Мимо двора идет Лукия, спешит куда-то.
— С добрым утром! — говорит она, замедляя шаг у калитки.
— С добрым утром, Лукия.
— В область еду… Может, поручение будет какое?
Дорошенко подходит к калитке, смотрит на Лукию, свежую, только что умытую, и она, как в девичестве, сразу краснеет под его взглядом, краснеет так густо, что словно бы даже сизым инеем покрываются ее тугие щеки, а в глазах слезы неловкости уже сверкают, светятся, от них и глаза наливаются светом. «Ну чего ты до сих пор смущаешься, Лукия?» — так и хочется спросить.
— Ну, так как же, будет поручение? — повторяет она.
— Привет Пахому передай. Ты ведь навестишь его?
— Непременно.
Не избежал-таки хирургического ножа Пахом, упрямый их подвижник… Схватило прямо возле силоса, да так схватило, что на самолете пришлось отправлять беднягу в область, в тот же день и оперировали… Пилот Серобаба, румянощекий жизнелюб с черными холеными усами, шутя рассказывал потом в совхозе, что директор якобы и там, под ножом хирурга, кричал: «Обождите! Силосование не закончил! Мясо не сдал! Шерсть еще не всю на шерстомойку отправил!..»
— Рано, рано скрутило Пахома, — задумчиво говорит Дорошенко.
— Выкарабкается, — в голосе Лукии не чувствуется грусти. — Хлопоты и умереть не дадут… Ну, всего…
И она уходит — ей пора, кивнула на прощание, одними ресницами попрощалась, и Дорошенко заметил, как глаза ее в этот миг еще больше налились светом. Ушла. Косы Лукии уложены на затылке высоким тугим узлом. Дорошенко молча смотрит на тот узел, ему немного грустно, что Лукия отдаляется от него, что предназначенные для города высокие каблуки ее постукивают все дальше, размеренно и горделиво. Лукия — вот его щедрая молодость, вот чьей дружбой он может гордиться!.. Правда, не все получилось, как мечталось, но и поныне в душе не остыл жар того костра, что таким ярким пламенем вспыхнул когда-то…
Вот он, еще молодой, полный любви к ней, в Буэнос-Айрес идет, в первый самостоятельный рейс. Осень, непогода, ночь, из тех ночей, что ломают корабли, что бурлят стихиями, в шквалах разносят тревожные сигналы «SOS»… Ревет, бушует Атлантика, а в смятенном океане неба тревожная бредет луна. Одно расплывшееся пятно, желток света среди тускло-серебристой бесконечности, среди водоворота и хаоса туч. Косматые буруны, будто львы, идут да идут из просторов ночи, растут, обваливаются, сотрясают ударами судно. Катастрофа казалась неминуемой, и если ты не потерял тогда самообладания, вывел судно, то, может, и потому, что был не одинок, что и среди атлантических пучин она, Лукия, смотрела на тебя смеющимися влюбленными глазами.
И теперь, провожая взглядом Лукию, Дорошенко чувствует, как пробуждается давняя нежность к ней, растет неутоленная жажда что-то вернуть, что-то повторить — далекое, как молодость, неуловимое, как сон… Снова начать жизнь? Не об этом ли твоя тоска? Но этого еще никто не испытал, никому еще не удавалось миновать тот мрачный последний порт, что каждого рано или поздно ожидает… Многих друзей юности уже нет, вот и Пахом, однокашник, сгорел на работе, а ему, Дорошенко, еще мерещится, что его позовут…
…Но позовут ли? Или, быть может, это уж не временный недуг, а твой неотвратимый вечер властно на тебя надвигается? И это в то время, когда так много тебе открылось! Красота мира, которую ты в юности и не понимал по-настоящему, во всяком случае, не замечал, не дорожил ею так, как сейчас… Красота человеческих лиц, взглядов, поступков, порывов… Вся жизнь только теперь открывается тебе в своих существеннейших связях и достоинствах. Может, это и есть то, что называют мудростью? Мысль ясная, мозг светится, как говорил любимый его художник… А день клонится к вечеру… И с этим смириться? Ослепнуть к синеве небес, оглохнуть к далекому гулу океана? Неужели не понадобятся больше твое умение, твои знания, твоя воля и твое беспокойство? Или все-таки ты еще нужен?
Мать идет с огорода. Платок на ней чистый, белый, как в воскресный день, — для нее и впрямь теперь всегда воскресенье. В руках несет укроп, морковь, пучочек петрушки, свежезеленой, росистой.
— Зелени тебе к завтраку… Может, что-нибудь не так у меня, сынок? Ты говори.
— Все так, мамо, все так.
 Побреешься, позавтракаешь и идешь от нечего делать побродить по совхозу, завернешь в радиорубку, где на тебя дохнет чем-то корабельным, поговоришь о разных новостях с Виталиком, который уже уверенно входит в обязанности радиста, а потом завернешь в прохладную тень старого, некогда господского парка, где в запущенных зарослях тебе удается отыскать развалины панских бассейнов и даже следы того странного сооружения, что называлось ковшовым колодцем, — там по рву, по вечному кругу изо дня в день ходил когда-то горбатый верблюд Васько, гоня ковшами воду для полива. С рассвета и до ночи ходил он здесь с завязанными глазами по выбитой слепым топтанием круговой дорожке, ходил, как заводной, а ты, погонщик, только придешь, перепряжешь, прикрикнешь, чтобы трогался в обратном направлении, и уже молча пошел твой двужильный Васько медленно раскручивать назад свой вечный, терпеливо намотанный круг…
На краю парка — тоже остаток панской старины — выщербленные, изгрызенные временем кирпичные ворота, а невдалеке часовенка, под которой когда-то был подвешен колокол, чтобы созывать батраков на работу. Еще дальше один за другим выстроились в ряд, как сфинксы, облупленные кирпичные подвалы для вина, все они заперты — до уборки винограда еще далеко; за ними пышет раскаленной черепицей приземистый сарай, что был некогда каретным, а сейчас, благодаря настойчивости Яцубы, передан пожарной команде.
Сарай открыт настежь, из глубины его таращит фары красная пожарная машина, готовая в любой момент ринуться куда нужно, а в дверях стоит и сам Яцуба, вглядывается в степь.
Приблизившись, Дорошенко поздоровался:
— Добрый день. Смотришь, не горит ли где?
Яцуба и не шевельнулся. Стоит худой, длинный, уставился, как лунатик, куда-то в пустоту. Не болен ли? Вид у него какой-то замордованный: осунулся, пожелтел, седой щетиной оброс. Суровое, аскетически вытянутое, как на византийских росписях, лицо затаило боль, страдание.
— Что с тобою, Григорий?
Наконец Яцуба заговорил, не отрывая глаз от степи:
— Третий раз молния поджигает кошару на Кураевом… Третий раз бьет, и все в один угол… Зарыто там что или залежи какие? — Он снова помолчал. — На ихнем же поле в прошлом году молнией тракториста убило, а трактор после того еще долго сам по полю ходил.
Что это с ним нынче? Говорит, будто в бреду, будто кошмарное сновидение рассказывает.
— Не болезнь ли тебя мучает? — спрашивает Дорошенко сочувственно.
Яцуба, отделившись от косяка, плетется в глубину сарая, выносит низенький, обтянутый парусиной стульчик, подает капитану.
— Садись.
А сам садится прямо на порог.
— Иван, ты ж мне друг, — говорит он с наигранной теплотой в голосе, хотя Дорошенко не помнит, чтобы они когда-нибудь дружили. — Как друга прошу, посоветуй, что мне делать? Горе. Такое, брат, горе на меня свалилось…
И по этой его измученности, тревоге и беспомощности, раньше ему совсем несвойственным, Дорошенко чувствует, что Яцубу и в самом деле, видно, постигло несчастье.
— Рассказывай, Григорий, что случилось… Авось как-нибудь и уладим.
— Черт ладу не ищет, лишь бы крик был… Дочь отреклась! — воскликнул Яцуба и поник головой, на которой сверху, вроде чашечки на желуде, сидела разукрашенная, расшитая бисером тюбетейка.
Дорошенко уже слыхал, что дочь Яцубы наперекор воле отца устроилась работать на канале, слыхал об этом в веселых пересказах с разными смешными подробностями, а вот для Яцубы это, оказывается, страшный удар.
— Ушла… отблагодарила отца за все, — говорит он с глубокой обидой в голосе, и плечи его старчески поникают. — Растил, лелеял, все в нее вкладывал… И вот теперь осиротила. Куда могла пойти, а куда пошла!
— На канал пошла, в трудовой коллектив, что же тут страшного? — пожал плечами Дорошенко.
— Все говорят о тебе, Иван, что деликатный ты, чуткий, культурный человек. Как же можешь ты с ними заодно? Семнадцатилетней девушке попасть в тот табор бродячий, где грубость, ругань, водка, — это, по-твоему, не страшно? Ох, знаю я, Иван, что такое для человека окружение! С убийцами, преступниками, с разным уголовным элементом столько лет имел дело. Пусть те по одну сторону проволоки, а мы по другую, но нам, думаешь, было сладко? Думаешь, в карты нас не проигрывали, финок тайком на нас не точили? Наша служба — это, брат, фронт был, сплошной фронт. Без хвастовства скажу, справлялся. Сколько благодарностей в самых высоких приказах получал. Это здесь вот хотят сделать посмешищем, а там ценили. Кто в подчинение попадал, духа майора Яцубы боялся! Над какими людьми власть имел! И слушались. Подчинялись. А тут девчонка… Отцу родному нанести такую обиду!
— Оставь ты дочь в покое, она ничем тебя не обидела. Скорее наоборот…
— Что «наоборот»? Да как она смела! — Яцубу даже передернуло. — Знает, что отец дорожит ею, любит негодницу без памяти, и так злоупотреблять его любовью! Да что она значит без отца? Нет, под конвоем возвращать бы таких в отцовский дом!
— Не имеешь права, — улыбнулся Дорошенко. — Аттестат зрелости у нее на руках.
— Вот то-то и оно! И аттестат и паспорт… Ездил я к их начальству. И к ней, конечно; думал, перебесилась уже, заберу. Черта с два! «Не понимаете, говорит, вы меня, папа. Ничего вы не понимаете в нашей жизни. Вы, говорит, разучилисьсамостоятельно думать, во времена культа привыкли, что за вас кто-то думает… Учитесь же думать хоть теперь!» Такие речи каково мне слушать? На шестом десятке от родного дитяти, а?
«А в самом деле, способен он что-нибудь понять в том, что произошло? — думал Дорошенко, глядя на приумолкшего, понурого Яцубу. — Найдет ли в себе силу порвать путы прошлого, расковаться, выпрямиться? Не умерло ль в нем самое желание выпрямиться, взглянуть на мир по-новому?» Дорошенко не собирался полемизировать с ним, видел, что сейчас это было бы бесполезно. Думал о другом: что случилось с человеком? Ведь Дорошенко помнит Яцубу в расцвете молодости, когда он летом и зимой носился в островерхой буденовке, что досталась в наследство от отца, и хотя Яцубу и тогда за его горячность и горластость молодежь называла «фанатом», но от него так и веяло жизнью, неукротимостью, не было в нем этой аракчеевской дубоватости, общего отупения, о котором, видимо, и говорила дочь. Кто выжал из его души здоровые соки жизни, кто изуродовал в нем лучшие человеческие задатки? Скудный же, видно, был духовный твой рацион, браток… Сырую картошку, говоришь, грыз на лагерной службе, не хватало витаминов… Но еще больше не хватало, видно, тебе каких-то иных витаминов, тех, что для души, — вот почему тебя так скрутило, покалечило, как тех птиц из Аскании, страдающих авитаминозом. Словно бы и кормят их хорошо, а все же чего-то им не хватает в искусственных условиях заповедника, фламинго даже меняют окраску, из розовых становятся белыми, а у лебедей-кликунов шеи скручены просто сверлом… Так, кажется, и тебе, голубчик, свернуло шею, видишь лишь одну сторону, не замечаешь, что жизнь вокруг меняется и климат изменился.
— Учитесь думать… Вишь, какая! Да у меня, доченька, уже голова от мыслей пухнет! Я же не трактор, за который тракторист думает. У меня своя голова на плечах, от мыслей она уже поседела… Бывает, по ночам не сплю и все гадаю: что же это было за шаманство? Что за кровавое затмение на всех нас тогда нашло? Создали себе идола и молились на него…
— Да, было, — согласился Дорошенко. — Стыдно. Перед всем миром стыдно.
— Они, молодые, думают, что все это так просто: отцы плохие, отцы культовики, а мы вот чистенькие, мы ангелочки… Еще посмотрим, что выйдет из этих ангелочков. Под пластинку танцевать — одно, а жить… На днях приехали два таких фертика наниматься на работу. «А это правда, спрашивают, что в вашем совхозе воровать нельзя?» — «Правда». — «Тогда это нам не подходит». И как ветром сдуло. Нет, нас не так учили, не такой мы закалки. Схватишься ночью, глянешь, где-то забагровело в степи — ты уже и мчишься туда, летишь, переживаешь. Прискачешь, а они стерню жгут… Разве им, молодым, эта твоя тревога понятна? А мы ведь привыкли, что слово старшего для тебя закон, все в жизни на дисциплине держится, и если я тебе отец, то не забывай, что я за тебя и отвечаю… Нет, не ждал, не ждал я, что она так меня опозорит! — снова перешел Яцуба на свое наболевшее. — За все отблагодарила. За то, что так пестовал, что пальцем ее никогда не тронул! Для нее ведь жил, для нее! — Голос его дрогнул.
— Такая девушка, она еще порадует тебя, — сказал Дорошенко. — Еще и отцу там добудет чести и славы.
Яцуба поднял голову, посмотрел на собеседника пристально.
— Ты думаешь?
— Вот увидишь.
— А впрочем, не бессердечная же она! — охотно согласился Яцуба. — Не может же быть, чтобы совсем отреклась от отца, чтобы возненавидела, каким бы он там ни был. — Его большие глаза даже налились слезами, голос зазвенел надеждой. — Не пропащий же у нее отец! Пускай искривило, исковеркало его, но ведь из карельской березы тоже мебель делают, хоть какая уж крученая!..
Запыленная пароконная тачанка остановилась напротив сарая, молодой агроном, не вставая с сиденья, крикнул Яцубе:
— Дым какой-то вон там, к востоку!.. Примерно в Четвертом отделении.
И этого оказалось достаточно, чтобы Яцуба-командир уже был на ногах, уже властно ударил набат, — медный пожарный колокол, и шофер, что, растянувшись, спал у сарая, вскочил очумело и, еще, кажется, не пробудившись, бросился выгонять машину из сарая.
— А если это не пожар, — добавил агроном вслед Яцубе, который торопливо залезал в кабину, — так поможете деревца поливать… Там увидите — бензовоз уже поливает вдоль дороги…
— Есть! — послышалось в ответ.
Когда пожарная цистерна умчалась, Дорошенко вышел на дорогу к агроному и тоже стал всматриваться в горизонт. Дыма нигде не было. Вихрь вдали пошел степью, но вихрь ведь не погасишь.
— Ложная тревога, — улыбаясь, сказал агроном. — Там дети весной обсадили деревцами дорогу, так надо полить — такая сушь… Бензовоз уже поливает, чего же этой гулять?
И его тачанка легко покатилась дальше.
«Ох, узнаю своих земляков!» — усмехнулся Дорошенко, медленно шагая через пустырь мимо огромного пруда, который вырыли этим летом. Пахом Хрисанфович очень гордился этим прудом. Глубокий, он еще не был заполнен, только на самом дне, наливаясь, поблескивал круглым зеркалом воды. «Видишь, круглый, как телескоп», — говорил Пахом Хрисанфович, показывая Дорошенко свое детище.
За прудом на том же пустыре строят новое помещение фермы. Оно причудливое, длинное, выгнутое дугой. Как ангар. Как станция метро. Бригадиром здесь тоже товарищ юности капитана Дорошенко — Андрей Бойко, жилистый, легкий, будто высушенный временем человек, с веселыми, молодыми глазами. В рабочем фартуке, с кельмой в руке, спускается с этого ангара, спрашивает капитана с любопытством:
— О чем это тебе Яцуба заливал там?
— Жаловался, что дочь наперекор пошла…
— И слезу небось пустил?
— Оно ведь и верно, нелегко ему.
— О, ты пожалей его, пожалей! Он бы тебя пожалел, если бы ты ему тогда в руки попался. — Глаза каменщика сверкнули остро, хотя губы все еще улыбались. — Соучастник террора — таким он для меня и умрет! Добра от него не жди.
Дорошенко сказал полушутя:
— Будем, друг, верить в прогресс. Отъявленные злодеи и то, бывает, становятся людьми, а этот… Недаром пословица говорит: «Нельзя человеку стать моложе, а добрее — всегда можно».
— Нет-нет, ты его раскуси. Думаешь, он разоружился? На словах! А тайком на каждого из нас дело ведет. Все отмечает! Так что дело, наверно, заведено и на тебя.
— А, леший с ним! — отмахнулся Дорошенко и стал разглядывать строение.
Бригадир, обрадованный вниманием, начал оживленно рассказывать, как возникла мысль строить такие вот — без леса — арочные фермы.
— На свой страх и риск! Нашли в одном журнале описание такого сооружения — давай, думаем, попробуем и мы. И, как видишь, получается. Цемент да кирпич. Никакого тебе дерева!
— Удержится, не обвалится?
— В Шестом отделении разве не видел? Уже один коровник стоит такой. Как штык! Мы, когда сложили его, сперва испытали на прочность: всей бригадой взобрались на самый верх, и хлопцы как ударили гопака… Выдержал.
— Да, хлопцы у тебя орлы, — взглянул Дорошенко на молодых каменщиков: они стоят в сторонке, сдерживают улыбки; парни словно бы небрежные, грубоватые, а в душе, видно, гордятся собой, своей работой.
— У нас только орлы — других не принимаем, — шутит Бойко. — Бригада ведь у нас коммунистическая!
— Много строит нынче совхоз, — замечает Дорошенко. — Там хаты переселенцам, здесь вот фермы новые, пруды…
— Все вроде бы войны боятся, — вступил в разговор худощавый пожилой каменщик, незнакомый капитану. — А посмотришь, на Центральной веранды вперегонки ставят… Спросишь: во сколько же она тебе обошлась? Эта самая веранда, оказывается, ничего не стоит… Водка больно дорогая…
И все они смеются.
— Вот и мой Костя, — показывает Бойко на одного из молодых, — тоже веранду теще соорудил, да какую.
— Весь совхоз строится, а я что — хуже других? Миру — мир! — спокойно говорит Костя и под общий смех добавляет, что на этом он прекращает с тещей холодную войну.
— Нигде и в отделениях уже нет землянок, — хвалится Бойко. — А я помню, как возвратился с фронта в Шестое, тогда семья там жила. Осень, ночь, темень… Домов нет, на месте поселка какой-то свинорой, в землю зарылись люди. Из всех архитектурных сооружений одно стоит… маленькая деревянная трибунка: видно, к Октябрьским праздникам воздвигали. А меня сон валит — просто падаю. Только прилечь негде — кругом мокро, развезло… Взбираюсь по лесенке, ложусь и сплю. Проснулся утром: где это я? Что за гомон вокруг? Ах, да я же на трибуне! На трибуне ночевал, а вокруг на площади… полно солдаток! Ждут, чей пришел. «Может, мой?» И дети ждут: «Может, тато?» Но не будят: устал солдат, пусть отдохнет хорошенько.
На миг будто тень пробежала по лицам, будто въявь предстали перед глазами и та толпа солдаток, и одинокая трибунка среди осеннего поля, и спящий на ней после дальней дороги солдат…
Домой капитан возвращается снова мимо пруда, мимо мастерских, привычная твердая дорожка вьется между ржавыми, нагретыми на солнце навалами металлолома, где снова попадаются на глаза мертвые судовые манометры и беспорядочно брошенная якорная цепь. На этом, собственно, и завершается предобеденная прогулка Дорошенко, которую он мысленно с горькой улыбкой называет хождением по Дуге Малого Круга. Сколько еще доведется сделать таких обходов? Немного больше круг, чем когда-то верблюжий, но такой же однообразный, замкнуто-бесконечный…
Бестарка, запряженная парой лошадок, стоит возле медпункта. Старая женщина сидит напротив бестарки на лавке, склонилась на руки и… плачет.
Дорошенко остановился возле нее:
— Чего вы плачете?
— Ты меня не узнал, Иван? — спросила женщина, открыв изборожденное глубокими морщинами, мокрое от слез лицо. — Подумал, что баба какая-то старая? А я Варька!
Он начал припоминать.
— Какая Варька?
— Варька Андриевская! Мы вместе еще в КСМ-ячейке были…
Да, это она. Она. Так вот как идет время, вот какие следы положила жизнь на его сверстниц!.. Старуха, а он, Дорошенко, до сих пор считает, что жизнь его только к полудню подошла.
— Чего ты здесь, Варька? Чего плачешь?
— Сына привезла вот, — она кивнула на бестарку, — подозрение на столбняк. Доктора нет, а без него не принимают!
Дорошенко кинул взгляд на бестарку и внутренне вздрогнул, увидев там уродливо перекошенное, сведенное судорогой юношеское лицо.
Твердым, уже не плачущим голосом Варька стала рассказывать, как стряслась беда. Комбайнер у нее сын, на самоходном работает, во время работы ноготь сбил на пальце, нужно было бы к врачу, но у нас сам знаешь как: пеплом из папиросы присыпал, кровь засохла — и айда дальше… Потом уже товарищи стали замечать, что с ним неладно: скулу перекашивает, глаз тянет…
— Только тогда и признался мне. «Места, говорит, мамо, нет на мне такого, чтоб не болело, всего меня ломает, выкручивает». Привезли его сюда, врач осмотрела, подозрение на столбняк. Тут бы его и положить, уколы бы ему, а они домой отослали. «Через три дня, говорит, явишься»… И врач молодая, культурная вроде бы, а так могла!.. Через три дня! А его за ночь еще больше перекосило, сегодня и слова уже не смог сказать этим паразитам.
— Не ругайся, Варька!
— Да как же не ругаться, Иван? Калекой же могут хлопца оставить на всю жизнь! — с болью выкрикнула Варька. — А как он трудился, как работал! Дни и ночи в поле, хлеб вон какой вырастил, пшеницей все завалили. Это ж все его труд, механизатора! Когда началась жатва, два-три часа вздремнет где-нибудь на кулаке, и уже помчался, уже на комбайне… И вот такое отношение.
— Там кто-нибудь есть? — кивнул Дорошенко на дверь медпункта.
— Да эта гусыня раскормленная, фельдшерица. «Чего же вы, говорю, сразу его не положили?» — «Коек не хватает». — «Сердца у тебя не хватает, а не коек! Другая бы под кустом, вон там больного положила, а не отсылала бы домой…» Да еще и Лукии нет, уехала, некому и пожаловаться на них, паразитов. Холодные, бездушные у нас люди, Иван. Как с такими новую жизнь строить, скажи?
Дорошенко поднялся на крыльцо медпункта, постучал в дверь. Дверь открылась. На пороге появилась фельдшерица в белом халате, раскормленная, полнолицая. Кажется, Яцубина подруга жизни.
— Что вам?
— Больного примите.
— Больной это… вы?
— Нет, я здоров. Больной там. — Дорошенко взглядом указал на бестарку.
— А кто вы такой, что приказываете? Вы что — новый директор совхоза? — В ее тоне угадывалась издёвка.
— Я не директор совхоза. — Дорошенко почувствовал, что теряет власть над собой, слепнет от бешенства, от хлынувшей в голову крови. Но усилием воли сдержал себя. — Больной в бестарке, извольте принять его!
Была в его голосе такая твердость, требовательность, что фельдшерица струхнула; пятясь, она залепетала что-то снова о койках, о том, что без врача она не имеет права… На шум, однако, выскочила откуда-то из внутреннего двора и врач — молодая и довольно хорошенькая особа с крашеными ресницами и модно начесанной на лоб челкой. Даже не верилось, что такая молодая и, казалось бы, вполне современная девушка успела стать столь бездушной. А в институте сама же, наверно, возмущалась бюрократами. Впрочем, как выяснилось, больного и в самом деле здесь негде было положить, к тому же для таких больных необходим будто бы особый режим — темная комната, и должны лежать они на голых досках. Одним словом, надо везти в районную больницу.
Дорошенко вежливо взял девушку-врача под руку, подвел к бестарке.
— Садитесь. И отвезите его. И сделайте все, что необходимо. Вы такая юная — бездушие вам просто не к лицу.
Докторша залилась нежным румянцем, даже маленькие уши с клипсами порозовели. Дорошенко помог ей забраться в бестарку, и она молча устроилась там рядом с Варькой, и уже ее стройные девичьи ноги красуются рядом с Варькиными бугровато-тяжелыми, в темных узлах набухших вен.
Варька, выпрямившись, трогает вожжами лошадей, и бестарка с тарахтением удаляется по улочке в степь.
А капитан Дорошенко после этого придет домой, выпьет еще стакан материнского травяного настоя, успокоится, отдохнет под защитой исцеляющей материнской заботы.
Когда он приляжет на диван, мать, присев у окна с какой-нибудь работой, будет посматривать на него темными пронзительными, словно бы заглядывающими в душу глазами. Лоб ее время от времени хмурится в задумчивости, а губы что-то невольно шепчут. Сыну иной раз чудится, что она и вправду владеет гипнозом, какой-то врожденной силой внушения. И сегодня еще рассказывают в совхозе, как она сразу после войны, когда тьма-тьмущая крыс развелось на фермах, будто бы сумела каким-то способом выманить, вывести эту нечисть из помещений. Вывела и повела степью, и они шли за нею, послушные, как барашки, повела их до самого моря и там утопила. Тогда же, после войны, когда тут еще не было врачей, отовсюду несли к ней детвору лечить от «младенческого». Позднее даже медики признавали, что «бабкины купания дают известный эффект»… Какое это сложное создание — человек! Как много еще в нем неразгаданного, таинственного, сил неисследованных!..
— Чем вы, мамо, лечите людей?
— Кого как… Кого зельем… Кого наговором… А то еще можно лечить болью… Или добрым словом…
Побреешься, позавтракаешь и идешь от нечего делать побродить по совхозу, завернешь в радиорубку, где на тебя дохнет чем-то корабельным, поговоришь о разных новостях с Виталиком, который уже уверенно входит в обязанности радиста, а потом завернешь в прохладную тень старого, некогда господского парка, где в запущенных зарослях тебе удается отыскать развалины панских бассейнов и даже следы того странного сооружения, что называлось ковшовым колодцем, — там по рву, по вечному кругу изо дня в день ходил когда-то горбатый верблюд Васько, гоня ковшами воду для полива. С рассвета и до ночи ходил он здесь с завязанными глазами по выбитой слепым топтанием круговой дорожке, ходил, как заводной, а ты, погонщик, только придешь, перепряжешь, прикрикнешь, чтобы трогался в обратном направлении, и уже молча пошел твой двужильный Васько медленно раскручивать назад свой вечный, терпеливо намотанный круг…
На краю парка — тоже остаток панской старины — выщербленные, изгрызенные временем кирпичные ворота, а невдалеке часовенка, под которой когда-то был подвешен колокол, чтобы созывать батраков на работу. Еще дальше один за другим выстроились в ряд, как сфинксы, облупленные кирпичные подвалы для вина, все они заперты — до уборки винограда еще далеко; за ними пышет раскаленной черепицей приземистый сарай, что был некогда каретным, а сейчас, благодаря настойчивости Яцубы, передан пожарной команде.
Сарай открыт настежь, из глубины его таращит фары красная пожарная машина, готовая в любой момент ринуться куда нужно, а в дверях стоит и сам Яцуба, вглядывается в степь.
Приблизившись, Дорошенко поздоровался:
— Добрый день. Смотришь, не горит ли где?
Яцуба и не шевельнулся. Стоит худой, длинный, уставился, как лунатик, куда-то в пустоту. Не болен ли? Вид у него какой-то замордованный: осунулся, пожелтел, седой щетиной оброс. Суровое, аскетически вытянутое, как на византийских росписях, лицо затаило боль, страдание.
— Что с тобою, Григорий?
Наконец Яцуба заговорил, не отрывая глаз от степи:
— Третий раз молния поджигает кошару на Кураевом… Третий раз бьет, и все в один угол… Зарыто там что или залежи какие? — Он снова помолчал. — На ихнем же поле в прошлом году молнией тракториста убило, а трактор после того еще долго сам по полю ходил.
Что это с ним нынче? Говорит, будто в бреду, будто кошмарное сновидение рассказывает.
— Не болезнь ли тебя мучает? — спрашивает Дорошенко сочувственно.
Яцуба, отделившись от косяка, плетется в глубину сарая, выносит низенький, обтянутый парусиной стульчик, подает капитану.
— Садись.
А сам садится прямо на порог.
— Иван, ты ж мне друг, — говорит он с наигранной теплотой в голосе, хотя Дорошенко не помнит, чтобы они когда-нибудь дружили. — Как друга прошу, посоветуй, что мне делать? Горе. Такое, брат, горе на меня свалилось…
И по этой его измученности, тревоге и беспомощности, раньше ему совсем несвойственным, Дорошенко чувствует, что Яцубу и в самом деле, видно, постигло несчастье.
— Рассказывай, Григорий, что случилось… Авось как-нибудь и уладим.
— Черт ладу не ищет, лишь бы крик был… Дочь отреклась! — воскликнул Яцуба и поник головой, на которой сверху, вроде чашечки на желуде, сидела разукрашенная, расшитая бисером тюбетейка.
Дорошенко уже слыхал, что дочь Яцубы наперекор воле отца устроилась работать на канале, слыхал об этом в веселых пересказах с разными смешными подробностями, а вот для Яцубы это, оказывается, страшный удар.
— Ушла… отблагодарила отца за все, — говорит он с глубокой обидой в голосе, и плечи его старчески поникают. — Растил, лелеял, все в нее вкладывал… И вот теперь осиротила. Куда могла пойти, а куда пошла!
— На канал пошла, в трудовой коллектив, что же тут страшного? — пожал плечами Дорошенко.
— Все говорят о тебе, Иван, что деликатный ты, чуткий, культурный человек. Как же можешь ты с ними заодно? Семнадцатилетней девушке попасть в тот табор бродячий, где грубость, ругань, водка, — это, по-твоему, не страшно? Ох, знаю я, Иван, что такое для человека окружение! С убийцами, преступниками, с разным уголовным элементом столько лет имел дело. Пусть те по одну сторону проволоки, а мы по другую, но нам, думаешь, было сладко? Думаешь, в карты нас не проигрывали, финок тайком на нас не точили? Наша служба — это, брат, фронт был, сплошной фронт. Без хвастовства скажу, справлялся. Сколько благодарностей в самых высоких приказах получал. Это здесь вот хотят сделать посмешищем, а там ценили. Кто в подчинение попадал, духа майора Яцубы боялся! Над какими людьми власть имел! И слушались. Подчинялись. А тут девчонка… Отцу родному нанести такую обиду!
— Оставь ты дочь в покое, она ничем тебя не обидела. Скорее наоборот…
— Что «наоборот»? Да как она смела! — Яцубу даже передернуло. — Знает, что отец дорожит ею, любит негодницу без памяти, и так злоупотреблять его любовью! Да что она значит без отца? Нет, под конвоем возвращать бы таких в отцовский дом!
— Не имеешь права, — улыбнулся Дорошенко. — Аттестат зрелости у нее на руках.
— Вот то-то и оно! И аттестат и паспорт… Ездил я к их начальству. И к ней, конечно; думал, перебесилась уже, заберу. Черта с два! «Не понимаете, говорит, вы меня, папа. Ничего вы не понимаете в нашей жизни. Вы, говорит, разучилисьсамостоятельно думать, во времена культа привыкли, что за вас кто-то думает… Учитесь же думать хоть теперь!» Такие речи каково мне слушать? На шестом десятке от родного дитяти, а?
«А в самом деле, способен он что-нибудь понять в том, что произошло? — думал Дорошенко, глядя на приумолкшего, понурого Яцубу. — Найдет ли в себе силу порвать путы прошлого, расковаться, выпрямиться? Не умерло ль в нем самое желание выпрямиться, взглянуть на мир по-новому?» Дорошенко не собирался полемизировать с ним, видел, что сейчас это было бы бесполезно. Думал о другом: что случилось с человеком? Ведь Дорошенко помнит Яцубу в расцвете молодости, когда он летом и зимой носился в островерхой буденовке, что досталась в наследство от отца, и хотя Яцубу и тогда за его горячность и горластость молодежь называла «фанатом», но от него так и веяло жизнью, неукротимостью, не было в нем этой аракчеевской дубоватости, общего отупения, о котором, видимо, и говорила дочь. Кто выжал из его души здоровые соки жизни, кто изуродовал в нем лучшие человеческие задатки? Скудный же, видно, был духовный твой рацион, браток… Сырую картошку, говоришь, грыз на лагерной службе, не хватало витаминов… Но еще больше не хватало, видно, тебе каких-то иных витаминов, тех, что для души, — вот почему тебя так скрутило, покалечило, как тех птиц из Аскании, страдающих авитаминозом. Словно бы и кормят их хорошо, а все же чего-то им не хватает в искусственных условиях заповедника, фламинго даже меняют окраску, из розовых становятся белыми, а у лебедей-кликунов шеи скручены просто сверлом… Так, кажется, и тебе, голубчик, свернуло шею, видишь лишь одну сторону, не замечаешь, что жизнь вокруг меняется и климат изменился.
— Учитесь думать… Вишь, какая! Да у меня, доченька, уже голова от мыслей пухнет! Я же не трактор, за который тракторист думает. У меня своя голова на плечах, от мыслей она уже поседела… Бывает, по ночам не сплю и все гадаю: что же это было за шаманство? Что за кровавое затмение на всех нас тогда нашло? Создали себе идола и молились на него…
— Да, было, — согласился Дорошенко. — Стыдно. Перед всем миром стыдно.
— Они, молодые, думают, что все это так просто: отцы плохие, отцы культовики, а мы вот чистенькие, мы ангелочки… Еще посмотрим, что выйдет из этих ангелочков. Под пластинку танцевать — одно, а жить… На днях приехали два таких фертика наниматься на работу. «А это правда, спрашивают, что в вашем совхозе воровать нельзя?» — «Правда». — «Тогда это нам не подходит». И как ветром сдуло. Нет, нас не так учили, не такой мы закалки. Схватишься ночью, глянешь, где-то забагровело в степи — ты уже и мчишься туда, летишь, переживаешь. Прискачешь, а они стерню жгут… Разве им, молодым, эта твоя тревога понятна? А мы ведь привыкли, что слово старшего для тебя закон, все в жизни на дисциплине держится, и если я тебе отец, то не забывай, что я за тебя и отвечаю… Нет, не ждал, не ждал я, что она так меня опозорит! — снова перешел Яцуба на свое наболевшее. — За все отблагодарила. За то, что так пестовал, что пальцем ее никогда не тронул! Для нее ведь жил, для нее! — Голос его дрогнул.
— Такая девушка, она еще порадует тебя, — сказал Дорошенко. — Еще и отцу там добудет чести и славы.
Яцуба поднял голову, посмотрел на собеседника пристально.
— Ты думаешь?
— Вот увидишь.
— А впрочем, не бессердечная же она! — охотно согласился Яцуба. — Не может же быть, чтобы совсем отреклась от отца, чтобы возненавидела, каким бы он там ни был. — Его большие глаза даже налились слезами, голос зазвенел надеждой. — Не пропащий же у нее отец! Пускай искривило, исковеркало его, но ведь из карельской березы тоже мебель делают, хоть какая уж крученая!..
Запыленная пароконная тачанка остановилась напротив сарая, молодой агроном, не вставая с сиденья, крикнул Яцубе:
— Дым какой-то вон там, к востоку!.. Примерно в Четвертом отделении.
И этого оказалось достаточно, чтобы Яцуба-командир уже был на ногах, уже властно ударил набат, — медный пожарный колокол, и шофер, что, растянувшись, спал у сарая, вскочил очумело и, еще, кажется, не пробудившись, бросился выгонять машину из сарая.
— А если это не пожар, — добавил агроном вслед Яцубе, который торопливо залезал в кабину, — так поможете деревца поливать… Там увидите — бензовоз уже поливает вдоль дороги…
— Есть! — послышалось в ответ.
Когда пожарная цистерна умчалась, Дорошенко вышел на дорогу к агроному и тоже стал всматриваться в горизонт. Дыма нигде не было. Вихрь вдали пошел степью, но вихрь ведь не погасишь.
— Ложная тревога, — улыбаясь, сказал агроном. — Там дети весной обсадили деревцами дорогу, так надо полить — такая сушь… Бензовоз уже поливает, чего же этой гулять?
И его тачанка легко покатилась дальше.
«Ох, узнаю своих земляков!» — усмехнулся Дорошенко, медленно шагая через пустырь мимо огромного пруда, который вырыли этим летом. Пахом Хрисанфович очень гордился этим прудом. Глубокий, он еще не был заполнен, только на самом дне, наливаясь, поблескивал круглым зеркалом воды. «Видишь, круглый, как телескоп», — говорил Пахом Хрисанфович, показывая Дорошенко свое детище.
За прудом на том же пустыре строят новое помещение фермы. Оно причудливое, длинное, выгнутое дугой. Как ангар. Как станция метро. Бригадиром здесь тоже товарищ юности капитана Дорошенко — Андрей Бойко, жилистый, легкий, будто высушенный временем человек, с веселыми, молодыми глазами. В рабочем фартуке, с кельмой в руке, спускается с этого ангара, спрашивает капитана с любопытством:
— О чем это тебе Яцуба заливал там?
— Жаловался, что дочь наперекор пошла…
— И слезу небось пустил?
— Оно ведь и верно, нелегко ему.
— О, ты пожалей его, пожалей! Он бы тебя пожалел, если бы ты ему тогда в руки попался. — Глаза каменщика сверкнули остро, хотя губы все еще улыбались. — Соучастник террора — таким он для меня и умрет! Добра от него не жди.
Дорошенко сказал полушутя:
— Будем, друг, верить в прогресс. Отъявленные злодеи и то, бывает, становятся людьми, а этот… Недаром пословица говорит: «Нельзя человеку стать моложе, а добрее — всегда можно».
— Нет-нет, ты его раскуси. Думаешь, он разоружился? На словах! А тайком на каждого из нас дело ведет. Все отмечает! Так что дело, наверно, заведено и на тебя.
— А, леший с ним! — отмахнулся Дорошенко и стал разглядывать строение.
Бригадир, обрадованный вниманием, начал оживленно рассказывать, как возникла мысль строить такие вот — без леса — арочные фермы.
— На свой страх и риск! Нашли в одном журнале описание такого сооружения — давай, думаем, попробуем и мы. И, как видишь, получается. Цемент да кирпич. Никакого тебе дерева!
— Удержится, не обвалится?
— В Шестом отделении разве не видел? Уже один коровник стоит такой. Как штык! Мы, когда сложили его, сперва испытали на прочность: всей бригадой взобрались на самый верх, и хлопцы как ударили гопака… Выдержал.
— Да, хлопцы у тебя орлы, — взглянул Дорошенко на молодых каменщиков: они стоят в сторонке, сдерживают улыбки; парни словно бы небрежные, грубоватые, а в душе, видно, гордятся собой, своей работой.
— У нас только орлы — других не принимаем, — шутит Бойко. — Бригада ведь у нас коммунистическая!
— Много строит нынче совхоз, — замечает Дорошенко. — Там хаты переселенцам, здесь вот фермы новые, пруды…
— Все вроде бы войны боятся, — вступил в разговор худощавый пожилой каменщик, незнакомый капитану. — А посмотришь, на Центральной веранды вперегонки ставят… Спросишь: во сколько же она тебе обошлась? Эта самая веранда, оказывается, ничего не стоит… Водка больно дорогая…
И все они смеются.
— Вот и мой Костя, — показывает Бойко на одного из молодых, — тоже веранду теще соорудил, да какую.
— Весь совхоз строится, а я что — хуже других? Миру — мир! — спокойно говорит Костя и под общий смех добавляет, что на этом он прекращает с тещей холодную войну.
— Нигде и в отделениях уже нет землянок, — хвалится Бойко. — А я помню, как возвратился с фронта в Шестое, тогда семья там жила. Осень, ночь, темень… Домов нет, на месте поселка какой-то свинорой, в землю зарылись люди. Из всех архитектурных сооружений одно стоит… маленькая деревянная трибунка: видно, к Октябрьским праздникам воздвигали. А меня сон валит — просто падаю. Только прилечь негде — кругом мокро, развезло… Взбираюсь по лесенке, ложусь и сплю. Проснулся утром: где это я? Что за гомон вокруг? Ах, да я же на трибуне! На трибуне ночевал, а вокруг на площади… полно солдаток! Ждут, чей пришел. «Может, мой?» И дети ждут: «Может, тато?» Но не будят: устал солдат, пусть отдохнет хорошенько.
На миг будто тень пробежала по лицам, будто въявь предстали перед глазами и та толпа солдаток, и одинокая трибунка среди осеннего поля, и спящий на ней после дальней дороги солдат…
Домой капитан возвращается снова мимо пруда, мимо мастерских, привычная твердая дорожка вьется между ржавыми, нагретыми на солнце навалами металлолома, где снова попадаются на глаза мертвые судовые манометры и беспорядочно брошенная якорная цепь. На этом, собственно, и завершается предобеденная прогулка Дорошенко, которую он мысленно с горькой улыбкой называет хождением по Дуге Малого Круга. Сколько еще доведется сделать таких обходов? Немного больше круг, чем когда-то верблюжий, но такой же однообразный, замкнуто-бесконечный…
Бестарка, запряженная парой лошадок, стоит возле медпункта. Старая женщина сидит напротив бестарки на лавке, склонилась на руки и… плачет.
Дорошенко остановился возле нее:
— Чего вы плачете?
— Ты меня не узнал, Иван? — спросила женщина, открыв изборожденное глубокими морщинами, мокрое от слез лицо. — Подумал, что баба какая-то старая? А я Варька!
Он начал припоминать.
— Какая Варька?
— Варька Андриевская! Мы вместе еще в КСМ-ячейке были…
Да, это она. Она. Так вот как идет время, вот какие следы положила жизнь на его сверстниц!.. Старуха, а он, Дорошенко, до сих пор считает, что жизнь его только к полудню подошла.
— Чего ты здесь, Варька? Чего плачешь?
— Сына привезла вот, — она кивнула на бестарку, — подозрение на столбняк. Доктора нет, а без него не принимают!
Дорошенко кинул взгляд на бестарку и внутренне вздрогнул, увидев там уродливо перекошенное, сведенное судорогой юношеское лицо.
Твердым, уже не плачущим голосом Варька стала рассказывать, как стряслась беда. Комбайнер у нее сын, на самоходном работает, во время работы ноготь сбил на пальце, нужно было бы к врачу, но у нас сам знаешь как: пеплом из папиросы присыпал, кровь засохла — и айда дальше… Потом уже товарищи стали замечать, что с ним неладно: скулу перекашивает, глаз тянет…
— Только тогда и признался мне. «Места, говорит, мамо, нет на мне такого, чтоб не болело, всего меня ломает, выкручивает». Привезли его сюда, врач осмотрела, подозрение на столбняк. Тут бы его и положить, уколы бы ему, а они домой отослали. «Через три дня, говорит, явишься»… И врач молодая, культурная вроде бы, а так могла!.. Через три дня! А его за ночь еще больше перекосило, сегодня и слова уже не смог сказать этим паразитам.
— Не ругайся, Варька!
— Да как же не ругаться, Иван? Калекой же могут хлопца оставить на всю жизнь! — с болью выкрикнула Варька. — А как он трудился, как работал! Дни и ночи в поле, хлеб вон какой вырастил, пшеницей все завалили. Это ж все его труд, механизатора! Когда началась жатва, два-три часа вздремнет где-нибудь на кулаке, и уже помчался, уже на комбайне… И вот такое отношение.
— Там кто-нибудь есть? — кивнул Дорошенко на дверь медпункта.
— Да эта гусыня раскормленная, фельдшерица. «Чего же вы, говорю, сразу его не положили?» — «Коек не хватает». — «Сердца у тебя не хватает, а не коек! Другая бы под кустом, вон там больного положила, а не отсылала бы домой…» Да еще и Лукии нет, уехала, некому и пожаловаться на них, паразитов. Холодные, бездушные у нас люди, Иван. Как с такими новую жизнь строить, скажи?
Дорошенко поднялся на крыльцо медпункта, постучал в дверь. Дверь открылась. На пороге появилась фельдшерица в белом халате, раскормленная, полнолицая. Кажется, Яцубина подруга жизни.
— Что вам?
— Больного примите.
— Больной это… вы?
— Нет, я здоров. Больной там. — Дорошенко взглядом указал на бестарку.
— А кто вы такой, что приказываете? Вы что — новый директор совхоза? — В ее тоне угадывалась издёвка.
— Я не директор совхоза. — Дорошенко почувствовал, что теряет власть над собой, слепнет от бешенства, от хлынувшей в голову крови. Но усилием воли сдержал себя. — Больной в бестарке, извольте принять его!
Была в его голосе такая твердость, требовательность, что фельдшерица струхнула; пятясь, она залепетала что-то снова о койках, о том, что без врача она не имеет права… На шум, однако, выскочила откуда-то из внутреннего двора и врач — молодая и довольно хорошенькая особа с крашеными ресницами и модно начесанной на лоб челкой. Даже не верилось, что такая молодая и, казалось бы, вполне современная девушка успела стать столь бездушной. А в институте сама же, наверно, возмущалась бюрократами. Впрочем, как выяснилось, больного и в самом деле здесь негде было положить, к тому же для таких больных необходим будто бы особый режим — темная комната, и должны лежать они на голых досках. Одним словом, надо везти в районную больницу.
Дорошенко вежливо взял девушку-врача под руку, подвел к бестарке.
— Садитесь. И отвезите его. И сделайте все, что необходимо. Вы такая юная — бездушие вам просто не к лицу.
Докторша залилась нежным румянцем, даже маленькие уши с клипсами порозовели. Дорошенко помог ей забраться в бестарку, и она молча устроилась там рядом с Варькой, и уже ее стройные девичьи ноги красуются рядом с Варькиными бугровато-тяжелыми, в темных узлах набухших вен.
Варька, выпрямившись, трогает вожжами лошадей, и бестарка с тарахтением удаляется по улочке в степь.
А капитан Дорошенко после этого придет домой, выпьет еще стакан материнского травяного настоя, успокоится, отдохнет под защитой исцеляющей материнской заботы.
Когда он приляжет на диван, мать, присев у окна с какой-нибудь работой, будет посматривать на него темными пронзительными, словно бы заглядывающими в душу глазами. Лоб ее время от времени хмурится в задумчивости, а губы что-то невольно шепчут. Сыну иной раз чудится, что она и вправду владеет гипнозом, какой-то врожденной силой внушения. И сегодня еще рассказывают в совхозе, как она сразу после войны, когда тьма-тьмущая крыс развелось на фермах, будто бы сумела каким-то способом выманить, вывести эту нечисть из помещений. Вывела и повела степью, и они шли за нею, послушные, как барашки, повела их до самого моря и там утопила. Тогда же, после войны, когда тут еще не было врачей, отовсюду несли к ней детвору лечить от «младенческого». Позднее даже медики признавали, что «бабкины купания дают известный эффект»… Какое это сложное создание — человек! Как много еще в нем неразгаданного, таинственного, сил неисследованных!..
— Чем вы, мамо, лечите людей?
— Кого как… Кого зельем… Кого наговором… А то еще можно лечить болью… Или добрым словом…
 Все эти дни, что он гостит дома, мать только им и живет, ласка ее неистощима, но иногда ему кажется, что и родной матери он был дороже тот — морской, обветренный, знавший бури, ураганы, опасность, вызывавший тревогу за себя, а не этот бескрылый, тихий, домашний… почти пенсионер. Конечно, не случай в океане причина столь длительного отпуска. Как показало исследование, он не облучен, разгулялась гипертония, и только. И зрение ухудшилось, — это, конечно, тоже временно. Сейчас уже вроде бы лучше… Хотя бы еще один-единственный раз ощутить себя среди просторов океанских!.. И хотя после того случая, что едва не закончился для научного судна трагически, Тихий океан перестал быть для Дорошенко вольным и чистым океаном его юности, — ведь там теперь совершалось нечто преступное, его отравляли, над его извечной чистотой глумились! — однако Дорошенко чувствует и сейчас непреоборимое желание быть там. Он готов на все. Ему порой даже кажется, что и тогда, в океане, не только встречный тайфун загнал их в ту опасную зону (официальная версия была — обходили тайфун!), но еще и какое-то затаенное в глубине души чувство, мятежное чувство протеста подсказало ему рискованный курс, желание своим присутствием защитить океан, его жизнь, его чистоту. В рейс! Хотя бы в последний, хотя бы в самый трудный!.. Только б не забыли, только б не чувствовать себя за бортом, как бывает, когда ночью шквалом смоет человека с палубы за борт, и судно ушло, и крика никто не услышит…
Мать, как никто другой, понимает его теперешнее состояние, понимает тоску, что его гложет, и то глубокое смятение, что все время живет в нем, от нее не скроешь за внешней выдержкой душевного тоскливо-жгучего ожидания, ожидания того, что может никогда и не сбыться…
Придет ли радиограмма? Вызовут ли его в пароходство, пусть на портовую службу, на роль капитана-наставника, что ли, если уж считают, что судовождение не для него?
После обеда он снова выходит из дому. Хотелось бы матери задержать его, не пустить — куда ему в такую жару, зачем в этом белом отутюженном кителе бродить где-то по пыльным гумнам полевым или, как люди передают, взбираться даже на комбайн и, став рядом с водителем, пускаться словно в безвестность на том тарахтящем «степном корабле»?
Нет, не удерживает его мать… Хоть сама никогда и не бывала в морских странствиях, но душой понимает, почему так нужно иногда человеку просто выйти на курган степной, чтобы оттуда окинуть взором далекую морскую синеву и ощутить лицом, как ласковый предвечерний бриз-ветерок тихо тебя овевает…
В открытую слепящую степь идет капитан Дорошенко, на ежедневное свое хождение по Дуге Большого Круга, идет, неся в себе все то же щемящее беспокойство, что нигде не покидает его.
Скоро вступит в силу август, затянет степные горизонты пыльной сухой мутью — в конце лета, как и весной, снова приходят в этот край и ветры, и вихри, и пыльные бури. Погаснет степь, побуреет, вылиняет, осень обнажит посадки, вьюга засвистит поземкой по схваченному гололедицей степному океану. Тесным станет свет, сузятся горизонты, все утонет в туманах, в мелких моросящих дождях…
А покамест небосклоны ясные.
И среди этих чабанских небосклонов, то сочно-красных утром, то сухо пылающих, оранжевых или раскаленно-багровых при заходе, отныне будет день за днем тянуться твоя безбурная жизнь.
Гомон языков, калейдоскоп лиц, влажное дыхание тропиков и гул Атлантики — все он принес с собой сюда, на родной степной берег.
Вот о Хиросиме сегодня ему бригадир каменщиков напомнил, часто его спрашивают о Хиросиме: «Что такое Хиросима? Расскажите…» При этом слове ему почему-то слышится сразу тупое монотонное постукивание пачинко — игральных автоматов — на каждом углу новоотстроенных кварталов погибшего города. За два дня своего пребывания там Дорошенко видел лишь людей без улыбок, душевно угнетенных, по крайней мере, ему так казалось, видел атомный лазарет, переполненный несчастными, обреченными людьми, которых губит белокровие, глаза которых разъедает катаракта… И всюду его преследовал все тот же отупляющий, будто наркотик, звук пачинко. Но Хиросима ведь не только это. Хиросима — сотни тысяч обуглившихся людей… Хиросима — это когда балки стальные плавились, и черепица скипалась в груды шлака, и вышивка отпечаталась, как трафарет, на живых женских плечах… Это те девушки-школьницы, что, опираясь на бамбуковые палки, ковыляют куда-то в обгорелых лохмотьях и зовут матерей, просят глоток воды среди слепящего радиоактивного зноя.
Все это осталось далеко позади. Отныне он здесь, где чабаны водят отары без лоций в своем необозримом сухом океане, где над полями морские чайки, эти крылатые «души погибших моряков», лишь изредка промелькнут, пронесутся белокрыло, собирая кузьку. С детских лет привык он к просторам, к привольной жизни, среди многочисленных друзей его есть простые чабаны и ученые-океанологи, степные комбайнеры и моряки всего света — богат он дружбой, опытом, стремлениями, богат своей любовью к людям и ответной их любовью к нему. И вот со всем этим богатством оказаться в стороне, в лимане, в вечном штиле? Быть может, отныне твоей палубой будет эта твердь степная, по которой ты идешь напрямик, а навстречу тебе горячим воздухом плещет простор знакомый, океанский. Нет только волн, нет бурунов. Сизоватая, вытоптанная овцами степь кое-где побрызгана капельками синего цвета — это упрямо цветут упругие петровы батоги. Молодыми глазами смотрел ты когда-то на эту степь, была в глазах орлиная зоркость, а сейчас слезой расплываются разбросанные по полю капельки синего цвета…
Вот могила казацкая. Это место когда-то называлось Скарбным. Не раз в детстве у тебя дух захватывало от рассказов про клады, зарытые здесь запорожцами. А как найти? Выезжай верхом на курган, когда всходит солнце, и там, где ляжет тень от головы коня, копай, там и будет клад. Все меняется, только этот курган на месте, да солнце на месте, да тень от коня!
Хотя уже и не весна, но марево еще и сейчас по-весеннему щедро затопляет степные просторы, течет, струится повсюду, словно светлая весенняя разлей-вода. Сверкает на открытых равнинах, во впадинах-лощинках, обтекает далекие скирды и посадки, делает их среди этого половодья нереальными, иллюзорными. Словно в плесах чистых стоят, в лагунах, и отражаются в воде. А подойти ближе — там сушь, колючие заросли маслин да гледичий и колючая сухая трава внизу. Кое-где она, правда, еще не совсем сухая, зеленоватыми волнистыми прядями-руном стелется по земле, привлекает путника.
Вот такое выбрав место в тени, Дорошенко садится на траву, взгляд его отдыхает на пшенице, смуглой, полноколосой, солнечно застывшей у самых посадок; подсолнух-падалица лежит неподалеку, — видно, кто-то переехал его, но он еще цветет, цветет и в пылище, и пахнет твоим детством, и пчела озабоченно лазает по его тугим, раздавленным колесом сотам, впивается в каждую чашечку, берет нектар… Подсолнухи, эти братья солнца на земле, были его любовью и в далеких странствиях…
Почувствовав усталость, Дорошенко прилег на спину, вытянулся среди волнистой травы.
«Все, в сущности, так просто, — думалось ему, — стоит только понять, что живешь один раз, что жизнь — это тот рейс, который не повторяется, и что его нужно совершить достойно…»
Голое небо над ним.
Светлое, дневное, оно и сейчас таит в своей глубине все звезды и созвездия, которые открываются только по ночам.
Такими невероятно далекими кажутся сейчас Ивану Дорошенко прошедшая юность, семья, жена, дети… Были бы уже взрослыми сыновья. Ничего определенного не знает он о их последнем смертном часе, о том, как тонуло разбомбленное фашистскими пиратами транспортное судно, на борту которого они находились… Точно знает лишь, что случилось это в тихую звездную ночь. Из всего услышанного потом память крепче всего почему-то сохранила это…
Вспомнился еще родной порт, каким видел его в последний раз перед отъездом, — в причудливости ночных огней, в стрелах работающих кранов, что и ночью трудились, откуда-то доносился грохот лебедок… Суда, малые и большие, словно бы только и ждали просторов, рейсов, ветров.
Очнулся Дорошенко от удара якорной цепи, лязгнувшей где-то вблизи. Вскочил, сел и в этот же миг понял, где он, понял, что невзначай задремал у дороги в посадке, а разбудил его не грохот якорной цепи, а тот вон комбайновый агрегат, что, приближаясь, выплывает из-за горизонта, косит, снимает широкой полосой червонно-смуглую дозревшую пшеницу.
Капитан, будто сбросив усталость, поднялся взбодренный и, как перед выходом из каюты, машинально провел рукой по пуговицам кителя — все ли застегнуты. Настроение его сразу улучшилось. «Услышать здесь грохот якорной цепи — это добрая примета», — улыбнувшись, подумал Дорошенко и неторопливо пошел навстречу комбайну.
Все эти дни, что он гостит дома, мать только им и живет, ласка ее неистощима, но иногда ему кажется, что и родной матери он был дороже тот — морской, обветренный, знавший бури, ураганы, опасность, вызывавший тревогу за себя, а не этот бескрылый, тихий, домашний… почти пенсионер. Конечно, не случай в океане причина столь длительного отпуска. Как показало исследование, он не облучен, разгулялась гипертония, и только. И зрение ухудшилось, — это, конечно, тоже временно. Сейчас уже вроде бы лучше… Хотя бы еще один-единственный раз ощутить себя среди просторов океанских!.. И хотя после того случая, что едва не закончился для научного судна трагически, Тихий океан перестал быть для Дорошенко вольным и чистым океаном его юности, — ведь там теперь совершалось нечто преступное, его отравляли, над его извечной чистотой глумились! — однако Дорошенко чувствует и сейчас непреоборимое желание быть там. Он готов на все. Ему порой даже кажется, что и тогда, в океане, не только встречный тайфун загнал их в ту опасную зону (официальная версия была — обходили тайфун!), но еще и какое-то затаенное в глубине души чувство, мятежное чувство протеста подсказало ему рискованный курс, желание своим присутствием защитить океан, его жизнь, его чистоту. В рейс! Хотя бы в последний, хотя бы в самый трудный!.. Только б не забыли, только б не чувствовать себя за бортом, как бывает, когда ночью шквалом смоет человека с палубы за борт, и судно ушло, и крика никто не услышит…
Мать, как никто другой, понимает его теперешнее состояние, понимает тоску, что его гложет, и то глубокое смятение, что все время живет в нем, от нее не скроешь за внешней выдержкой душевного тоскливо-жгучего ожидания, ожидания того, что может никогда и не сбыться…
Придет ли радиограмма? Вызовут ли его в пароходство, пусть на портовую службу, на роль капитана-наставника, что ли, если уж считают, что судовождение не для него?
После обеда он снова выходит из дому. Хотелось бы матери задержать его, не пустить — куда ему в такую жару, зачем в этом белом отутюженном кителе бродить где-то по пыльным гумнам полевым или, как люди передают, взбираться даже на комбайн и, став рядом с водителем, пускаться словно в безвестность на том тарахтящем «степном корабле»?
Нет, не удерживает его мать… Хоть сама никогда и не бывала в морских странствиях, но душой понимает, почему так нужно иногда человеку просто выйти на курган степной, чтобы оттуда окинуть взором далекую морскую синеву и ощутить лицом, как ласковый предвечерний бриз-ветерок тихо тебя овевает…
В открытую слепящую степь идет капитан Дорошенко, на ежедневное свое хождение по Дуге Большого Круга, идет, неся в себе все то же щемящее беспокойство, что нигде не покидает его.
Скоро вступит в силу август, затянет степные горизонты пыльной сухой мутью — в конце лета, как и весной, снова приходят в этот край и ветры, и вихри, и пыльные бури. Погаснет степь, побуреет, вылиняет, осень обнажит посадки, вьюга засвистит поземкой по схваченному гололедицей степному океану. Тесным станет свет, сузятся горизонты, все утонет в туманах, в мелких моросящих дождях…
А покамест небосклоны ясные.
И среди этих чабанских небосклонов, то сочно-красных утром, то сухо пылающих, оранжевых или раскаленно-багровых при заходе, отныне будет день за днем тянуться твоя безбурная жизнь.
Гомон языков, калейдоскоп лиц, влажное дыхание тропиков и гул Атлантики — все он принес с собой сюда, на родной степной берег.
Вот о Хиросиме сегодня ему бригадир каменщиков напомнил, часто его спрашивают о Хиросиме: «Что такое Хиросима? Расскажите…» При этом слове ему почему-то слышится сразу тупое монотонное постукивание пачинко — игральных автоматов — на каждом углу новоотстроенных кварталов погибшего города. За два дня своего пребывания там Дорошенко видел лишь людей без улыбок, душевно угнетенных, по крайней мере, ему так казалось, видел атомный лазарет, переполненный несчастными, обреченными людьми, которых губит белокровие, глаза которых разъедает катаракта… И всюду его преследовал все тот же отупляющий, будто наркотик, звук пачинко. Но Хиросима ведь не только это. Хиросима — сотни тысяч обуглившихся людей… Хиросима — это когда балки стальные плавились, и черепица скипалась в груды шлака, и вышивка отпечаталась, как трафарет, на живых женских плечах… Это те девушки-школьницы, что, опираясь на бамбуковые палки, ковыляют куда-то в обгорелых лохмотьях и зовут матерей, просят глоток воды среди слепящего радиоактивного зноя.
Все это осталось далеко позади. Отныне он здесь, где чабаны водят отары без лоций в своем необозримом сухом океане, где над полями морские чайки, эти крылатые «души погибших моряков», лишь изредка промелькнут, пронесутся белокрыло, собирая кузьку. С детских лет привык он к просторам, к привольной жизни, среди многочисленных друзей его есть простые чабаны и ученые-океанологи, степные комбайнеры и моряки всего света — богат он дружбой, опытом, стремлениями, богат своей любовью к людям и ответной их любовью к нему. И вот со всем этим богатством оказаться в стороне, в лимане, в вечном штиле? Быть может, отныне твоей палубой будет эта твердь степная, по которой ты идешь напрямик, а навстречу тебе горячим воздухом плещет простор знакомый, океанский. Нет только волн, нет бурунов. Сизоватая, вытоптанная овцами степь кое-где побрызгана капельками синего цвета — это упрямо цветут упругие петровы батоги. Молодыми глазами смотрел ты когда-то на эту степь, была в глазах орлиная зоркость, а сейчас слезой расплываются разбросанные по полю капельки синего цвета…
Вот могила казацкая. Это место когда-то называлось Скарбным. Не раз в детстве у тебя дух захватывало от рассказов про клады, зарытые здесь запорожцами. А как найти? Выезжай верхом на курган, когда всходит солнце, и там, где ляжет тень от головы коня, копай, там и будет клад. Все меняется, только этот курган на месте, да солнце на месте, да тень от коня!
Хотя уже и не весна, но марево еще и сейчас по-весеннему щедро затопляет степные просторы, течет, струится повсюду, словно светлая весенняя разлей-вода. Сверкает на открытых равнинах, во впадинах-лощинках, обтекает далекие скирды и посадки, делает их среди этого половодья нереальными, иллюзорными. Словно в плесах чистых стоят, в лагунах, и отражаются в воде. А подойти ближе — там сушь, колючие заросли маслин да гледичий и колючая сухая трава внизу. Кое-где она, правда, еще не совсем сухая, зеленоватыми волнистыми прядями-руном стелется по земле, привлекает путника.
Вот такое выбрав место в тени, Дорошенко садится на траву, взгляд его отдыхает на пшенице, смуглой, полноколосой, солнечно застывшей у самых посадок; подсолнух-падалица лежит неподалеку, — видно, кто-то переехал его, но он еще цветет, цветет и в пылище, и пахнет твоим детством, и пчела озабоченно лазает по его тугим, раздавленным колесом сотам, впивается в каждую чашечку, берет нектар… Подсолнухи, эти братья солнца на земле, были его любовью и в далеких странствиях…
Почувствовав усталость, Дорошенко прилег на спину, вытянулся среди волнистой травы.
«Все, в сущности, так просто, — думалось ему, — стоит только понять, что живешь один раз, что жизнь — это тот рейс, который не повторяется, и что его нужно совершить достойно…»
Голое небо над ним.
Светлое, дневное, оно и сейчас таит в своей глубине все звезды и созвездия, которые открываются только по ночам.
Такими невероятно далекими кажутся сейчас Ивану Дорошенко прошедшая юность, семья, жена, дети… Были бы уже взрослыми сыновья. Ничего определенного не знает он о их последнем смертном часе, о том, как тонуло разбомбленное фашистскими пиратами транспортное судно, на борту которого они находились… Точно знает лишь, что случилось это в тихую звездную ночь. Из всего услышанного потом память крепче всего почему-то сохранила это…
Вспомнился еще родной порт, каким видел его в последний раз перед отъездом, — в причудливости ночных огней, в стрелах работающих кранов, что и ночью трудились, откуда-то доносился грохот лебедок… Суда, малые и большие, словно бы только и ждали просторов, рейсов, ветров.
Очнулся Дорошенко от удара якорной цепи, лязгнувшей где-то вблизи. Вскочил, сел и в этот же миг понял, где он, понял, что невзначай задремал у дороги в посадке, а разбудил его не грохот якорной цепи, а тот вон комбайновый агрегат, что, приближаясь, выплывает из-за горизонта, косит, снимает широкой полосой червонно-смуглую дозревшую пшеницу.
Капитан, будто сбросив усталость, поднялся взбодренный и, как перед выходом из каюты, машинально провел рукой по пуговицам кителя — все ли застегнуты. Настроение его сразу улучшилось. «Услышать здесь грохот якорной цепи — это добрая примета», — улыбнувшись, подумал Дорошенко и неторопливо пошел навстречу комбайну.

Железный остров
Синеет безбрежное море. Детским щебетом начинается утро на одном из живописных полуостровов, что по-здешнему называется просто кут.[6] На полуострове большой старинный парк, один из тех парков, какие некогда создавались в степных имениях батраками и тем рабочим степным людом, чьи внуки и правнуки сейчас все лето резвятся в тени этого парка и загорают у моря до смуглости мулатов. «Парижком» называется этот кут и парк. И это нужно понимать как «Парижская коммуна» — такое название носила основанная здесь еще в двадцатых годах коммуна демобилизованных краснофлотцев. Коммуны давно нет, а имя осталось. Осенью и весной, пока дети в школе, в «Парижкоме» проводятся совещания районного масштаба, форумы чабанов или кукурузоводов, сюда же едут отмечать и Первомай, а потом на все лето — обильное солнцем, степное! — власть здесь переходит в руки пионерии, мальчишек и девчонок, которых привозят сюда и жилищем для которых становятся вылинявшие профсоюзные палатки, а единственным начальством — воспитательницы и вожатые. И хотя здесь все больше люди веселые, жизнерадостные, но и среди них своими выдумками, весельем да голосом-звоночком выделяется Тоня Горпищенко. Когда ни посмотришь, она в окружении детворы. Но, вспоминая отцовскую науку, Тоня потачек им не дает, всякого умеет приструнить; и все же малыши льнут к ней, им с нею весело. Тоню они по-настоящему любят. Ее энергии хватает и на танцы, и на песни, и на разные игры, а детям, прибывшим сюда из областного центра, никто так интересно, как Тоня, не расскажет о разных травах и насекомых, о муравьях и степных птицах; она тебе, изловчась, и цикаду поймает, и ящерицу схватить не побоится, чтобы вблизи рассмотреть ее с детьми. Но если ты разиня-растеряха и, выкупавшись, забудешь у моря что-нибудь из своей одежды, то не надейся, что Тоня-вожатая тебе это так простит. С ее легкой руки на лагерном дворе появилась «Доска юных разинь», где висят на гвоздиках чьи-то забытые трусы, чьи-то тапочки, чей-то картузишко. Любят дети ходить с нею в походы, а поскольку смотреть здесь особенно нечего — все степь да степь, где только и увидишь древний, может, еще сарматский курган или следы укрытий-капониров, в которых во время войны прятали самолеты, — то чаще всего Тоня идет с детьми по дуге залива вплоть до того места, где у самого моря на кромке рыжей суши сочно зеленеют кустики камыша. — А угадайте, откуда этот камыш? Почему нигде больше нет, а здесь зеленеет? Пока горожанин думает, кто-нибудь из степняков уже и отгадал: — Видно, тут есть пресная вода. И вправду, в камышах натыкаются они на такое богатство, какому и цены нет в степи: криница чистой ключевой воды! Не очень и глубокая она, солнце просвечивает ее до самого дна, а дно, как в каменоломне, золотится обломками камня-ракушечника. Детям раздолье: ложатся вокруг криницы, набирают воду в пригоршни и пьют, смакуя, а утолив жажду, резвятся, брызгают друг другу в лицо, визжат, покамест снова не приутихнут, глядя, как вода в кринице отстаивается и солнечные лучи, преломившись в ней, будто застывают. Вот тогда и узнают они от Тони-вожатой, что криница эта не простая, что о ней ходит легенда, будто в ней дно двойное, и если долго смотреть вот так, не отрываясь, то можно разглядеть, как на дне между этими громоздящимися камнями сверкнет обломок сабли казацкой. Легенду эту знает вся степная округа, и, конечно, в воскресенье ни одна пьяная компания не минует криницы, чтобы не уставить в нее свои пьяные рожи, — им мерещатся там и сабля, и кинжал, и что угодно… Бывает, что пытаются достать этот клад, ведь совсем близко видят саблю и рукоятку в инкрустации, но стоит сунуть руку в воду, как исчезают и дно и клад… Лежат малыши и смотрят в глубину так пристально, что кое-кому и в самом деле мерещится нож, острый, как луч, да и самой вожатой, распластавшейся между ними над криницей, тоже чудится уже что-то сверкающее между камнями, или, может, это просто солнечный луч играет? Но видит она здесь, в этой чистой кринице, и то, чего малыши при самой буйной фантазии увидеть не способны — не способны они разглядеть, как откуда-то с самого дна сквозь дрожащий хаос сломанных лучей улыбается их вожатой какой-то парнишка, тот, чье изображение вот так же глядело на нее в степи из воды, налитой в резиновое колесо для чаек… Бывает, что набредет здесь на них лагерный баянист, у которого на голове такая копна густой шерсти, что даже странно, почему его не остригут в эту жару; баянист начинает приставать к вожатой с разными шуточками, называет ее смугляночкой, а она прямо в глаза говорит ему: как не стыдно бить тут баклуши, когда мог бы в это время зерно грузить на току. — Надо ж кому-то для детишек на баяне играть, — хохочет затейник. А Тоня ему снова: — У меня вот пятиклассник Петько Шамрай на баяне играет не хуже вас. А то привыкли разбазаривать общественные деньги… В некоторых пионерлагерях, говорят, до того дошло, что даже горнистов нанимают играть побудку пионерам по утрам… Однажды, когда возвращались в лагерь, баянист, крикнув детям: «Идите, идите!» — на минутку еще задержал Тоню-вожатую в камышах, и тогда малыши, насторожившись, как зайчата, снова услышали: — Эх ты, смугляночка! И вслед за этим звонкая пощечина раздалась и взволнованные слова их вожатой: — Сперва пойди трижды умойся! Трижды умойся — значит, перед тем, как лезть с поцелуем… И даже малышам эта формула их вожатой пришлась по душе. А чем ближе конец недели, тем больше Тоню охватывает волнение. В субботу с самого утра она уже сама не своя, возбужденно-радостная, безудержно бросается обнимать подружек-вожатых. И они знают, в чем дело, они дружно просят начальника лагеря, чтобы отпустил Тоню домой на выходной день. Под вечер ее провожают подруги и детвора, и даже те, чьи трусы да картузы она вывешивала на «Доску разинь», становятся немного грустными: ведь Тони завтра с ними не будет. До совхоза отсюда далеко, лежит туда окружная пыльная степная дорога, но Тоня, чтобы сократить путь, решает брести через лиман напрямик — так она срежет угол, доберется на тот берег много быстрее, а там уже рукой подать до одного из совхозных отделений. Залив здесь не похож на тот, что у совхозных земель, этот еще мельче, его можно перейти вброд. Помахав на прощание рукой детям и подругам, что вышли на берег ее провожать, Тоня подбирает платьице выше колен, и ее тугие смуглые ноги смело забредают в это тропическое море, где нагретая за день вода тепла, как молоко, и горячо-йодисто пахнут водоросли. Густо сбитые когда-то волной, они неподвижно киснут в воде, и по ним так мягко ступать. А дальше от берега море становится прозрачным, чистым, на дне различаешь каждую песчинку, а еще дальше видно, как и водоросли по дну растут какие-то узорчатые, ветвистые — фантастическая, неземная растительность. В том заливе, что у совхоза, водорослей вовсе нет, а здесь их целый лес под водой, солнце отчетливо высвечивает их, виден каждый стебелечек, будто в аквариуме, а там, где Тоня бредет, они сами раздвигаются перед нею, будто уступают дорогу, будто знают, куда Тоня спешит. А она и впрямь торопится, и все у нее в груди смеется, и сердце горит жаждой свидания. Не то что лиман, который и курица перебредет, а, кажется, и само море она бы перемахнула, лишь бы скорее быть там, где хлопец веснушчатый ее ждет! Сколько раз то утром, то вечером, когда лагерь уже спит после отбоя, она приникала ухом к приемнику, прислушиваясь, не обратится ли случайно к ней Виталик, не скажет ли хоть одно слово, может, просто назовет ее имя. Ведь пока не был он радистом в совхозе, то позволял себе такие штучки, мог через эфир разыскать ее в степи, позвать «ту, которая меня слышит…», а теперь, когда ему доверили весь радиоузел, Виталик будто преобразился, сам себе запретил откалывать подобные номера. Да она и не сердится на него за это. Не сердится, что вынуждена сама сейчас бежать к нему на свидание, ведь он сегодня на дежурстве и не может отлучиться, — не то что она. Во всем она ставила его выше себя: в знаниях, умении работать, в способностях; и если только в чем и могла она не уступить, а даже превзойти его, так это, может, в своей любви, убеждена была в этом. Брела, все выше подбирая платье, то напевала, то вслух смеялась, радуясь, что свободна, что впереди вечер свидания и будет целовать ее тот, кто ей люб. Залив оказался шире, чем представлялось с берега, уже и вишнево-красное солнце скрылось за обрывистым берегом, а Тоне, обжигаемой медузами, еще далеко было до суши. Залив не пугал ее своей глубиной — ведь она знала, что местные женщины, работающие по ту сторону на птицеферме, каждое утро, подобрав юбки, переходят его вброд, но женщинам тут все броды, видно, лучше известны, чем ей. В одном месте Тоня запуталась в таких водорослях, что немало времени потеряла, пока выбралась, и пришлось потом далеко обходить это Саргассово море. А в другом месте неожиданно попала на глубину, оказалась в воде по грудь. Однако и это не погасило радостного ее настроения, тем более что дальше море снова становилось мельче, и Тоня побрела быстрее. Пугалась она, только когда медузы касались в воде ее голого тела, обжигали ноги: тело от этого остро щемило, как от крапивы; но не столько самого ожога боялась Тоня, сколько просто не переносила прикосновений этих скользких морских чудовищ. Молодой месяц — такой острый, что обрезаться можно, — сверкал в чистом небе, и вечерняя заря уже покачивалась на воде перед Тоней, и какой-то чабан с далекого берега, склонившись на герлыгу, смотрел, как чья-то сумасбродная дивчина напрямик море перебредает. …Совхоз уже спал крепким трудовым сном, когда, проскользнув вдоль парка мимо сторожей, перебежав улицу, какая-то девичья фигурка неслышно метнулась в сад к Лукии, метнулась и, затаив дыхание, остановилась над Виталиковой раскладушкой в мокрой, к телу прилипшей одежде. Казалось, девушка вовсе не дышала какой-то миг. А потом чуть-чуть тронула пальчиком ухо парня. И от этого прикосновения он тотчас же проснулся, вскочил, будто и сна не было. — Это ты? — Я. — Вся мокрая, — он бережно привлек ее к себе. — Под каким это дождем была? — Через лиманы, через все Черное море к тебе брела! — счастливо смеялась Тоня. — Акулы на меня бросались, спруты, осьминоги… И Лукия, спавшая на веранде, проснулась — ей почудился какой-то шорох в садике, чье-то постороннее присутствие, ей даже послышалось, будто кто-то целуется вблизи. — Кто там? Никто ей не ответил. И хотя утром сын на все ее расспросы отделывался шутками, говорил, что такое может присниться, она была уверена, что ночью кто-то все же был в саду и после ее окрика легонько выпорхнул оттуда. В этот день передовые рабочие отделений на двух пятитонках, со знаменами отправились в соседний совхоз проверять договор соцсоревнования. Лукия Назаровна возглавляла эту поездку. Лукия на грузовике — в одну сторону, а сын на мотоцикле — в другую. На мотоцикле у него Тоня, она сидит за спиной у хлопца, развеваются волосы на ветру. В руке авоська с бутербродами. Тоня и Виталий съедят их, вдоволь накупавшись в море, выберут себе пустынный берег, где будут вдвоем целый день, а под вечер мотоцикл Виталика доставит Тоню прямехонько в лагерь, к самой ее палатке. Мотоцикл летит вприпрыжку. Степь, куда ни глянь, равнина и равнина — твердь вековая. С такой тверди, оттолкнувшись от нее огненными ракетными бурями, могли бы взять разгон межпланетные корабли, а пока что типчак дикий здесь свистит да полынь серебрится — так и ложится от ветра там, где проносится Виталькин мотоцикл по своей степной орбите. Все неизменно, неподвижен горизонт, один он летит-мчится средь этих устоявшихся просторов, только он своим громким тарахтеньем нарушает бесконечную, остекленевшую от солнца степную тишину. Коршун следит за ним из-под неба удивленным хищным глазом: кто ты, что не заяц и не сайгак, а быстрее их мчишься? На бешеной скорости мотоцикл перескакивает солончаки да ложбинки, пока, оказавшись среди заросших молочаем и чертополохом песчаных кучегур, не начинает чихать, кашлять, буксовать. Выбравшись на твердую почву, он снова рвется вперед, мчится так, будто хочет взлететь в воздух, оторваться от вязких песчаных дюн да коронованного чертополоха. Хлопец уверенно виражирует по бездорожью между кучегурами, ищет, где меньше песка, где он не такой вязкий, а песок чем дальше, тем сыпучей, и мотоцикл с лету раз за разом проваливается в него, зарывается, трясется на месте, и тогда хлопец оборачивается к своей спутнице немного виновато и восторженно:
— О, дает! Как на вибростенде!
Она смеется:
— Я не бывала на вибростенде.
— Я тоже не бывал. А теперь представляю!
Вот это жизнь! Летят — им весело, буксуют — им весело тоже. И пока мотоцикл натужно разгребает песок, пока моторчик упрямо фыркает, Тоня наклоняется к хлопцу, заглядывает ему в лицо. Глаза ее горят, тают влажно, они словно пьяные, осоловелые от зноя и прилива девичьей нежности… Вот уже и мотоцикл лежит на боку, судорожно бьется в песке, а они стоят над ним, замерев в объятиях среди этих залитых солнцем просторов.
Мотоцикл летит вприпрыжку. Степь, куда ни глянь, равнина и равнина — твердь вековая. С такой тверди, оттолкнувшись от нее огненными ракетными бурями, могли бы взять разгон межпланетные корабли, а пока что типчак дикий здесь свистит да полынь серебрится — так и ложится от ветра там, где проносится Виталькин мотоцикл по своей степной орбите. Все неизменно, неподвижен горизонт, один он летит-мчится средь этих устоявшихся просторов, только он своим громким тарахтеньем нарушает бесконечную, остекленевшую от солнца степную тишину. Коршун следит за ним из-под неба удивленным хищным глазом: кто ты, что не заяц и не сайгак, а быстрее их мчишься? На бешеной скорости мотоцикл перескакивает солончаки да ложбинки, пока, оказавшись среди заросших молочаем и чертополохом песчаных кучегур, не начинает чихать, кашлять, буксовать. Выбравшись на твердую почву, он снова рвется вперед, мчится так, будто хочет взлететь в воздух, оторваться от вязких песчаных дюн да коронованного чертополоха. Хлопец уверенно виражирует по бездорожью между кучегурами, ищет, где меньше песка, где он не такой вязкий, а песок чем дальше, тем сыпучей, и мотоцикл с лету раз за разом проваливается в него, зарывается, трясется на месте, и тогда хлопец оборачивается к своей спутнице немного виновато и восторженно:
— О, дает! Как на вибростенде!
Она смеется:
— Я не бывала на вибростенде.
— Я тоже не бывал. А теперь представляю!
Вот это жизнь! Летят — им весело, буксуют — им весело тоже. И пока мотоцикл натужно разгребает песок, пока моторчик упрямо фыркает, Тоня наклоняется к хлопцу, заглядывает ему в лицо. Глаза ее горят, тают влажно, они словно пьяные, осоловелые от зноя и прилива девичьей нежности… Вот уже и мотоцикл лежит на боку, судорожно бьется в песке, а они стоят над ним, замерев в объятиях среди этих залитых солнцем просторов.
 Море где-то уже близко, но его не видно из-за песчаных кучегур. Из степи было видно, а теперь синева морская исчезла за сыпучими барханами, за молочаем да чертополохом, какие только и растут в этих пустынных местах. Сверкающей россыпью искрится песок, желтеет молочай, огромный чертополох ветвисто раскинулся на холме, словно колючий кактус где-то на меже мексиканской пустыни. В таких местах мотоцикл приходится перетаскивать. Виталий ведет. Тоня подталкивает. И как только хлопец снова заводит мотор, Тоня уже взбирается на свое место, распущенные волосы опять развеваются на ветру, и Тоне смешно от полета, от лихости, оттого, что ветер щекочет, обнажая колени, смешно, что видит она все время перед собой тонкую, еще совсем мальчишечью шею Виталика с глубокой ямкой, какие бывают только у лгунишек. Он не такой, а ямка на затылке вроде гнездышка, хоть перепелиное яйцо клади. Зато такого мотоциклиста поискать! Впервые ощущает Тоня такую скорость, такую бурную езду с препятствиями, но ей нисколечко не страшно — никакого несчастья не может быть, когда такой водитель сидит за рулем!
Будто чувствуя ее одобрение, Виталик берет еще один песчаный барьер, дает скорость, чтоб вираж получился на славу, и — уже есть такой вираж — и тогда еще крепче обнимают его ласковые девичьи руки, и он совсем хмелеет от счастья.
Рывок — прыжок — вираж через последний песчаный холм, и вот вам море, вот вам его синева, тихая, беспредельная…
Один-одинешенек среди морской равнины высится истуканом вдали крейсер, и, кроме него, нигде ни паруса, ни катерка. Побережье тоже пустынно, безлюдно. Тоня впервые здесь, среди этих холмов. Бывала на море не раз, но там, где оно ближе подходит к совхозу, а не в этих барханах, куда и отары отца нечасто, видать, забредают.
Ленивый плеск волн… Сухая морская трава чернеет, шелестит под ногами; кое-где рыба в ней смердит, разбухнув. Даже Виталика немного оторопь взяла: ни живой души вокруг. Слепящие остекленевшие просторы. Дрёма во всем. Вдали на берегу белеет одинокая рыбацкая хатенка, где ночует рыболовецкая бригада в сезон лова, но сейчас и там никого не видно. Даже дядько Сухомлин, что неделями бездельничает здесь, стережет рыбацкое жилье, сейчас не вышел навстречу в своей измятой шляпе и брюках с одной подвернутой штаниной, не вышел, не остановился, всматриваясь, кто прибыл, кто нарушил эту благодатную тишину и покой… Да разве же не удивительна их Земля — планета, на которой есть где-то и города многомиллионные с университетами, с небоскребами, с подземными дворцами метро и спортивными аренами, на которых неистовствуют десятки тысяч болельщиков, и в то же время есть такой тихий берег, где дремлет под черепичным козырьком одинокая рыбацкая хатенка, первозданно синеют просторы моря, и чайка сидя спит у воды, белая, неподвижная, будто из алебастра.
А впрочем, есть здесь еще одно живое существо: корова, принадлежащая дядьке Сухомлину, красавица красностепной породы, забредя далеко от берега, неподвижно стоит средь чистой морской синевы. Жара, видно, загнала ее туда, и она стоит себе, прохлаждается в воде по брюхо, стоит, как индийское божество, только хвостом время от времени обмахивается, обмахивается совсем по-нашему!
Корова с любопытством поглядывает с моря на прибывших.
— Она словно хочет нам что-то сказать, Виталик!
— Вполне возможно. Что хочешь ты нам сказать, о добрая корова? Ага! Она говорит, что море здесь — чудо! Прямо как в тропиках. Только нет в нем коралловых рифов!
— И еще что?
— И что дядько Сухомлин отправился на воскресенье в Рыбальское. И что мы здесь с тобой одни! Можем делать что пожелаем! Свистеть, петь!
И хлопец запевает во всю глотку: «Степь и степь одна без краю, аж до моря берегов!..»
Тоня от души хохочет: ей очень нравится, когда он начинает вот так дурачиться.
— Эта корова так смотрит, будто и вправду узнала тебя!
— Еще бы! Индийская священная тварь, она сразу догадалась, кто перед нею! Перед нею йог! Тот, что умеет стоять на руках и на голове! Глубокоуважаемая корова, прошу вашего внимания!
И уже хлопец стоит на голове, уже на руках идет вдоль берега — пятками в небо, лицом вниз, — а Тоня, заливаясь смехом, медленно ступает следом по мягкой морской траве, ведет мотоцикл.
— Хватит, хватит! — наконец, смилостивившись, говорит она; и только после этого юный йог, упруго перевернувшись, становится на ноги, с лицом, густо налившимся кровью.
— Купаемся! — говорит Тоня и первой начинает раздеваться.
— Я сейчас! — вскочив на мотоцикл, Виталик понесся вдоль берега к рыбацкой хате.
И вскоре Тоня видит уже, как он по-хозяйски ходит по двору, обследует Сухомлиново кочевье. Потом принимается сталкивать на воду один из баркасиков, что чернели, вытянутые на берег.
К ней Виталик подплыл уже на том баркасике. Подплыв, посмотрел на Тоню — и оторопел. Никогда он еще не видел ее раздетой. В одном купальнике стояла, красуясь на весь берег открытым девичьим телом, стройным, загорелым. Даже боязно парню стало, что она такая красивая. Неужели это он, шкет, целовал ее? Перед ним стояла, улыбаясь, будто незнакомая, совсем взрослая девушка, а он переднею ежился на лодке в своих трусишках, как мальчонка, растерянный, пораженный блеском ее обнаженных плеч, обнаженных ног, стройного девичьего стана. Застеснявшись, он беспорядочно налегал на весла, вертел лодку на месте, а Тоня, наоборот, чувствовала себя совсем свободно, стояла и закручивала перед купанием волосы узлом, радостно осматривая это синее раздолье.
— Вот куда бы пионерлагерь!
Закрутив волосы, бросилась в воду, широким шагом побежала по ней дальше от берега, на глубину. Виталий, радостно взвизгнув, выпрыгнул из лодки, ринулся вслед за Тоней, догнал, и они стали брызгаться, бороться. Тоня, поймав его, попыталась силой окунуть, как малыша, который не хочет купаться, а он, вырвавшись, старался ответить ей тем же, но здесь было мелко, — они кинулись взапуски дальше в море, и Виталий, подпрыгивая, радостно вопил:
— Глубины! Глубины! О море, дай нам глубины!
А через некоторое время они уже лежат навзничь на воде, успокоенные. Тоня брызгает водой вверх, и оттуда, с синего неба, летят белоснежные жемчуга, настоящие жемчуга, блестящие, сверкающие, как те, что достают мальчишки в тропических водах с морского дна. Хотел бы и он, Виталий, что-нибудь такое Тоне раздобыть, чтоб поразить ее, чтоб ахнула она от восторга. Только что ж он ей здесь раздобудет?
— Тоня, хочешь… мидий? У меня есть в лодке.
Вскоре они уже возле лодки. Постукивая, как орехами, хлопец насыпает из банки перед Тоней мидий, видно захваченных в Сухомлиновой хате, сам их вылущивает и подает девушке. Подает чуть-чуть небрежно, чтоб не зазнавалась, не подумала, что он так уж рассыпается перед ней да прислуживает. А Тоня и сама умеет вылущивать, и какую вылущит, сразу подает Виталику. Ей нравится эта женская роль: готовить и подавать.
Корова смотрит на них, не сводит глаз.
— Виталик, может, и она проголодалась?
— Пускай пасется, море велико.
— Да, бывает такое, что подножный корм хоть в море ищи.
— А знаешь, сколько пропадает в море такого корма, что скотина облизывалась бы? Про филофору слыхала? Это те красные водоросли, которых полным-полно в лиманах. Доказано, что мука филофоры повышает удои.
— Дядько Сухомлин своей нетелью доказал?
— Наука доказала.
— Что же, нужно будет это добро и на наших фермах испытать. А еще лучше, если бы тот, кто хочет пить молоко, оставлял бы фуражу, — сказала Тоня, и в голосе ее появилась отцовская резкость. — А то летом фураж весь под метелку выметут, а весной, когда скотина дохнет, снова везут его назад со станции на тягачах по грязище!..
Мидии мидиями, а бутерброды, видно, лучше. Тоня и Виталий заодно берутся и за них, а подкрепившись, плывут осматривать Сухомлинов причал и рыбацкую пустую хату, в которой осенью рыбаки ночуют, укрываются от непогоды, а сейчас на их нарах пылищи в палец. В углу, кучей — изодранные рыбацкие сети, на столе — от Сухомлина объедки, все настежь, все открыто, и Виталий тут чувствует себя почти хозяином, — ведь дядько Сухомлин его родич по отцовской линии, и хлопец постоянно поддерживает с ним контакт. Весной, вооружившись паяльной лампой, он помогал здесь дядьке смолить лодки, конопатил, трудился от души, за что и получил от Сухомлина разрешение пользоваться его флотом.
— Интересно, сколько будет от нас до того дредноута? — спрашивает Тоня, заглядевшись на судно, замершее вдали, посреди залива.
Виталий сдерживает покровительственную улыбку. Для Тони это пока тайна, загадка, а он уже побывал там, одним из первых ходил на судно рубить свинец и добывать разные радиомелочи.
— Хочешь, Тоня, махнем туда?
Тоню это, видно, заинтересовало.
— Но ведь туда, пожалуй, далеко? Сколько будет километров?
— На километры не знаю, а на мили… миль десять будет.
Девушка колеблется, но по всему видно, что ей очень хочется взглянуть на эту диковину вблизи.
— А лодку так, не спросясь… Сухомлин ругать будет, — говорит она неуверенно, уже бредя вслед за Виталиком к лодке, что легко лежит на воде, искрится смолою.
— Об этом не беспокойся, — утешает Виталий. — «Мой дядя самых честных правил…» Он сейчас далеко отсюда, если не на крестинах, так на именинах, и, наверно, вернется не скоро. А к тому же у нас с ним как при коммунизме: твое — мое, мое — твое… Лодка эта ведь из ничего сделана. Заброшена уже была, рассохлась совсем. Скелет мертвый лежал в кучегурах, а мы с хлопцами взялись, вдохнули в него живую душу — и видишь, какой получился фрегат! Узлов семь дает!
И хотя Тоня понятия не имеет об узлах, однако именно эти узлы почему-то убеждают ее окончательно, и она решительно говорит:
— Ладно. Плывем!
И вот они в лодке.
— Покидаем берег планеты, — берясь за весла, говорит Виталик, и эти в шутку брошенные слова долго звучат в ушах Тони, что неотрывно смотрит, как отдаляется берег.
— Виталик, а как же мотоцикл?
— Я его там прикрыл в чулане старыми сетками. Сто лет пролежит!
Виталий работает на совесть, его ребра ходуном ходят, уключины ритмично поскрипывают, а Тоня сидит на носу, обсыхает, подставив солнцу свои загорелые открытые плечи. Удаляется берег, его все больше можно охватить взором. Прощай, берег! Шире и шире открывается глазам побережье с безлюдными песчаными буграми, чабанскими пастбищами, далекими совхозными полями. Нигде ни деревца. Центральную усадьбу отсюда не видно, лишь рыбацкая, исхлестанная ветрами хата блестит, черепица на ней словно струится в мареве, раскаленные песчаные бугры-кучегуры облегли ее, будто аллигаторы, будто твари какие-то палеозойские, что, дремля, подставили солнцу свои желто-бурые спины. А Сухомлинова священная корова до сих пор стоит в воде, только уже стала маленькой и делается все меньше, теряет свою красностепную масть. Виталий то и дело посматривает на далекое судно, чтобы держать курс прямо на него. Он уже обливается потом, утирается щекой о плечо и снова гребет. Тоню даже жалость берет, что он так старается, а его еще и слепни жалят, и она пробует отгонять их; эти слепни да серые степные мухи с чабанских кошар тоже плывут вместе с ними, плывут из степей в голубеющую неизвестность.
— Может, сменить тебя, Виталик?
— Сиди, — отвечает он. — Я угощаю.
Тоню захватывает эта таинственность, эта, можно сказать, поэзия таинственности, в которую они погружаются. Большая вода, сплошная голубизна уже окружает их. Нежно-лазурная шелковистость небес и густо насыщенное синью, почти черное пространство моря — таков их мир, среди которого им слышен лишь плеск волны да ритмичное поскрипывание уключин.
Море, что сперва прозрачно просвечивало до самого дна и было веселым, синим, дальше от берега словно бы темнеет, тяжелеет, становится и впрямь черным, — можно понять, почему его так назвали. И волны, всюду волны, волны… У берега их почти не было, а здесь ими все море сверкает, переливается, и лишь кое-где над их темной синевой чайка ослепительно блеснет в воздухе или появится между волнами одинокий нырок, выставит черную головку и нырнет снова, исчезнет, словно его и не было. Берег отдаляется. Уже еле белеет черепицей рыбацкая хата, их береговой ориентир. Хата словно погрузилась в землю — ее черепица теперь лежит прямо на самой поверхности моря, на самой линии горизонта. Даже малость страшновато становится Тоне, что их уже отделяет от берега такое расстояние. А судно словно бы и не приближается. Тяжелая его громада, как и раньше, далеко темнеет в неподвижности среди густой сапфировой синевы.
— Моторкой мы бы до него быстро добрались, — говорит Виталий, словно оправдываясь.
Сорвался ветерок. Виталий сложил весла, взял на дне лодки кусок какого-то испачканного в мазуте брезента, развернул, и эта тряпка вдруг стала парусом.
— Жми, дуй, товарищ бриз! — сурово приговаривает Виталий, натягивая, направляя парус.
Видно, и ему немного не по себе, что они так далеко зашли в море, но он старается ничем не показать этого, и его самообладание успокаивает Тоню.
— С берега казалось, будто совсем близко, — говорит она, — а тут вот плывем, пожалуй, больше часа, а судно еще где.
Хлопец кивает на парус.
— С этим быстро до него добежим.
Соломенный чуб спадает хлопцу на лоб, а глаза из-под него все время зорко глядят вперед, чтоб не сбиться с курса, не отклониться от судна в сторону.
Степь уже еле виднеется. Парусишко у них такой маленький, что даже если бы кто и был в это время на берегу, то вряд ли заметил бы их оттуда.
— Домой нам, Виталик, придется против ветра?
— Об этом не беспокойся. Домой парус моряка сам несет!
Он шутит, но без улыбки. Неужели и ему чуть-чуть страшновато, тревожно? Еще бы! Темная мерцающая стихия простирается вокруг. Должно быть, небо в космосе такое же темное, неприветливое и есть в нем что-то таинственно-грозное. Темный морской простор вокруг, и только солнце высокое, в зените, жарит их и здесь, льется на плечи девушки, на голые Виталиковы ребра, на густую темно-синюю гладь.
Судно, однако, все же приближается. Серая железная громада его низко, грузно сидит на воде, осев почти по ватерлинию. В небе вырисовывается легкая ажурная мачта, склонившаяся, как после урагана. С высоты мачты свисает какой-то оборванный трос, болтается в воздухе.
Уже и Виталий и Тоня не сводят с судна глаз. Для Тони оно полно таинственности. Все оно — недоступность и запрет. Вот на борту на грязно-сером фоне виднеется белый знак, какие-то буквы и цифра 18… И это как шифр, как тайна неразгаданная, известная немногим. Уже подплыв почти к борту, они внезапно услышали шум крыльев, птицу откуда-то вспугнули. Ворона! Одинокая черная ворона замахала в воздухе крыльями, несколько раз крикнула голосом бюрократа, кружась над своим железным гнездовьем. И откуда она здесь взялась?
Виталий и Тоня, одевшись, приумолкшие, внутренне напряженные, плывут уже вдоль борта судна. Ощущение незаконности, недозволенности своего поступка все время не покидает их. Все здесь грозное, хмурое, от всего веет запустением.
Море где-то уже близко, но его не видно из-за песчаных кучегур. Из степи было видно, а теперь синева морская исчезла за сыпучими барханами, за молочаем да чертополохом, какие только и растут в этих пустынных местах. Сверкающей россыпью искрится песок, желтеет молочай, огромный чертополох ветвисто раскинулся на холме, словно колючий кактус где-то на меже мексиканской пустыни. В таких местах мотоцикл приходится перетаскивать. Виталий ведет. Тоня подталкивает. И как только хлопец снова заводит мотор, Тоня уже взбирается на свое место, распущенные волосы опять развеваются на ветру, и Тоне смешно от полета, от лихости, оттого, что ветер щекочет, обнажая колени, смешно, что видит она все время перед собой тонкую, еще совсем мальчишечью шею Виталика с глубокой ямкой, какие бывают только у лгунишек. Он не такой, а ямка на затылке вроде гнездышка, хоть перепелиное яйцо клади. Зато такого мотоциклиста поискать! Впервые ощущает Тоня такую скорость, такую бурную езду с препятствиями, но ей нисколечко не страшно — никакого несчастья не может быть, когда такой водитель сидит за рулем!
Будто чувствуя ее одобрение, Виталик берет еще один песчаный барьер, дает скорость, чтоб вираж получился на славу, и — уже есть такой вираж — и тогда еще крепче обнимают его ласковые девичьи руки, и он совсем хмелеет от счастья.
Рывок — прыжок — вираж через последний песчаный холм, и вот вам море, вот вам его синева, тихая, беспредельная…
Один-одинешенек среди морской равнины высится истуканом вдали крейсер, и, кроме него, нигде ни паруса, ни катерка. Побережье тоже пустынно, безлюдно. Тоня впервые здесь, среди этих холмов. Бывала на море не раз, но там, где оно ближе подходит к совхозу, а не в этих барханах, куда и отары отца нечасто, видать, забредают.
Ленивый плеск волн… Сухая морская трава чернеет, шелестит под ногами; кое-где рыба в ней смердит, разбухнув. Даже Виталика немного оторопь взяла: ни живой души вокруг. Слепящие остекленевшие просторы. Дрёма во всем. Вдали на берегу белеет одинокая рыбацкая хатенка, где ночует рыболовецкая бригада в сезон лова, но сейчас и там никого не видно. Даже дядько Сухомлин, что неделями бездельничает здесь, стережет рыбацкое жилье, сейчас не вышел навстречу в своей измятой шляпе и брюках с одной подвернутой штаниной, не вышел, не остановился, всматриваясь, кто прибыл, кто нарушил эту благодатную тишину и покой… Да разве же не удивительна их Земля — планета, на которой есть где-то и города многомиллионные с университетами, с небоскребами, с подземными дворцами метро и спортивными аренами, на которых неистовствуют десятки тысяч болельщиков, и в то же время есть такой тихий берег, где дремлет под черепичным козырьком одинокая рыбацкая хатенка, первозданно синеют просторы моря, и чайка сидя спит у воды, белая, неподвижная, будто из алебастра.
А впрочем, есть здесь еще одно живое существо: корова, принадлежащая дядьке Сухомлину, красавица красностепной породы, забредя далеко от берега, неподвижно стоит средь чистой морской синевы. Жара, видно, загнала ее туда, и она стоит себе, прохлаждается в воде по брюхо, стоит, как индийское божество, только хвостом время от времени обмахивается, обмахивается совсем по-нашему!
Корова с любопытством поглядывает с моря на прибывших.
— Она словно хочет нам что-то сказать, Виталик!
— Вполне возможно. Что хочешь ты нам сказать, о добрая корова? Ага! Она говорит, что море здесь — чудо! Прямо как в тропиках. Только нет в нем коралловых рифов!
— И еще что?
— И что дядько Сухомлин отправился на воскресенье в Рыбальское. И что мы здесь с тобой одни! Можем делать что пожелаем! Свистеть, петь!
И хлопец запевает во всю глотку: «Степь и степь одна без краю, аж до моря берегов!..»
Тоня от души хохочет: ей очень нравится, когда он начинает вот так дурачиться.
— Эта корова так смотрит, будто и вправду узнала тебя!
— Еще бы! Индийская священная тварь, она сразу догадалась, кто перед нею! Перед нею йог! Тот, что умеет стоять на руках и на голове! Глубокоуважаемая корова, прошу вашего внимания!
И уже хлопец стоит на голове, уже на руках идет вдоль берега — пятками в небо, лицом вниз, — а Тоня, заливаясь смехом, медленно ступает следом по мягкой морской траве, ведет мотоцикл.
— Хватит, хватит! — наконец, смилостивившись, говорит она; и только после этого юный йог, упруго перевернувшись, становится на ноги, с лицом, густо налившимся кровью.
— Купаемся! — говорит Тоня и первой начинает раздеваться.
— Я сейчас! — вскочив на мотоцикл, Виталик понесся вдоль берега к рыбацкой хате.
И вскоре Тоня видит уже, как он по-хозяйски ходит по двору, обследует Сухомлиново кочевье. Потом принимается сталкивать на воду один из баркасиков, что чернели, вытянутые на берег.
К ней Виталик подплыл уже на том баркасике. Подплыв, посмотрел на Тоню — и оторопел. Никогда он еще не видел ее раздетой. В одном купальнике стояла, красуясь на весь берег открытым девичьим телом, стройным, загорелым. Даже боязно парню стало, что она такая красивая. Неужели это он, шкет, целовал ее? Перед ним стояла, улыбаясь, будто незнакомая, совсем взрослая девушка, а он переднею ежился на лодке в своих трусишках, как мальчонка, растерянный, пораженный блеском ее обнаженных плеч, обнаженных ног, стройного девичьего стана. Застеснявшись, он беспорядочно налегал на весла, вертел лодку на месте, а Тоня, наоборот, чувствовала себя совсем свободно, стояла и закручивала перед купанием волосы узлом, радостно осматривая это синее раздолье.
— Вот куда бы пионерлагерь!
Закрутив волосы, бросилась в воду, широким шагом побежала по ней дальше от берега, на глубину. Виталий, радостно взвизгнув, выпрыгнул из лодки, ринулся вслед за Тоней, догнал, и они стали брызгаться, бороться. Тоня, поймав его, попыталась силой окунуть, как малыша, который не хочет купаться, а он, вырвавшись, старался ответить ей тем же, но здесь было мелко, — они кинулись взапуски дальше в море, и Виталий, подпрыгивая, радостно вопил:
— Глубины! Глубины! О море, дай нам глубины!
А через некоторое время они уже лежат навзничь на воде, успокоенные. Тоня брызгает водой вверх, и оттуда, с синего неба, летят белоснежные жемчуга, настоящие жемчуга, блестящие, сверкающие, как те, что достают мальчишки в тропических водах с морского дна. Хотел бы и он, Виталий, что-нибудь такое Тоне раздобыть, чтоб поразить ее, чтоб ахнула она от восторга. Только что ж он ей здесь раздобудет?
— Тоня, хочешь… мидий? У меня есть в лодке.
Вскоре они уже возле лодки. Постукивая, как орехами, хлопец насыпает из банки перед Тоней мидий, видно захваченных в Сухомлиновой хате, сам их вылущивает и подает девушке. Подает чуть-чуть небрежно, чтоб не зазнавалась, не подумала, что он так уж рассыпается перед ней да прислуживает. А Тоня и сама умеет вылущивать, и какую вылущит, сразу подает Виталику. Ей нравится эта женская роль: готовить и подавать.
Корова смотрит на них, не сводит глаз.
— Виталик, может, и она проголодалась?
— Пускай пасется, море велико.
— Да, бывает такое, что подножный корм хоть в море ищи.
— А знаешь, сколько пропадает в море такого корма, что скотина облизывалась бы? Про филофору слыхала? Это те красные водоросли, которых полным-полно в лиманах. Доказано, что мука филофоры повышает удои.
— Дядько Сухомлин своей нетелью доказал?
— Наука доказала.
— Что же, нужно будет это добро и на наших фермах испытать. А еще лучше, если бы тот, кто хочет пить молоко, оставлял бы фуражу, — сказала Тоня, и в голосе ее появилась отцовская резкость. — А то летом фураж весь под метелку выметут, а весной, когда скотина дохнет, снова везут его назад со станции на тягачах по грязище!..
Мидии мидиями, а бутерброды, видно, лучше. Тоня и Виталий заодно берутся и за них, а подкрепившись, плывут осматривать Сухомлинов причал и рыбацкую пустую хату, в которой осенью рыбаки ночуют, укрываются от непогоды, а сейчас на их нарах пылищи в палец. В углу, кучей — изодранные рыбацкие сети, на столе — от Сухомлина объедки, все настежь, все открыто, и Виталий тут чувствует себя почти хозяином, — ведь дядько Сухомлин его родич по отцовской линии, и хлопец постоянно поддерживает с ним контакт. Весной, вооружившись паяльной лампой, он помогал здесь дядьке смолить лодки, конопатил, трудился от души, за что и получил от Сухомлина разрешение пользоваться его флотом.
— Интересно, сколько будет от нас до того дредноута? — спрашивает Тоня, заглядевшись на судно, замершее вдали, посреди залива.
Виталий сдерживает покровительственную улыбку. Для Тони это пока тайна, загадка, а он уже побывал там, одним из первых ходил на судно рубить свинец и добывать разные радиомелочи.
— Хочешь, Тоня, махнем туда?
Тоню это, видно, заинтересовало.
— Но ведь туда, пожалуй, далеко? Сколько будет километров?
— На километры не знаю, а на мили… миль десять будет.
Девушка колеблется, но по всему видно, что ей очень хочется взглянуть на эту диковину вблизи.
— А лодку так, не спросясь… Сухомлин ругать будет, — говорит она неуверенно, уже бредя вслед за Виталиком к лодке, что легко лежит на воде, искрится смолою.
— Об этом не беспокойся, — утешает Виталий. — «Мой дядя самых честных правил…» Он сейчас далеко отсюда, если не на крестинах, так на именинах, и, наверно, вернется не скоро. А к тому же у нас с ним как при коммунизме: твое — мое, мое — твое… Лодка эта ведь из ничего сделана. Заброшена уже была, рассохлась совсем. Скелет мертвый лежал в кучегурах, а мы с хлопцами взялись, вдохнули в него живую душу — и видишь, какой получился фрегат! Узлов семь дает!
И хотя Тоня понятия не имеет об узлах, однако именно эти узлы почему-то убеждают ее окончательно, и она решительно говорит:
— Ладно. Плывем!
И вот они в лодке.
— Покидаем берег планеты, — берясь за весла, говорит Виталик, и эти в шутку брошенные слова долго звучат в ушах Тони, что неотрывно смотрит, как отдаляется берег.
— Виталик, а как же мотоцикл?
— Я его там прикрыл в чулане старыми сетками. Сто лет пролежит!
Виталий работает на совесть, его ребра ходуном ходят, уключины ритмично поскрипывают, а Тоня сидит на носу, обсыхает, подставив солнцу свои загорелые открытые плечи. Удаляется берег, его все больше можно охватить взором. Прощай, берег! Шире и шире открывается глазам побережье с безлюдными песчаными буграми, чабанскими пастбищами, далекими совхозными полями. Нигде ни деревца. Центральную усадьбу отсюда не видно, лишь рыбацкая, исхлестанная ветрами хата блестит, черепица на ней словно струится в мареве, раскаленные песчаные бугры-кучегуры облегли ее, будто аллигаторы, будто твари какие-то палеозойские, что, дремля, подставили солнцу свои желто-бурые спины. А Сухомлинова священная корова до сих пор стоит в воде, только уже стала маленькой и делается все меньше, теряет свою красностепную масть. Виталий то и дело посматривает на далекое судно, чтобы держать курс прямо на него. Он уже обливается потом, утирается щекой о плечо и снова гребет. Тоню даже жалость берет, что он так старается, а его еще и слепни жалят, и она пробует отгонять их; эти слепни да серые степные мухи с чабанских кошар тоже плывут вместе с ними, плывут из степей в голубеющую неизвестность.
— Может, сменить тебя, Виталик?
— Сиди, — отвечает он. — Я угощаю.
Тоню захватывает эта таинственность, эта, можно сказать, поэзия таинственности, в которую они погружаются. Большая вода, сплошная голубизна уже окружает их. Нежно-лазурная шелковистость небес и густо насыщенное синью, почти черное пространство моря — таков их мир, среди которого им слышен лишь плеск волны да ритмичное поскрипывание уключин.
Море, что сперва прозрачно просвечивало до самого дна и было веселым, синим, дальше от берега словно бы темнеет, тяжелеет, становится и впрямь черным, — можно понять, почему его так назвали. И волны, всюду волны, волны… У берега их почти не было, а здесь ими все море сверкает, переливается, и лишь кое-где над их темной синевой чайка ослепительно блеснет в воздухе или появится между волнами одинокий нырок, выставит черную головку и нырнет снова, исчезнет, словно его и не было. Берег отдаляется. Уже еле белеет черепицей рыбацкая хата, их береговой ориентир. Хата словно погрузилась в землю — ее черепица теперь лежит прямо на самой поверхности моря, на самой линии горизонта. Даже малость страшновато становится Тоне, что их уже отделяет от берега такое расстояние. А судно словно бы и не приближается. Тяжелая его громада, как и раньше, далеко темнеет в неподвижности среди густой сапфировой синевы.
— Моторкой мы бы до него быстро добрались, — говорит Виталий, словно оправдываясь.
Сорвался ветерок. Виталий сложил весла, взял на дне лодки кусок какого-то испачканного в мазуте брезента, развернул, и эта тряпка вдруг стала парусом.
— Жми, дуй, товарищ бриз! — сурово приговаривает Виталий, натягивая, направляя парус.
Видно, и ему немного не по себе, что они так далеко зашли в море, но он старается ничем не показать этого, и его самообладание успокаивает Тоню.
— С берега казалось, будто совсем близко, — говорит она, — а тут вот плывем, пожалуй, больше часа, а судно еще где.
Хлопец кивает на парус.
— С этим быстро до него добежим.
Соломенный чуб спадает хлопцу на лоб, а глаза из-под него все время зорко глядят вперед, чтоб не сбиться с курса, не отклониться от судна в сторону.
Степь уже еле виднеется. Парусишко у них такой маленький, что даже если бы кто и был в это время на берегу, то вряд ли заметил бы их оттуда.
— Домой нам, Виталик, придется против ветра?
— Об этом не беспокойся. Домой парус моряка сам несет!
Он шутит, но без улыбки. Неужели и ему чуть-чуть страшновато, тревожно? Еще бы! Темная мерцающая стихия простирается вокруг. Должно быть, небо в космосе такое же темное, неприветливое и есть в нем что-то таинственно-грозное. Темный морской простор вокруг, и только солнце высокое, в зените, жарит их и здесь, льется на плечи девушки, на голые Виталиковы ребра, на густую темно-синюю гладь.
Судно, однако, все же приближается. Серая железная громада его низко, грузно сидит на воде, осев почти по ватерлинию. В небе вырисовывается легкая ажурная мачта, склонившаяся, как после урагана. С высоты мачты свисает какой-то оборванный трос, болтается в воздухе.
Уже и Виталий и Тоня не сводят с судна глаз. Для Тони оно полно таинственности. Все оно — недоступность и запрет. Вот на борту на грязно-сером фоне виднеется белый знак, какие-то буквы и цифра 18… И это как шифр, как тайна неразгаданная, известная немногим. Уже подплыв почти к борту, они внезапно услышали шум крыльев, птицу откуда-то вспугнули. Ворона! Одинокая черная ворона замахала в воздухе крыльями, несколько раз крикнула голосом бюрократа, кружась над своим железным гнездовьем. И откуда она здесь взялась?
Виталий и Тоня, одевшись, приумолкшие, внутренне напряженные, плывут уже вдоль борта судна. Ощущение незаконности, недозволенности своего поступка все время не покидает их. Все здесь грозное, хмурое, от всего веет запустением.
 Потрескавшаяся, облезлая краска бортов. Ржавчина… Иллюминаторы затянуты паутиной.
В одном месте Виталий, вплотную пристав к борту и взяв эту громадину на абордаж, велел Тоне карабкаться вверх, на палубу. Она мгновение раздумывала, потом крепко схватилась рукой за горячий, накаленный солнцем иллюминатор — этот тоже был затянут паутиной, — а дальше помогли ей какие-то ржавые, невыносимо раскаленные скобы, и не успел Виталик дать ей совет, как она была уже на палубе.
Железо палубы огнем обожгло ей босые ноги.
— Печет, ой, печет! — приплясывая, крикнула она вниз Виталию. — Брось мне босоножки. Быстрее!
Хлопец как раз складывал парус и закреплял лодку, но Тоня этого не видела, ей было невтерпеж.
— Ну что ты там возишься? Бросай! Я тут как на сковородке!
В ответ на ее слова полетела на палубу одна босоножка, потом другая, а вскоре появилась из-за борта и солома такого родного чубчика, и худенькие плечи в одной майке; с появлением Виталика Тоне стало сразу веселее. Острое, нервно-возбужденное чувство охватило ее. Хотелось смеяться, кричать, взвизгнуть так, чтобы все услышали! Шутка ли — крейсер принадлежит им! Двое их, двое влюбленных на большом военном судне. Никогда, конечно же, не было на этом военном судне влюбленной пары, чтоб вот так — он и она. Звучали здесь суровые команды, приказы, радиопозывные, номера, шифры — все служебное, суровое, властное. А теперь им покорилась эта тысячетонная стальная громада, на стальной раскаленной арене могучих рыже-ржавых палуб господствуют их смех, их любовь!
— Подумать только, куда мы с тобой забрались, — сказала Тоня радостно-дрожащим голосом. — Настоящий крейсер!
— Даже если это эсминец, — скупо улыбнулся Виталик, — то и тогда ты не должна разочароваться… Гора. Железный Арарат среди моря!
Вода была где-то далеко внизу, и лодчонка покачивалась такая махонькая, а судно возвышалось над морем и впрямь как гора, стальная скала, их железный остров.
— Какое же огромное!
Тоня была сама не своя от волнения. Ее охватило лихорадочное возбуждение, девушка не могла подавить дрожь, нервно-радостный трепет: вот куда они с Виталиком забрались, одни-единственные, как робинзоны, очутились на этом необитаемом острове, где их окружают причудливые железные скалы, лабиринты!.. И Виталик тоже заметно взволнован, голос его немножко даже срывается, когда он что-нибудь объясняет Тоне.
Трещит под ногами средь ржавчины что-то белое, блестящее.
— Смотри, Виталик, — бросается на блестки Тоня, — какая-то стеклянная шерсть!
— Не шерсть это.
— А что же?
— Стекловата… Изоляционный материал. Видишь, из распоротых обшивок вылезает.
— Какое белое да красивое!
Она берет пучочек этого удивительного материала в руки, но Виталик предостерегает:
— Не бери!
— Почему?
— Руки потом долго щемить будет… В тело въедается… А изоляция из него надежная… Эта стекловата и в огне не горит.
— Нет, немножечко я обязательно возьму, в лагере моим малышам покажу. — И Тоня, как перо из подушки, живо выдергивает из распоротой обшивки стекловату, совсем чистую, белую, как первый снег.
То тут, то там палуба вздулась опухолями, видны на ней пробоины, какие-то дырки, люки, зияющие провалы… Белеет рассыпанная известь, крошки цемента.
— Что это за дырки, Виталик?
— Да это так…
Он почему-то мнется, чего-то недосказывает. Берет щепотку цемента и зачем-то нюхает.
Потом, держа друг друга за руки, они заглядывают в пробоины, в жуткую глубину темных трюмов, где вода блестит маслянисто. Чувствуется, что тяжелая она там, застоявшаяся, с нефтью или соляркой.
— А рельсы для чего здесь?
— Наверно, по ним торпеды подвозили на вагонетках. Видишь, вон рамы на корме? Не иначе торпеды с них запускали… Это вот лебедка… Брандшпиль… А это вот круг для пушки. — Они, все еще держась за руки, рассматривают круг, массивный, металлический. — Пушка, видно, могла поворачиваться в гнезде на триста шестьдесят градусов, во все концы неба, — объясняет Виталик, и они невольно оба посмотрели в небо, где уже ворона не каркает, а только светится чистая голубизна зенита да солнце, какое-то непривычное, космическое, ослепительно пылает.
Идут, неторопливо осматривают кубрики, эти горячие металлические клетки, в которых когда-то жили люди, жили, как в сейфах. Железо и железо. Покореженные трубы, обрезанные провода, железный хаос. Виталий первым вторгается в этот хаос, где по трапам, а где и без трапов, перелезает все выше и выше с одной палубы на другую, а Тоня неотступно пробирается за ним, стараясь, подобно послушной альпинистке, точно повторять каждое его движение. Хлопец время от времени предостерегает: здесь осмотрительность прежде всего, здесь легко сорваться.
— Как высоко забрались мы! — Голос девушки чуточку даже трепещет. — Глянь, где вода!
— Далеко.
Рубка радиста — одни корешки там, где было множество проводов: все провода обрезаны под корень.
— И я здесь тоже поживился, — улыбается Виталий.
Тоня уже дует на руки, их в самом деле начинает щемить от изоляционного стекла, которое и здесь, на палубе, всюду валяется кучами, а в салоне прямо за шею сыплется из прорванной обшивки. Это же здесь, в салоне, сидели командиры, беседовали, что-то решали… Все порвано, порублено, ободрано.
Тоня до сих пор не может как следует понять, что же произошло с этим судном, почему оно, собственно, здесь? Село на мель? Но ведь здесь же глубина какая! Зачем-то моряки привели его, бросили в заливе и ушли, возбудив любопытство степных искателей приключений. Не только такие, как Виталик, заскакивали сюда, но и серьезные люди — механизаторы, председатели колхозов. Говорят, друг перед дружкой спешили раздеть этот стальной великан, тащили отсюда разное оборудование, трубы, а кое-кому будто бы достались даже вполне исправные электромоторы. Дух запустения царит теперь всюду, пауки затянули паутиной все судно — и откуда их столько набралось, как залетели они со степных просторов в такую даль на тонких своих паутинках?
Судну, кажется, не будет конца. Не с берега, только здесь можно понять, как огромен корабль. Идешь сквозь его железные буреломы, то спускаешься, то поднимаешься («Это снова орудийные отсеки… А это шлюпбалки!»), попадаешь в какие-то глухие закутки, железные закоулки, в полутьму; а то снова перед тобой горит на солнце ржавая стальная стена, какой-нибудь камбуз, или клюз, или отсек, среди которых только Виталик и может ориентироваться. Здесь нужно смотреть в оба, чтобы не оступиться и не сорваться в ту железную пропасть, где в пятнах нефти или солярки лоснится застоявшаяся грязная вода. Железные колодцы мертвы, недвижны, а за бортом море мерцает неспокойно волнами, хлюп да хлюп… Снова лабиринт, какой-то рваный металл (видно, вырезал кто-то лист алюминия), и вдруг из полумрака надпись: «…затопление открывать только при фактическом пожаре». Что это значит? Как это понимать? Таинственно, будто иероглифы! А кто-то писал все это, а кого-то все это касалось, для кого-то надпись, наверное, имела огромное значение. А тут что такое? «Боевой четыре»… Вся она, эта ржавая стальная гора, полна загадок, тайн, условных знаков, которых даже и Виталику не разгадать.
— Будет ли ему когда-нибудь конец? — спрашивает Тоня, наталкиваясь снова на невод паутины, обходя в полутьме какие-то железные предметы.
— А мы еще и половины не прошли, — говорит Виталий и выводит Тоню из темного закоулка на свет, показывает вверх на мачту: — Хороша антенка? Вот эта бы ловила, правда?
Самим своим видом эта корабельная мачта способна вызвать в душе волнение. Манит простором океанов, гудит бурями далеких широт… С мачты свисают обрывки тросов, каких-то проводов, их никто уже, видно, не смог достать, а еще выше…
— Виталик, что это за скворечник вон там, на самой верхушке?
— Там стоял сигналист. Впередсмотрящий…
— Ого-го! Как же он туда взбирался?
— А очень просто…
Не успела Тоня опомниться, как Виталий, оставив ее, уже покарабкался вверх и вверх по крутой, отвесной мачте, по обломкам трапа на ней. У Тони замирало сердце: как бы не сорвался, а он, по-обезьяньи цепкий, взбирался все выше, пока, достигнув цели, не выпрямился на мачте, на недосягаемой для Тони высоте, где-то под самым небом! Ветер качал уже ниже его обрывок стального троса, а хлопец стоял и улыбался, улыбался и оттуда Тоне: вот, мол, где я, твой впередсмотрящий!..
И вдруг Виталий застыл, напряженно всматриваясь куда-то в море, и Тоне показалось, что он побледнел, что на его лице отразился ужас. Тоня тоже взглянула в ту сторону и средь темноты неугомонных волн увидела маленькую черную лодочку. Кто-то плывет! Кто-то подплывает к ним! Она даже хотела крикнуть Виталику: «Кто это плывет к нам?», но в лодчонке… никого не было!!! Черная молния ударила в мозг, потрясла страшной догадкой… В первый миг Тоня не узнала ее без паруса, какой-то даже неуместной показалась среди волн — без живой души! — маленькая, смолисто-черная посудина, а это же была их лодка, их баркасик, дуновением ветра его теперь тихо, едва заметно, однако бесповоротно отгоняло в море. Дальше и дальше от них — в открытое море!..
Повечерело, звезды проступили на небе, а где-то в степи тоже, как звезды, вспыхнули сквозь мглу огоньки: это их Центральная, которую днем отсюда почти не было видно, засверкала электрическими огнями. Теперь еще ощутимее стало, как далеко они от степи, какая непреодолимая даль воды и темноты отделяет их от берега, от всей предыдущей жизни. Еле-еле светятся из мглы степной далекие звезды…
А они сидят, словно сироты, пригорюнились у боевой рубки, им холодно — железо судна после дневной жары удивительно быстро охладилось. Тоня, наплакавшись, склонилась головой Виталику на колени и, кажется, уснула, измученная переживаниями, а Виталий не отрывает глаз от берега, пытаясь разобраться во всем, что случилось. Он, он виноват во всем! И нет тебе оправданий, не ищи их! Подбил, заманил Тоню. Она так безоглядно пошла за тобой со своей любовью, доверилась, а ты… Куда завел ее? В западню, в смертельную западню завел, не сказав девушке всей правды, не предупредив, что ее здесь ждет. А ждут ее здесь не только голод и жажда… Конечно, он готов ради Тони на подвиг, на самопожертвование, но при таких обстоятельствах даже это ни к чему — кому здесь нужно твое самопожертвование? Твоя вина перед нею безгранична, и, хотя Тоня это понимает, с губ ее не сорвалось ни единого слова упрека. Она и сейчас доверчиво льнет к тебе со своей любовью, слезами, нежностью. А ты, который должен быть сильнее ее, проявить мужество и находчивость, не в состоянии теперь ничего сделать. Может, все-таки нужно было прыгнуть за борт и вплавь догонять лодку? Но когда он, едва не сорвавшись, в один миг скатился с мачты и бросился к борту, сама же Тоня схватила его за руку:
— Не смей! Уже не догнать! Утонешь!
В самом деле, тут и разрядник по плаванию вряд ли догнал бы… Лишь немного погодя она спросила жалобно:
— Что же это ты, Виталик? Почему же ты не привязал?
Он что-то лепетал ей в оправдание, привязывал, мол, набросил конец веревки петлей на какой-то крюк, не сказал Тоне лишь о том, что, когда делал это, его внимание отвлекли как раз ее босоножки, которые нужно было бросить ей на палубу.
Спасительная лодочка, собственноручно проконопаченная, просмоленная при помощи паяльной лампы, пошла и пошла теперь в морские просторы, гуляет где-то, как запорожская байда. Может, в далеких Дарданеллах перехватят твою малую байду. Перехватят, а она пустая, нет в ней никого, только мальчишечья рубашка-безрукавка да авоська с остатками завернутых в газету бутербродов.
Невероятно все это. И странно — у него такое впечатление, будто какая-то злая фатальная сила толкнула его сюда и словно бы вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к тому, чтобы совершить этот ужасный шаг… Бывает же так, что человека тянет, настойчиво тянет куда-то — вот так и его тянуло с того момента, как он увидел из степи это боевое судно, которое, словно сама его мечта, силуэтом застыло на горизонте. Говорят, есть люди, которым трудно преодолеть в себе желание броситься с высоты — бездна влечет их, заманивает, зовет испытать неизведанное. И кто знает, не возникает ли подчас подобное влечение, подобный толчок в сознании того, кто имеет доступ к самой страшной кнопке, о которой часто разглагольствует Гриня Мамайчук? Кто исследовал те глубочайшие, первобытно-темные недра психики, где, возможно, как раз и зарождаются вулканы человеческих поступков? Так ли уж далек от истины тот же Гриня, когда твердит, что пороки людской природы вечны, что мы в самом деле греховны от рождения и каждый на себе несет печать греха? Когда-то, на заре жизни, греховное искушение будто бы погубило легендарных Адама и Еву. Пусть это выдумка, пусть Виталий во все это не верит, но опять-таки разве только озорством, легкомысленным своим мальчишеством объяснит он и свой сегодняшний поступок? Разве же Тоня, его умная, трезвая, практичная Тоня, села бы с ним в лодку, если бы и ее не толкал тот дьявол искушения, желание коснуться чего-то запретного, изведать неизведанное? Или, может, в этом именно есть сила человека, его дар? Может, без этого не знал бы он выхода в океан, в космос и никогда ничего не открыл бы?
Тоня нервно вздрагивает в дремоте, будто и сейчас ее сотрясает внутренний невыплаканный плач.
Меньше стало огней на Центральной, — видно, понемногу уже укладывается спать совхозная столица, ведь завтра рано начнет она свой трудовой день.
Мелькнул над степью веер света, перемещаясь в пространстве, — то ли кинопередвижка помчалась из отделения после сеанса, то ли, может, мать с рабочими возвращается из «Чабана» после проверки соцсоревнования? При одном воспоминании о матери душа Виталика наливается болью. Придет она домой, а сына нет, и завтра не будет и, может, уже не будет никогда! Как непростительно виноват он перед нею! Как будет убиваться она по сыну! Воображение рисует ее разбитой горем, состарившейся, одинокой… Вот как поступил с нею он, ее надежда, ее опора! Будут розыски, будет тревога, но кто догадается искать их здесь, на этом ржавом, ободранном судне, что маячит среди моря в качестве мишени для летчиков!
Ночь звездная, светлая, в такие ночи поет степь. Вот и сейчас с далекого берега словно бы доносится песня, нет, только чудится. Кузнечики стрекочут — нет, только обман слуха… Тень от судна темнеет на воде, а море смутным блеском мерцает без конца-краю, как некогда мерцало оно Магеллану и Васко да Гама… Просторы океанов открывались и тебе, но твое судно никогда отсюда не поплывет, на мертвом якоре оно! А океан, живой вечный океан, плещет в борта, бьет в подножие этой стальной безжизненной скалы, навевает думы о власти слепых сил, о неизбежности удара, о невозможности отвратить его… Нет, так можно до сумасшествия дойти! Неужели конец? Вот так бессмысленно? Светлый, чистый океан жизни расстилался перед ними, а теперь что: океан тьмы и хаоса? Конец? Всему конец? Это полное жизни, молодости, полное огня, красоты и любви девичье тело будет медленно высушено голодом, жаждой? Нужно искать выход! Во что бы то ни стало нужно найти выход! Нужно бороться. Бороться — этому учила его мать, учили в школе, об этом слышал множество раз, об этом читал. Бороться, но как? С чем? С бессмыслицей самого положения, самого случая? Когда отец боролся на фронте, он знал, что ему нужно убить врага — с ним борись… А здесь кто твой враг? Море? Небо? Вон та звездная дорога, что над морем, над степями, над безвыходностью вашей пролегла? Все, что есть, что еще вчера было радостью, красотой, жизнью, сейчас словно бы готовит тебе муку и смерть.
Двигатели! Не сохранились ли где-нибудь в глубине судна двигатели? Нельзя ли как-нибудь их запустить, вернуть к жизни, сдвинуть всю эту махину с места? Днем он спустится и туда, в машинное отделение, все обследует, обшарит. А покамест на этом стальном гиганте бьются лишь их сердца…
В свое время и здесь, на этом судне, была жизнь, ходил на нем по морю целый коллектив людей; целый мир страстей, мыслей, мечтаний носило по волнам это судно, одетое в тяжелую непробиваемую сталь. Днем и ночью несли вахту молодые моряки на своих местах, стояли у орудий боевые расчеты, а по вечерам, быть может, именно здесь, на баке, звучала гармошка, лились задумчивые матросские песни. Много таких судов теперь списывают, режут, грузят в эшелоны и отправляют на металлургические заводы, чтобы из этого металла родились тракторы, комбайны, разные умные и красивые машины… Кое-какие мелочи и он, Виталий, успел добыть из радиорубки судна, были они ему очень кстати, когда собирал свой любительский передатчик. Сюда бы ему тот передатчик, что в щепки разлетелся, оскверненный Яцубой. Позднее сам Яцуба обратился к нему уже как представитель ДОСААФа, предложил зарегистрироваться в кружке радиолюбителей. «Тобой, говорит, и в области заинтересовались, после того как мы тебя запеленговали». Где-то там, по ту сторону роковой межи, остались его запеленгованные шалости, любимый его радиоузел, где он, уже полноправно надев наушники радиста, окунался в гомон эфира; осталась и горячая материнская любовь, и чистая Сашкова дружба… Одним необдуманным шагом он отделил себя от всего того, самое счастье свое поставил под удар. День начинался смехом, сиянием, поцелуями, все впереди предвещало только удачу, обоим радовали душу светлые просторы, солнце, синее раздолье…
А беда стряслась. Словно бы возмужавшим взглядом окидывает сейчас себя Виталий, обдумывает снова и снова, как это случилось и чем кончится. Неужели это все, что он успел в жизни? Неужели мрачное, как привидение из далекого прошлого, судно станет для них железным саркофагом? По сути, ничего еще не сделал в жизни, разве только примус кому отремонтировал да керогаз, а все те строившиеся и непостроенные твои корабли, они впереди, они начнут путешествие в будущее без тебя, а ты, дружище, в какое путешествие отправишься отсюда? «Отправитесь, отправитесь!.. — словно бы нашептывал какой-то злой голос. — И ты и твоя Тоня никогда не воскреснете, не вернетесь в ваши солнечные степи, на магистральные каналы, строящиеся в степи, на виноградники, что там зеленеют… Будут атомные эры, межпланетные полеты, дива-чудеса будут появляться на земле, но все это будет уже без вас, без вас…» О человеке говорят, что он великан, бог, гигант. И разве ж не так? Завладеет небом, станет властвовать над грозами, стихиями, все небо будет ему подвластно, с молниями, дождями, бурлением облаков! Все могучие силы природы покорятся человеческой воле, движению человеческой руки. А ты вот здесь не можешь сдвинуть с места кучу железного лома, не можешь высечь искру огня, не властен отвести удар от своей Тони.
Ему слышно, как Тоня дышит. Вот она шевельнулась.
— Звездно как. — Тоня поднялась, села, поджав ноги. — Я долго спала? Наверно, уже поздно? А руки как щемит от стекла… Почему ты молчишь?
— После того, что случилось, — сказал он глухо, — ты должна, Тоня… ты имеешь право меня возненавидеть.
— Что ты выдумываешь? — Тоня взяла его руку. — За что? Это я, глупая, тебя не удержала, сама поддалась… Тебе холодно?
Почувствовав, что хлопец дрожит в своей майке, она прижалась к нему, обняла, чтобы согреть.
— Прижимайся ко мне, прижимайся.
— Я уже думал плот связать, какой-нибудь «Кон-Тики», — полушутливо, словно бы оправдываясь, сказал Виталий. — Но здесь никакого дерева нет, одна только сталь.
— Если б хоть вода была, — молвила Тоня, помолчав. — А то и ночь холодная, а пить… просто сушит внутри. Это правда, Виталик, что человек дольше может выдержать без пищи, чем без воды?
— Мы будем пить морскую.
— Ее пить нельзя. Наш тато, когда развеселится, любит про того чумака рассказывать, что впервые у моря оказался. Воды много, распряг, пустил волов напиться, а они не пьют. «Вон ты какое! — удивленно крикнул он тогда морю. — Потому тебя так много, что никто тебя не пьет».
— А мы будем пить. Один французский врач доказал, что и морскую можно.
— У них и лягушат можно глотать, — ответила Тоня на это. — Но нам от этого не легче… Помнишь, Виталик, какую мы воду в Каховке пили, с кубинскими студентами, из ключа?
Виталик только вздохнул. Еще бы не вспомнить те ключи-источники на берегу Днепра, где было когда-то село Ключевое и где еще и по сей день сотни родников бьют с открытого берега, из-под корней верб да платанов… Уже нет Ключевого, на том месте стоит город Новая Каховка, а ключи остались, живут, бьют всюду: где с берега, где из-под корня, а где и просто — только разгреби землю руками, там уже и шевелится песок, набегает водичка! Холодная, взбаламученная она, но муть быстро оседает, и уже ты пьешь воду, такую свежую, прозрачную и чистую, что недаром о ней говорят: «Как слеза». Высятся там платаны могучие, кора на них как атлас, а из-под корней тоже пробиваются роднички, а одна струйка вытекает прямо из дупла старой вербы у самой земли и весело журчит по камешкам в Днепр… Из него, из этого ручейка, они и пили вместе с молодыми кубинцами, студентами Каховского техникума механизации сельского хозяйства. Почти ровесники Виталика, они жили и учились в Каховке. Правда, сначала непривычны были к нашему климату, всё мерзли, а потом привыкли, только в Днепре мало кто из них купался: Днепр для них был и летом холодный. В тот день они пришли проститься с Днепром перед возвращением на родину. Тоня первой заговорила с ними:
— Нравится Украина?
— О! — раздалось в ответ восторженное восклицание.
Они уже уехали домой, повезли на далекую Кубу приобретенные знания и память о Днепре, о вековых платанах каховских, из-под которых там и сейчас всюду бьют, журчат ключи и стекают, прозрачные, в Днепр…
Будто было это все на другой планете: и выпускной вечер с вручением аттестатов, и крымское путешествие, и цветущая мальвами дорога на Каховку. Был тот мир широкий, раздольный, полный надежд, полный жизни, а теперь вот брошены они на угрюмый остров обреченности, будто к галере прикованы, железной, неподвижной. А ведь все могло быть иначе, могло их и не занести сюда, да и самое это судно-лом давно могло быть распилено на куски где-то в крымской бухте под Севастополем. Видели же они там во время экскурсии огромный крейсер, который газорезчики раскраивали на отдельные глыбы, на большие, а потом на меньшие, на такие, чтобы их можно было бросить в мартен. Словно кусок мыла, так легко на их глазах резали эту броню корабельную. Мощные краны подхватывали многотонный, только что раскромсанный лом, перебрасывали на берег, — там была его уже целая заваль, — а газорезчики в защитных очках висели по бортам да делали свое; струи света от них так и брызгали, и борта перекраивались, и ватерлиния горела под струями пылающего кислорода!
— Ляг, Витальчик, поспи, — с лаской в голосе молвила Тоня своему неудачнику-мореходцу. — Может, хоть во сне что-нибудь надумаешь.
Нежное, ласковое чувство пробудилось к нему, какое, видимо, бывает у матери к ребенку, — такой он маленький сейчас и беззащитный, в одной майке. Свернулся клубочком, съежился, склонился ей на руки, и нежность к нему растет, и эта нежность согревает ее. Если б только было возможно убаюкать его, а когда проснется, уже ночи нет, и железа этого нет, и вместо моря уже степь вокруг, исполненная красоты и вольготности… Будут искать их, это наверняка, на весь совхоз поднимут тревогу, но искать будут где угодно, только не здесь. А может, кто и догадается? Ох, скучает по ней герлыга отца, уж он ей задаст, когда отыщет! Тато, видно, сейчас еще с овцами в степи, где-то ведет отару, пасет, может, даже и посматривает в эту сторону на окутанное звездной тьмою море, но и не догадывается, куда занесло его озорницу, юлу, вертихвостку. Закричать, завопить хотелось Тоне сейчас, чтобы он услышал. Теплой волной обдало Тоню при воспоминании об отце, о его запальчивой и гордой натуре. Каким веселым и бесстрашным становится он, когда выпьет рюмку, как всех критикует — не перечь тогда ему, все выскажет после долгого чабанского молчания! А в душе есть что-то поэтическое. Вспоминаются ей и песни его, и посаженные наперекор всему тополя, и эта его странная привычка надевать летную фуражку Петруся и красоваться в ней всю ночь у отары. «Тело ссыхается, а дух бунтует» — так сказала однажды о нем Демидиха, и таков он и есть, ее тато. Неужели она больше с ним не увидится, ни с мамой, ни со всей родней? Неужели не быть ей больше у костра в пионерлагере, где оставила столько друзей, веселья и развлечений? Через море брела, спешила, промокшая прибежала в сад на свидание и, выходит, спешила на свою беду… Представляет, как Лукия Назаровна, эта строгая и справедливая женщина, примчится к ним в кошару, набросится на отца: «Где дочь? Это она, сумасбродка, моего сына погубила!» А он тоже раскричится в ответ, ведь он не из тех, что терпят, когда посягают на его или дочери честь.
Будет, будет и там горя… Поехали купаться и утонули — вот что о них подумают в совхозе. Вспомнилось Тоне, как в позапрошлом году на Праздник урожая поехали коллективно с Центральной к морю купаться, поехали в Третье отделение, потому что там лучший пляж, и один молодой комбайнер, далеко заплыв, утонул. Искали его до ночи, да так и не нашли. Через несколько дней труп его уже в открытом море подобрал катер пограничников — лица нет, глаз нет — чайки выклевали, только по татуировке и опознали: «Шурко» было вытатуировано на руке.
А Виталик спит, измотанный горем, усталостью, спит у нее на коленях. Пускай отдохнет, тогда он, может, и в самом деле что-нибудь придумает. Она в него верит и сейчас не меньше, чем тогда, когда садилась в лодку. Видно, из этой веры в него, в его способности и родилось еще в школе ее чувство к Виталику. Для нее, из троек не вылезавшей, было просто непостижимым, как он быстро все схватывал, какой ум у него острый, в трудные минуты на выручку целому классу приходили его сметка, блеск мысли, его сообразительность. Она была уверена, что в будущем его ждет нечто необычайное, из таких скромников вырастают те, которые становятся потом известными, совершают большие открытия, а она вот его не уберегла. Сейчас он стал для нее еще дороже, нежность к нему росла, горячее чувство переполняло душу… Как она хотела бы сберечь его для грядущих дней, для всего того, что он мог бы совершить, изобрести, открыть! В своих мечтах видела его то в далеких океанах, то в звездном космическом пространстве, среди прокладывающих пути к другим планетам…
Потрескавшаяся, облезлая краска бортов. Ржавчина… Иллюминаторы затянуты паутиной.
В одном месте Виталий, вплотную пристав к борту и взяв эту громадину на абордаж, велел Тоне карабкаться вверх, на палубу. Она мгновение раздумывала, потом крепко схватилась рукой за горячий, накаленный солнцем иллюминатор — этот тоже был затянут паутиной, — а дальше помогли ей какие-то ржавые, невыносимо раскаленные скобы, и не успел Виталик дать ей совет, как она была уже на палубе.
Железо палубы огнем обожгло ей босые ноги.
— Печет, ой, печет! — приплясывая, крикнула она вниз Виталию. — Брось мне босоножки. Быстрее!
Хлопец как раз складывал парус и закреплял лодку, но Тоня этого не видела, ей было невтерпеж.
— Ну что ты там возишься? Бросай! Я тут как на сковородке!
В ответ на ее слова полетела на палубу одна босоножка, потом другая, а вскоре появилась из-за борта и солома такого родного чубчика, и худенькие плечи в одной майке; с появлением Виталика Тоне стало сразу веселее. Острое, нервно-возбужденное чувство охватило ее. Хотелось смеяться, кричать, взвизгнуть так, чтобы все услышали! Шутка ли — крейсер принадлежит им! Двое их, двое влюбленных на большом военном судне. Никогда, конечно же, не было на этом военном судне влюбленной пары, чтоб вот так — он и она. Звучали здесь суровые команды, приказы, радиопозывные, номера, шифры — все служебное, суровое, властное. А теперь им покорилась эта тысячетонная стальная громада, на стальной раскаленной арене могучих рыже-ржавых палуб господствуют их смех, их любовь!
— Подумать только, куда мы с тобой забрались, — сказала Тоня радостно-дрожащим голосом. — Настоящий крейсер!
— Даже если это эсминец, — скупо улыбнулся Виталик, — то и тогда ты не должна разочароваться… Гора. Железный Арарат среди моря!
Вода была где-то далеко внизу, и лодчонка покачивалась такая махонькая, а судно возвышалось над морем и впрямь как гора, стальная скала, их железный остров.
— Какое же огромное!
Тоня была сама не своя от волнения. Ее охватило лихорадочное возбуждение, девушка не могла подавить дрожь, нервно-радостный трепет: вот куда они с Виталиком забрались, одни-единственные, как робинзоны, очутились на этом необитаемом острове, где их окружают причудливые железные скалы, лабиринты!.. И Виталик тоже заметно взволнован, голос его немножко даже срывается, когда он что-нибудь объясняет Тоне.
Трещит под ногами средь ржавчины что-то белое, блестящее.
— Смотри, Виталик, — бросается на блестки Тоня, — какая-то стеклянная шерсть!
— Не шерсть это.
— А что же?
— Стекловата… Изоляционный материал. Видишь, из распоротых обшивок вылезает.
— Какое белое да красивое!
Она берет пучочек этого удивительного материала в руки, но Виталик предостерегает:
— Не бери!
— Почему?
— Руки потом долго щемить будет… В тело въедается… А изоляция из него надежная… Эта стекловата и в огне не горит.
— Нет, немножечко я обязательно возьму, в лагере моим малышам покажу. — И Тоня, как перо из подушки, живо выдергивает из распоротой обшивки стекловату, совсем чистую, белую, как первый снег.
То тут, то там палуба вздулась опухолями, видны на ней пробоины, какие-то дырки, люки, зияющие провалы… Белеет рассыпанная известь, крошки цемента.
— Что это за дырки, Виталик?
— Да это так…
Он почему-то мнется, чего-то недосказывает. Берет щепотку цемента и зачем-то нюхает.
Потом, держа друг друга за руки, они заглядывают в пробоины, в жуткую глубину темных трюмов, где вода блестит маслянисто. Чувствуется, что тяжелая она там, застоявшаяся, с нефтью или соляркой.
— А рельсы для чего здесь?
— Наверно, по ним торпеды подвозили на вагонетках. Видишь, вон рамы на корме? Не иначе торпеды с них запускали… Это вот лебедка… Брандшпиль… А это вот круг для пушки. — Они, все еще держась за руки, рассматривают круг, массивный, металлический. — Пушка, видно, могла поворачиваться в гнезде на триста шестьдесят градусов, во все концы неба, — объясняет Виталик, и они невольно оба посмотрели в небо, где уже ворона не каркает, а только светится чистая голубизна зенита да солнце, какое-то непривычное, космическое, ослепительно пылает.
Идут, неторопливо осматривают кубрики, эти горячие металлические клетки, в которых когда-то жили люди, жили, как в сейфах. Железо и железо. Покореженные трубы, обрезанные провода, железный хаос. Виталий первым вторгается в этот хаос, где по трапам, а где и без трапов, перелезает все выше и выше с одной палубы на другую, а Тоня неотступно пробирается за ним, стараясь, подобно послушной альпинистке, точно повторять каждое его движение. Хлопец время от времени предостерегает: здесь осмотрительность прежде всего, здесь легко сорваться.
— Как высоко забрались мы! — Голос девушки чуточку даже трепещет. — Глянь, где вода!
— Далеко.
Рубка радиста — одни корешки там, где было множество проводов: все провода обрезаны под корень.
— И я здесь тоже поживился, — улыбается Виталий.
Тоня уже дует на руки, их в самом деле начинает щемить от изоляционного стекла, которое и здесь, на палубе, всюду валяется кучами, а в салоне прямо за шею сыплется из прорванной обшивки. Это же здесь, в салоне, сидели командиры, беседовали, что-то решали… Все порвано, порублено, ободрано.
Тоня до сих пор не может как следует понять, что же произошло с этим судном, почему оно, собственно, здесь? Село на мель? Но ведь здесь же глубина какая! Зачем-то моряки привели его, бросили в заливе и ушли, возбудив любопытство степных искателей приключений. Не только такие, как Виталик, заскакивали сюда, но и серьезные люди — механизаторы, председатели колхозов. Говорят, друг перед дружкой спешили раздеть этот стальной великан, тащили отсюда разное оборудование, трубы, а кое-кому будто бы достались даже вполне исправные электромоторы. Дух запустения царит теперь всюду, пауки затянули паутиной все судно — и откуда их столько набралось, как залетели они со степных просторов в такую даль на тонких своих паутинках?
Судну, кажется, не будет конца. Не с берега, только здесь можно понять, как огромен корабль. Идешь сквозь его железные буреломы, то спускаешься, то поднимаешься («Это снова орудийные отсеки… А это шлюпбалки!»), попадаешь в какие-то глухие закутки, железные закоулки, в полутьму; а то снова перед тобой горит на солнце ржавая стальная стена, какой-нибудь камбуз, или клюз, или отсек, среди которых только Виталик и может ориентироваться. Здесь нужно смотреть в оба, чтобы не оступиться и не сорваться в ту железную пропасть, где в пятнах нефти или солярки лоснится застоявшаяся грязная вода. Железные колодцы мертвы, недвижны, а за бортом море мерцает неспокойно волнами, хлюп да хлюп… Снова лабиринт, какой-то рваный металл (видно, вырезал кто-то лист алюминия), и вдруг из полумрака надпись: «…затопление открывать только при фактическом пожаре». Что это значит? Как это понимать? Таинственно, будто иероглифы! А кто-то писал все это, а кого-то все это касалось, для кого-то надпись, наверное, имела огромное значение. А тут что такое? «Боевой четыре»… Вся она, эта ржавая стальная гора, полна загадок, тайн, условных знаков, которых даже и Виталику не разгадать.
— Будет ли ему когда-нибудь конец? — спрашивает Тоня, наталкиваясь снова на невод паутины, обходя в полутьме какие-то железные предметы.
— А мы еще и половины не прошли, — говорит Виталий и выводит Тоню из темного закоулка на свет, показывает вверх на мачту: — Хороша антенка? Вот эта бы ловила, правда?
Самим своим видом эта корабельная мачта способна вызвать в душе волнение. Манит простором океанов, гудит бурями далеких широт… С мачты свисают обрывки тросов, каких-то проводов, их никто уже, видно, не смог достать, а еще выше…
— Виталик, что это за скворечник вон там, на самой верхушке?
— Там стоял сигналист. Впередсмотрящий…
— Ого-го! Как же он туда взбирался?
— А очень просто…
Не успела Тоня опомниться, как Виталий, оставив ее, уже покарабкался вверх и вверх по крутой, отвесной мачте, по обломкам трапа на ней. У Тони замирало сердце: как бы не сорвался, а он, по-обезьяньи цепкий, взбирался все выше, пока, достигнув цели, не выпрямился на мачте, на недосягаемой для Тони высоте, где-то под самым небом! Ветер качал уже ниже его обрывок стального троса, а хлопец стоял и улыбался, улыбался и оттуда Тоне: вот, мол, где я, твой впередсмотрящий!..
И вдруг Виталий застыл, напряженно всматриваясь куда-то в море, и Тоне показалось, что он побледнел, что на его лице отразился ужас. Тоня тоже взглянула в ту сторону и средь темноты неугомонных волн увидела маленькую черную лодочку. Кто-то плывет! Кто-то подплывает к ним! Она даже хотела крикнуть Виталику: «Кто это плывет к нам?», но в лодчонке… никого не было!!! Черная молния ударила в мозг, потрясла страшной догадкой… В первый миг Тоня не узнала ее без паруса, какой-то даже неуместной показалась среди волн — без живой души! — маленькая, смолисто-черная посудина, а это же была их лодка, их баркасик, дуновением ветра его теперь тихо, едва заметно, однако бесповоротно отгоняло в море. Дальше и дальше от них — в открытое море!..
Повечерело, звезды проступили на небе, а где-то в степи тоже, как звезды, вспыхнули сквозь мглу огоньки: это их Центральная, которую днем отсюда почти не было видно, засверкала электрическими огнями. Теперь еще ощутимее стало, как далеко они от степи, какая непреодолимая даль воды и темноты отделяет их от берега, от всей предыдущей жизни. Еле-еле светятся из мглы степной далекие звезды…
А они сидят, словно сироты, пригорюнились у боевой рубки, им холодно — железо судна после дневной жары удивительно быстро охладилось. Тоня, наплакавшись, склонилась головой Виталику на колени и, кажется, уснула, измученная переживаниями, а Виталий не отрывает глаз от берега, пытаясь разобраться во всем, что случилось. Он, он виноват во всем! И нет тебе оправданий, не ищи их! Подбил, заманил Тоню. Она так безоглядно пошла за тобой со своей любовью, доверилась, а ты… Куда завел ее? В западню, в смертельную западню завел, не сказав девушке всей правды, не предупредив, что ее здесь ждет. А ждут ее здесь не только голод и жажда… Конечно, он готов ради Тони на подвиг, на самопожертвование, но при таких обстоятельствах даже это ни к чему — кому здесь нужно твое самопожертвование? Твоя вина перед нею безгранична, и, хотя Тоня это понимает, с губ ее не сорвалось ни единого слова упрека. Она и сейчас доверчиво льнет к тебе со своей любовью, слезами, нежностью. А ты, который должен быть сильнее ее, проявить мужество и находчивость, не в состоянии теперь ничего сделать. Может, все-таки нужно было прыгнуть за борт и вплавь догонять лодку? Но когда он, едва не сорвавшись, в один миг скатился с мачты и бросился к борту, сама же Тоня схватила его за руку:
— Не смей! Уже не догнать! Утонешь!
В самом деле, тут и разрядник по плаванию вряд ли догнал бы… Лишь немного погодя она спросила жалобно:
— Что же это ты, Виталик? Почему же ты не привязал?
Он что-то лепетал ей в оправдание, привязывал, мол, набросил конец веревки петлей на какой-то крюк, не сказал Тоне лишь о том, что, когда делал это, его внимание отвлекли как раз ее босоножки, которые нужно было бросить ей на палубу.
Спасительная лодочка, собственноручно проконопаченная, просмоленная при помощи паяльной лампы, пошла и пошла теперь в морские просторы, гуляет где-то, как запорожская байда. Может, в далеких Дарданеллах перехватят твою малую байду. Перехватят, а она пустая, нет в ней никого, только мальчишечья рубашка-безрукавка да авоська с остатками завернутых в газету бутербродов.
Невероятно все это. И странно — у него такое впечатление, будто какая-то злая фатальная сила толкнула его сюда и словно бы вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой к тому, чтобы совершить этот ужасный шаг… Бывает же так, что человека тянет, настойчиво тянет куда-то — вот так и его тянуло с того момента, как он увидел из степи это боевое судно, которое, словно сама его мечта, силуэтом застыло на горизонте. Говорят, есть люди, которым трудно преодолеть в себе желание броситься с высоты — бездна влечет их, заманивает, зовет испытать неизведанное. И кто знает, не возникает ли подчас подобное влечение, подобный толчок в сознании того, кто имеет доступ к самой страшной кнопке, о которой часто разглагольствует Гриня Мамайчук? Кто исследовал те глубочайшие, первобытно-темные недра психики, где, возможно, как раз и зарождаются вулканы человеческих поступков? Так ли уж далек от истины тот же Гриня, когда твердит, что пороки людской природы вечны, что мы в самом деле греховны от рождения и каждый на себе несет печать греха? Когда-то, на заре жизни, греховное искушение будто бы погубило легендарных Адама и Еву. Пусть это выдумка, пусть Виталий во все это не верит, но опять-таки разве только озорством, легкомысленным своим мальчишеством объяснит он и свой сегодняшний поступок? Разве же Тоня, его умная, трезвая, практичная Тоня, села бы с ним в лодку, если бы и ее не толкал тот дьявол искушения, желание коснуться чего-то запретного, изведать неизведанное? Или, может, в этом именно есть сила человека, его дар? Может, без этого не знал бы он выхода в океан, в космос и никогда ничего не открыл бы?
Тоня нервно вздрагивает в дремоте, будто и сейчас ее сотрясает внутренний невыплаканный плач.
Меньше стало огней на Центральной, — видно, понемногу уже укладывается спать совхозная столица, ведь завтра рано начнет она свой трудовой день.
Мелькнул над степью веер света, перемещаясь в пространстве, — то ли кинопередвижка помчалась из отделения после сеанса, то ли, может, мать с рабочими возвращается из «Чабана» после проверки соцсоревнования? При одном воспоминании о матери душа Виталика наливается болью. Придет она домой, а сына нет, и завтра не будет и, может, уже не будет никогда! Как непростительно виноват он перед нею! Как будет убиваться она по сыну! Воображение рисует ее разбитой горем, состарившейся, одинокой… Вот как поступил с нею он, ее надежда, ее опора! Будут розыски, будет тревога, но кто догадается искать их здесь, на этом ржавом, ободранном судне, что маячит среди моря в качестве мишени для летчиков!
Ночь звездная, светлая, в такие ночи поет степь. Вот и сейчас с далекого берега словно бы доносится песня, нет, только чудится. Кузнечики стрекочут — нет, только обман слуха… Тень от судна темнеет на воде, а море смутным блеском мерцает без конца-краю, как некогда мерцало оно Магеллану и Васко да Гама… Просторы океанов открывались и тебе, но твое судно никогда отсюда не поплывет, на мертвом якоре оно! А океан, живой вечный океан, плещет в борта, бьет в подножие этой стальной безжизненной скалы, навевает думы о власти слепых сил, о неизбежности удара, о невозможности отвратить его… Нет, так можно до сумасшествия дойти! Неужели конец? Вот так бессмысленно? Светлый, чистый океан жизни расстилался перед ними, а теперь что: океан тьмы и хаоса? Конец? Всему конец? Это полное жизни, молодости, полное огня, красоты и любви девичье тело будет медленно высушено голодом, жаждой? Нужно искать выход! Во что бы то ни стало нужно найти выход! Нужно бороться. Бороться — этому учила его мать, учили в школе, об этом слышал множество раз, об этом читал. Бороться, но как? С чем? С бессмыслицей самого положения, самого случая? Когда отец боролся на фронте, он знал, что ему нужно убить врага — с ним борись… А здесь кто твой враг? Море? Небо? Вон та звездная дорога, что над морем, над степями, над безвыходностью вашей пролегла? Все, что есть, что еще вчера было радостью, красотой, жизнью, сейчас словно бы готовит тебе муку и смерть.
Двигатели! Не сохранились ли где-нибудь в глубине судна двигатели? Нельзя ли как-нибудь их запустить, вернуть к жизни, сдвинуть всю эту махину с места? Днем он спустится и туда, в машинное отделение, все обследует, обшарит. А покамест на этом стальном гиганте бьются лишь их сердца…
В свое время и здесь, на этом судне, была жизнь, ходил на нем по морю целый коллектив людей; целый мир страстей, мыслей, мечтаний носило по волнам это судно, одетое в тяжелую непробиваемую сталь. Днем и ночью несли вахту молодые моряки на своих местах, стояли у орудий боевые расчеты, а по вечерам, быть может, именно здесь, на баке, звучала гармошка, лились задумчивые матросские песни. Много таких судов теперь списывают, режут, грузят в эшелоны и отправляют на металлургические заводы, чтобы из этого металла родились тракторы, комбайны, разные умные и красивые машины… Кое-какие мелочи и он, Виталий, успел добыть из радиорубки судна, были они ему очень кстати, когда собирал свой любительский передатчик. Сюда бы ему тот передатчик, что в щепки разлетелся, оскверненный Яцубой. Позднее сам Яцуба обратился к нему уже как представитель ДОСААФа, предложил зарегистрироваться в кружке радиолюбителей. «Тобой, говорит, и в области заинтересовались, после того как мы тебя запеленговали». Где-то там, по ту сторону роковой межи, остались его запеленгованные шалости, любимый его радиоузел, где он, уже полноправно надев наушники радиста, окунался в гомон эфира; осталась и горячая материнская любовь, и чистая Сашкова дружба… Одним необдуманным шагом он отделил себя от всего того, самое счастье свое поставил под удар. День начинался смехом, сиянием, поцелуями, все впереди предвещало только удачу, обоим радовали душу светлые просторы, солнце, синее раздолье…
А беда стряслась. Словно бы возмужавшим взглядом окидывает сейчас себя Виталий, обдумывает снова и снова, как это случилось и чем кончится. Неужели это все, что он успел в жизни? Неужели мрачное, как привидение из далекого прошлого, судно станет для них железным саркофагом? По сути, ничего еще не сделал в жизни, разве только примус кому отремонтировал да керогаз, а все те строившиеся и непостроенные твои корабли, они впереди, они начнут путешествие в будущее без тебя, а ты, дружище, в какое путешествие отправишься отсюда? «Отправитесь, отправитесь!.. — словно бы нашептывал какой-то злой голос. — И ты и твоя Тоня никогда не воскреснете, не вернетесь в ваши солнечные степи, на магистральные каналы, строящиеся в степи, на виноградники, что там зеленеют… Будут атомные эры, межпланетные полеты, дива-чудеса будут появляться на земле, но все это будет уже без вас, без вас…» О человеке говорят, что он великан, бог, гигант. И разве ж не так? Завладеет небом, станет властвовать над грозами, стихиями, все небо будет ему подвластно, с молниями, дождями, бурлением облаков! Все могучие силы природы покорятся человеческой воле, движению человеческой руки. А ты вот здесь не можешь сдвинуть с места кучу железного лома, не можешь высечь искру огня, не властен отвести удар от своей Тони.
Ему слышно, как Тоня дышит. Вот она шевельнулась.
— Звездно как. — Тоня поднялась, села, поджав ноги. — Я долго спала? Наверно, уже поздно? А руки как щемит от стекла… Почему ты молчишь?
— После того, что случилось, — сказал он глухо, — ты должна, Тоня… ты имеешь право меня возненавидеть.
— Что ты выдумываешь? — Тоня взяла его руку. — За что? Это я, глупая, тебя не удержала, сама поддалась… Тебе холодно?
Почувствовав, что хлопец дрожит в своей майке, она прижалась к нему, обняла, чтобы согреть.
— Прижимайся ко мне, прижимайся.
— Я уже думал плот связать, какой-нибудь «Кон-Тики», — полушутливо, словно бы оправдываясь, сказал Виталий. — Но здесь никакого дерева нет, одна только сталь.
— Если б хоть вода была, — молвила Тоня, помолчав. — А то и ночь холодная, а пить… просто сушит внутри. Это правда, Виталик, что человек дольше может выдержать без пищи, чем без воды?
— Мы будем пить морскую.
— Ее пить нельзя. Наш тато, когда развеселится, любит про того чумака рассказывать, что впервые у моря оказался. Воды много, распряг, пустил волов напиться, а они не пьют. «Вон ты какое! — удивленно крикнул он тогда морю. — Потому тебя так много, что никто тебя не пьет».
— А мы будем пить. Один французский врач доказал, что и морскую можно.
— У них и лягушат можно глотать, — ответила Тоня на это. — Но нам от этого не легче… Помнишь, Виталик, какую мы воду в Каховке пили, с кубинскими студентами, из ключа?
Виталик только вздохнул. Еще бы не вспомнить те ключи-источники на берегу Днепра, где было когда-то село Ключевое и где еще и по сей день сотни родников бьют с открытого берега, из-под корней верб да платанов… Уже нет Ключевого, на том месте стоит город Новая Каховка, а ключи остались, живут, бьют всюду: где с берега, где из-под корня, а где и просто — только разгреби землю руками, там уже и шевелится песок, набегает водичка! Холодная, взбаламученная она, но муть быстро оседает, и уже ты пьешь воду, такую свежую, прозрачную и чистую, что недаром о ней говорят: «Как слеза». Высятся там платаны могучие, кора на них как атлас, а из-под корней тоже пробиваются роднички, а одна струйка вытекает прямо из дупла старой вербы у самой земли и весело журчит по камешкам в Днепр… Из него, из этого ручейка, они и пили вместе с молодыми кубинцами, студентами Каховского техникума механизации сельского хозяйства. Почти ровесники Виталика, они жили и учились в Каховке. Правда, сначала непривычны были к нашему климату, всё мерзли, а потом привыкли, только в Днепре мало кто из них купался: Днепр для них был и летом холодный. В тот день они пришли проститься с Днепром перед возвращением на родину. Тоня первой заговорила с ними:
— Нравится Украина?
— О! — раздалось в ответ восторженное восклицание.
Они уже уехали домой, повезли на далекую Кубу приобретенные знания и память о Днепре, о вековых платанах каховских, из-под которых там и сейчас всюду бьют, журчат ключи и стекают, прозрачные, в Днепр…
Будто было это все на другой планете: и выпускной вечер с вручением аттестатов, и крымское путешествие, и цветущая мальвами дорога на Каховку. Был тот мир широкий, раздольный, полный надежд, полный жизни, а теперь вот брошены они на угрюмый остров обреченности, будто к галере прикованы, железной, неподвижной. А ведь все могло быть иначе, могло их и не занести сюда, да и самое это судно-лом давно могло быть распилено на куски где-то в крымской бухте под Севастополем. Видели же они там во время экскурсии огромный крейсер, который газорезчики раскраивали на отдельные глыбы, на большие, а потом на меньшие, на такие, чтобы их можно было бросить в мартен. Словно кусок мыла, так легко на их глазах резали эту броню корабельную. Мощные краны подхватывали многотонный, только что раскромсанный лом, перебрасывали на берег, — там была его уже целая заваль, — а газорезчики в защитных очках висели по бортам да делали свое; струи света от них так и брызгали, и борта перекраивались, и ватерлиния горела под струями пылающего кислорода!
— Ляг, Витальчик, поспи, — с лаской в голосе молвила Тоня своему неудачнику-мореходцу. — Может, хоть во сне что-нибудь надумаешь.
Нежное, ласковое чувство пробудилось к нему, какое, видимо, бывает у матери к ребенку, — такой он маленький сейчас и беззащитный, в одной майке. Свернулся клубочком, съежился, склонился ей на руки, и нежность к нему растет, и эта нежность согревает ее. Если б только было возможно убаюкать его, а когда проснется, уже ночи нет, и железа этого нет, и вместо моря уже степь вокруг, исполненная красоты и вольготности… Будут искать их, это наверняка, на весь совхоз поднимут тревогу, но искать будут где угодно, только не здесь. А может, кто и догадается? Ох, скучает по ней герлыга отца, уж он ей задаст, когда отыщет! Тато, видно, сейчас еще с овцами в степи, где-то ведет отару, пасет, может, даже и посматривает в эту сторону на окутанное звездной тьмою море, но и не догадывается, куда занесло его озорницу, юлу, вертихвостку. Закричать, завопить хотелось Тоне сейчас, чтобы он услышал. Теплой волной обдало Тоню при воспоминании об отце, о его запальчивой и гордой натуре. Каким веселым и бесстрашным становится он, когда выпьет рюмку, как всех критикует — не перечь тогда ему, все выскажет после долгого чабанского молчания! А в душе есть что-то поэтическое. Вспоминаются ей и песни его, и посаженные наперекор всему тополя, и эта его странная привычка надевать летную фуражку Петруся и красоваться в ней всю ночь у отары. «Тело ссыхается, а дух бунтует» — так сказала однажды о нем Демидиха, и таков он и есть, ее тато. Неужели она больше с ним не увидится, ни с мамой, ни со всей родней? Неужели не быть ей больше у костра в пионерлагере, где оставила столько друзей, веселья и развлечений? Через море брела, спешила, промокшая прибежала в сад на свидание и, выходит, спешила на свою беду… Представляет, как Лукия Назаровна, эта строгая и справедливая женщина, примчится к ним в кошару, набросится на отца: «Где дочь? Это она, сумасбродка, моего сына погубила!» А он тоже раскричится в ответ, ведь он не из тех, что терпят, когда посягают на его или дочери честь.
Будет, будет и там горя… Поехали купаться и утонули — вот что о них подумают в совхозе. Вспомнилось Тоне, как в позапрошлом году на Праздник урожая поехали коллективно с Центральной к морю купаться, поехали в Третье отделение, потому что там лучший пляж, и один молодой комбайнер, далеко заплыв, утонул. Искали его до ночи, да так и не нашли. Через несколько дней труп его уже в открытом море подобрал катер пограничников — лица нет, глаз нет — чайки выклевали, только по татуировке и опознали: «Шурко» было вытатуировано на руке.
А Виталик спит, измотанный горем, усталостью, спит у нее на коленях. Пускай отдохнет, тогда он, может, и в самом деле что-нибудь придумает. Она в него верит и сейчас не меньше, чем тогда, когда садилась в лодку. Видно, из этой веры в него, в его способности и родилось еще в школе ее чувство к Виталику. Для нее, из троек не вылезавшей, было просто непостижимым, как он быстро все схватывал, какой ум у него острый, в трудные минуты на выручку целому классу приходили его сметка, блеск мысли, его сообразительность. Она была уверена, что в будущем его ждет нечто необычайное, из таких скромников вырастают те, которые становятся потом известными, совершают большие открытия, а она вот его не уберегла. Сейчас он стал для нее еще дороже, нежность к нему росла, горячее чувство переполняло душу… Как она хотела бы сберечь его для грядущих дней, для всего того, что он мог бы совершить, изобрести, открыть! В своих мечтах видела его то в далеких океанах, то в звездном космическом пространстве, среди прокладывающих пути к другим планетам…
 Тоня не может простить себе, что мучила его своими проказами, капризностью, ветреностью. Ведь та ревность, что изводила хлопца не раз, была и вправду чаще всего вызвана ее поведением. Нечего греха таить, сержант с полигона несколько раз проводил-таки ее домой и чуточку нравился ей. Смешной. Прощаясь, он каждый раз весело говорил: «Иду служить!»
И школьный физкультурник ей тоже нравился немножко, и летчик Серобаба, особенно его черные роскошные усы. Но ведь только чуточку, вовсе не так они ей нравились, как Виталик. Видимо, со временем он и сам это понял, потому что говорил о сержанте уже без злости и насмешливо советовал Тоне, чтобы она нарвала в парке своему бывшему кавалеру стручков дерева софоры, пусть теми стручками только мазнет по сапогам, и они сразу загорятся, никакая суконка такого блеска не даст.
Который теперь час? Скоро ли начнет светать? Звездная степь раскинулась вверху. Большая Медведица повернулась, повисла. Гроздь Стожар висит непривычно высоко и непривычно блестяще — не ночь ли степная яркости придает? А через все небо прямо над судном пролег звездный Чумацкий Шлях. Все видел он, что было, и все увидит, что будет… Над степью блестит еще одна звезда, даже непохожая на звезду, такая яркая. Никогда Тоня не видела звезд такой величины… Может, это Сириус? Или планета Венера? Или другая какая планета? Где-то в западной части неба, кажется, самолет гудит. Тоня прислушалась: да, верно, гудит. Видно, идет на очень большой высоте, еле слышен он где-то между звездами Чумацкого Шляха… Громче и громче гудит небо, и вся ночь и море словно прислушиваются к тому далекому глухому гулу, где летит человек, властелин всего… Образы брата Петра и его друзей-летчиков всплывают в памяти Тони: может, это как раз они идут куда-то по своему заданию, уверенно, сильно, идут-рокочут на больших подзвездных высотах.
Разбуженный гудением самолета, вскочил на ноги Виталий и, еще не очнувшись от сна, рванул Тоню за руку.
— Прячься!
Он толкнул ее в какую-то будку, в железную тьму, откуда только и виден был круглый звездный лоскуток неба в иллюминатор. Тоня не поняла, что его так напугало спросонок.
— Что с тобой, Виталик?
Он молчал. Слышно было, как он взволнованно дышит в темноте. Тоня подумала, что это ему стало неловко за свой испуг, а Виталий не чувствовал неловкости, он был сейчас охвачен тревогой; приникнув к иллюминатору, напряженно прислушивался, а в голове стучала и стучала мысль: «Мы — цель! Мы — мишень! Нас летят бомбить! Нас будут бомбить!»
Небо, все небо рокочет ровно, властно, величаво. Поднявшись откуда-то с далеких аэродромов, идут на уровне звезд могучие машины, гиганты стратегической авиации.
— Где же он?
Тоня, прижавшись к Виталику, тоже выглядывает в иллюминатор.
Гул-рокотание удаляется, тает в вышине. Тихим становится небо.
Оба, наэлектризованные, выбираются из своего укрытия и снова видят над собой вверху огромную звездную степь. Уже еле слышен гул того невидимого самолета или целой армады самолетов, что исчезли в звездной пыли Чумацкого Шляха.
Через некоторое время услышали грохот над полигоном. И еще грохот. И еще… Потом все утихло, ночь наполнилась тишиной.
Но хлопец уже не мог теперь не прислушиваться к небу, к его звездным глубинам. Время от времени чудилось ему, что небо с запада начинает тонко, угрожающе гудеть. «И это будет длиться все время? Это так мы все время будем жить здесь, на этом ржавом ковчеге?» — с тревогой думал он, поглядывая на Тоню, словно бы тоже опечаленную какими-то догадками. А Тоне почему-то вспомнились в это время слова брата о том, что трудно бомбить море в звездную ночь… Да еще вспомнилось, как рассказывал тогда за столом старший летчик о войне, о том, как гибли его друзья — летчики фронтовые: полетят и нет, не возвращаются. И будто и поныне они где-то там, в звездных высотах, живут…
Остаток ночи прошел спокойно.
Прижавшись друг к другу, они молча наблюдали, как постепенно наступает рассвет, как звезды тают в пепельно-сером небе. Это был тот ранний час, когда в степи так хорошо, когда чабаны выпускают овец из кошар и зорюют, то есть ведут их, выпасая на ходу, еще при свете зари; это наилучшее время для чабана — вести отару, пока еще не жарко, по прохладным пастбищам и слушать, как в тихом утреннем воздухе позванивает тронка… Так гулко-гулко вокруг, за многие километры слышно, как где-то протарахтит арба с фермы в степь и как где-то там уже перекликаются люди, накладывая сено в арбу. Там покой, порядок, еще один трудовой день начинается. Чабаны, сойдясь, спокойно будут разговаривать о ночной работе летчиков, что, подобно громовержцам, грохотали над полигоном.
Восток разгорается, море светлеет, вот-вот солнце взойдет… Среди вечно живых мерцающих волн моря только их судно с покосившимися мачтами застыло неподвижно. В глубине степи, где-то у самого небосклона, еле темнеет пятнышком Центральная. Ни парка, ни фронтона школы, ни ветродвигателя с его пропеллером, ни паутинок телевизионных антенн — ничего не различишь, все там слилось, как в мареве, так далеко.
— Виталик, сколько, по-твоему, будет туда?
— Да столько же, как и вчера было…
Он улыбнулся скупо, краешком рта, а посмотрев на нее, немного застеснялся и сразу похорошел. Еще и в школе девчата замечали, что он хорошеет, когда смотрит на Тоню.
Тоня чувствовала, как волной приливает нежность.
Виталик в раздумье уже озабоченно склонился на поручни борта, и в голове его начали один за другим рождаться разные проекты. Вспомнился капитан Дорошенко: как бы он вел себя в такой ситуации? Есть же люди, которые не падают духом, не теряют самообладания при любых обстоятельствах! Искать, думать, бороться — в этом теперь ты весь. Полезет искать двигатели, попытается высечь огонь, добудет для Тони воду из-за борта…
Приблизившись к борту, они следят за птицей, что, сев поодаль между волнами, вольно и словно бы даже с наслаждением покачивается на воде. Вода и птица как бы успокаивали. Не хотелось думать в эти минуты ни об ужасенеизвестности, ни о безвыходности своего положения, ни о том ночном гудении неба — ведь сейчас вокруг такая тишина, такой простор, такая красота.
От долгого стояния, оттого, что солнце уже действовало на них пьяняще, показалось им, что судно плывет. Но это лишь волны плыли, обтекали, омывая его борта, и катились дальше, а судно стояло на месте. Двигалась планета, двигалось солнце в небе, двигались воды своими вечными волнами, а оно — ржавое — тупо и недвижно стояло на месте.
Так и будет словно бы плыть это судно целый день, а солнце еще сильнее опьянит их, и палуба снова раскалится, и вся эта железная гора будет дышать на них своим ржавым огнем. Потом снова наступит ночь, где-то за тысячи верст отсюда летчики наденут шлемофоны и парашюты, направятся к своим бомбардировщикам, и разговор между ними будет о том, что звездное море бомбить трудно. А Виталик и Тоня, забравшись на бак, будут сидеть на своем железном острове и в ожидании ночного удара нервно вслушиваться в звездное небо из-под стальной своей скалы, будут сидеть, пригорюнившись, молчаливо, как последние дети Земли, как сироты рода людского.
Тоня не может простить себе, что мучила его своими проказами, капризностью, ветреностью. Ведь та ревность, что изводила хлопца не раз, была и вправду чаще всего вызвана ее поведением. Нечего греха таить, сержант с полигона несколько раз проводил-таки ее домой и чуточку нравился ей. Смешной. Прощаясь, он каждый раз весело говорил: «Иду служить!»
И школьный физкультурник ей тоже нравился немножко, и летчик Серобаба, особенно его черные роскошные усы. Но ведь только чуточку, вовсе не так они ей нравились, как Виталик. Видимо, со временем он и сам это понял, потому что говорил о сержанте уже без злости и насмешливо советовал Тоне, чтобы она нарвала в парке своему бывшему кавалеру стручков дерева софоры, пусть теми стручками только мазнет по сапогам, и они сразу загорятся, никакая суконка такого блеска не даст.
Который теперь час? Скоро ли начнет светать? Звездная степь раскинулась вверху. Большая Медведица повернулась, повисла. Гроздь Стожар висит непривычно высоко и непривычно блестяще — не ночь ли степная яркости придает? А через все небо прямо над судном пролег звездный Чумацкий Шлях. Все видел он, что было, и все увидит, что будет… Над степью блестит еще одна звезда, даже непохожая на звезду, такая яркая. Никогда Тоня не видела звезд такой величины… Может, это Сириус? Или планета Венера? Или другая какая планета? Где-то в западной части неба, кажется, самолет гудит. Тоня прислушалась: да, верно, гудит. Видно, идет на очень большой высоте, еле слышен он где-то между звездами Чумацкого Шляха… Громче и громче гудит небо, и вся ночь и море словно прислушиваются к тому далекому глухому гулу, где летит человек, властелин всего… Образы брата Петра и его друзей-летчиков всплывают в памяти Тони: может, это как раз они идут куда-то по своему заданию, уверенно, сильно, идут-рокочут на больших подзвездных высотах.
Разбуженный гудением самолета, вскочил на ноги Виталий и, еще не очнувшись от сна, рванул Тоню за руку.
— Прячься!
Он толкнул ее в какую-то будку, в железную тьму, откуда только и виден был круглый звездный лоскуток неба в иллюминатор. Тоня не поняла, что его так напугало спросонок.
— Что с тобой, Виталик?
Он молчал. Слышно было, как он взволнованно дышит в темноте. Тоня подумала, что это ему стало неловко за свой испуг, а Виталий не чувствовал неловкости, он был сейчас охвачен тревогой; приникнув к иллюминатору, напряженно прислушивался, а в голове стучала и стучала мысль: «Мы — цель! Мы — мишень! Нас летят бомбить! Нас будут бомбить!»
Небо, все небо рокочет ровно, властно, величаво. Поднявшись откуда-то с далеких аэродромов, идут на уровне звезд могучие машины, гиганты стратегической авиации.
— Где же он?
Тоня, прижавшись к Виталику, тоже выглядывает в иллюминатор.
Гул-рокотание удаляется, тает в вышине. Тихим становится небо.
Оба, наэлектризованные, выбираются из своего укрытия и снова видят над собой вверху огромную звездную степь. Уже еле слышен гул того невидимого самолета или целой армады самолетов, что исчезли в звездной пыли Чумацкого Шляха.
Через некоторое время услышали грохот над полигоном. И еще грохот. И еще… Потом все утихло, ночь наполнилась тишиной.
Но хлопец уже не мог теперь не прислушиваться к небу, к его звездным глубинам. Время от времени чудилось ему, что небо с запада начинает тонко, угрожающе гудеть. «И это будет длиться все время? Это так мы все время будем жить здесь, на этом ржавом ковчеге?» — с тревогой думал он, поглядывая на Тоню, словно бы тоже опечаленную какими-то догадками. А Тоне почему-то вспомнились в это время слова брата о том, что трудно бомбить море в звездную ночь… Да еще вспомнилось, как рассказывал тогда за столом старший летчик о войне, о том, как гибли его друзья — летчики фронтовые: полетят и нет, не возвращаются. И будто и поныне они где-то там, в звездных высотах, живут…
Остаток ночи прошел спокойно.
Прижавшись друг к другу, они молча наблюдали, как постепенно наступает рассвет, как звезды тают в пепельно-сером небе. Это был тот ранний час, когда в степи так хорошо, когда чабаны выпускают овец из кошар и зорюют, то есть ведут их, выпасая на ходу, еще при свете зари; это наилучшее время для чабана — вести отару, пока еще не жарко, по прохладным пастбищам и слушать, как в тихом утреннем воздухе позванивает тронка… Так гулко-гулко вокруг, за многие километры слышно, как где-то протарахтит арба с фермы в степь и как где-то там уже перекликаются люди, накладывая сено в арбу. Там покой, порядок, еще один трудовой день начинается. Чабаны, сойдясь, спокойно будут разговаривать о ночной работе летчиков, что, подобно громовержцам, грохотали над полигоном.
Восток разгорается, море светлеет, вот-вот солнце взойдет… Среди вечно живых мерцающих волн моря только их судно с покосившимися мачтами застыло неподвижно. В глубине степи, где-то у самого небосклона, еле темнеет пятнышком Центральная. Ни парка, ни фронтона школы, ни ветродвигателя с его пропеллером, ни паутинок телевизионных антенн — ничего не различишь, все там слилось, как в мареве, так далеко.
— Виталик, сколько, по-твоему, будет туда?
— Да столько же, как и вчера было…
Он улыбнулся скупо, краешком рта, а посмотрев на нее, немного застеснялся и сразу похорошел. Еще и в школе девчата замечали, что он хорошеет, когда смотрит на Тоню.
Тоня чувствовала, как волной приливает нежность.
Виталик в раздумье уже озабоченно склонился на поручни борта, и в голове его начали один за другим рождаться разные проекты. Вспомнился капитан Дорошенко: как бы он вел себя в такой ситуации? Есть же люди, которые не падают духом, не теряют самообладания при любых обстоятельствах! Искать, думать, бороться — в этом теперь ты весь. Полезет искать двигатели, попытается высечь огонь, добудет для Тони воду из-за борта…
Приблизившись к борту, они следят за птицей, что, сев поодаль между волнами, вольно и словно бы даже с наслаждением покачивается на воде. Вода и птица как бы успокаивали. Не хотелось думать в эти минуты ни об ужасенеизвестности, ни о безвыходности своего положения, ни о том ночном гудении неба — ведь сейчас вокруг такая тишина, такой простор, такая красота.
От долгого стояния, оттого, что солнце уже действовало на них пьяняще, показалось им, что судно плывет. Но это лишь волны плыли, обтекали, омывая его борта, и катились дальше, а судно стояло на месте. Двигалась планета, двигалось солнце в небе, двигались воды своими вечными волнами, а оно — ржавое — тупо и недвижно стояло на месте.
Так и будет словно бы плыть это судно целый день, а солнце еще сильнее опьянит их, и палуба снова раскалится, и вся эта железная гора будет дышать на них своим ржавым огнем. Потом снова наступит ночь, где-то за тысячи верст отсюда летчики наденут шлемофоны и парашюты, направятся к своим бомбардировщикам, и разговор между ними будет о том, что звездное море бомбить трудно. А Виталик и Тоня, забравшись на бак, будут сидеть на своем железном острове и в ожидании ночного удара нервно вслушиваться в звездное небо из-под стальной своей скалы, будут сидеть, пригорюнившись, молчаливо, как последние дети Земли, как сироты рода людского.
Здесь много неба
— Ну и везет же тебе, Микола, — плескаясь у рукомойника, говорит бульдозерист Брага голому по пояс Миколе Египте, который стучит краником, разбрызгивая во все стороны воду. — В чем же это мне так везет, Левко Иванович? — Ну как же, тебя, собрата моего по труду, прораб товарищ Красуля посылает сегодня со скрепером на другой объект, прямо в Тарасовку. — Ну и что? — А то, что поедешь и будешь себе песни в дороге распевать! А после обеда вдруг окажется, что твой скрепер как раз нужен нам здесь. И тебе придется возвращаться. Так себе прогулочка в полста километров в будний день. Не каждому выпадает такой дурняк. — А мне-то что! — сверкает Египта молодыми белыми зубами. — Порожняком? Начальству виднее. Мне хоть ветер гонять, только бы платили. — То-то же! Слушаю тебя и вижу — парень ты не промах. Только смотри, друг, не упусти еще один шанс… — Это вы насчет па «налево»? — хохочет Египта. — Ох, и догадлив же ты! Цыганская у тебя натура, хлопец! Глину!.. Эту глину кое-кто с канала бабам в Марьевку возит, они сейчас как раз хаты обмазывают… — Глиной промышлять — это я еще не пробовал. А пожалуй, стоит рискнуть, — смачно приговаривает Египта. — Только сами же потом возьмете меня за душу как председатель товарищеского суда! А Брага будто и не слышит, продолжает свое: — Да смотри не проторгуйся, не продешеви. Не то мне будет стыдно, что собрат мой по работе за гроши нашу глину отдает. Это ведь не просто какие-нибудь, а первородные киммерийские глины — геологи могут засвидетельствовать. — Скажите! А я и не знал! — Однако же и теток зря не обманывай, набирай ковши пополнее, глины на планете хватит. — Не на глине, так на земельке, а дельце проверну, — жуликовато ухмыляется Египта. — И постараюсь не попасться ни обехаэсовцам, ни своему родному начальству. Сами же тогда устроите над Египтой товарищеское судилище под лозунгом «Позор леваку!». А разве ж я виноват, что я сроду левак? — Ты не левак. — А кто же, винтик? — Когда-то были винтики… — Ну, не винтик, так, скажем, карданный вал. — Мы с тобой строители, Микола, люди, которые созидают, — вот в чем дело… — Что же, от этого мы лучше? — Ну, лучше не лучше, а не может человек, который строит магканал, создает что-то великое, вести себя как пигмей. — Сильно сказано! — А ты отойди-ка, дай место девушке, — говорит Брага, кивнув на Лину, которая с полотенцем через плечо вышла из вагончика и терпеливо дожидалась своей очереди за спиной у Египты. — А, и ты уже встала! — воскликнул Египта и, сверкнув озорной своей усмешкой, отступил, пропуская девушку к умывальнику. — Бедненькая! У папы-мамы спала бы, в постельке понеживалась, а тут еще и солнце не взошло, а ты уже на ногах вместе с нами, варварами. — А почему вы варвары? — спрашивает Лина, принимаясь чистить зубы. — Ну как почему?.. Без всяких тонкостей, без церемоний. Порой и выругаешься по-простому, по-рабочему. — А вы не ругайтесь. И почему это ругаться — значит, по-рабочему? Просто отсутствие элементарной культуры. Вон Левко Иванович не ругается, я ни разу не слыхала. — Ругаюсь. Да еще как… Только больше про себя, в душе, — буркнул Брага и, натянув после умывания замасленную гимнастерку, отправился к бульдозеру. А Египта, свернув к вагончикам, не упустил случая ущипнуть мимоходом девушку за ребрышко, и хоть она и отмахнулась от него с негодованием, однако гнев ее был явно преувеличен. Дома она и в самом деле еще спала бы, а здесь встает с рассветом — сама жизнь поднимает, — трудовой день строителей канала начинается рано. Работы ведутся далеко в степи, между пикетами, которые расставляла и Лина. Нельзя сказать, чтобы Лине так уж нравилось ежедневно глотать здесь поднятую бульдозерами пылищу и обжигать на сухих ветрах свое белое личико. Да и не так-то приятно девушке, вскочив спозаранок, спешить к умывальнику, где уже до тебя изрядно набрызгано, везде мыльная пена, а к кранику и не протолкнешься сквозь голые мужские спины да жилистые темные затылки, и не такое это большое удовольствие, нажарившись на солнце, проголодавшись, выстаивать в обеденный перерыв очередь у окошечка котлопункта (и словечко-то какое выдумали управленческие крысы: котлопункт!); дадут тебе на алюминиевый поднос порцию жирного переболтанного борща или супа, сядешь под навесом за один из грубо сколоченных самодельных столов, и, пока обедаешь, над тобой беспрерывно роятся голодные степные мухи. Многого не хватает здесь из привычного тебе комфорта, можешь только мечтать сейчас о душе, сооруженном дома для тебя отцом, нет и еще кое-чего, что должно бы быть… Вот уже и вода кончается, еле-еле каплет из краника, механизаторы всю выплескали до тебя. И все же именно здесь, среди этих строительных неурядиц, Лина впервые в жизни почувствовала, что она нужна людям, каждым нервом своим ощутила, как начинает жить полноценной, а не растительной, не оранжерейной жизнью. На труд у нее свой взгляд. Не так уж она наивна, чтобы думать: еще одно сооружение, канал этот — и все станут счастливыми. Не в этом дело. Человек напоминает ей парус, которому непременно нужен и простор и ветер. В безделье поник он, нет его… А тут он полон — грудью вперед летит сквозь жизнь! И пусть обгорает, шелушится тут лицо, пусть трескаются губы, но здесь ты неотделима от тех, кому трудно, и хоть работа твоя несложна — размерять с Василинкой да с мастером-гидротехником стометровые отрезки трассы, расставлять пикеты, — однако же и эта простая работа кем-то должна быть сделана — без твоих пикетов дело не пойдет. Солнце вылезло из-за горизонта, красное, нежаркое, заблестело на металлических боках механизмов, сбившихся беспорядочным стадом возле штабного вагончика: опять там какая-то задержка… Механизаторы вместо утренней гимнастики ссорятся с прорабом, бранят механика, и даже Брага Левко Иванович, человек мирного, покладистого нрава, сейчас не очень-то выбирает слова, клеймя нераспорядительность начальников. Как всегда в таких случаях, механик выдумал себе дело и исчез, умчался в Брылевку, поэтому весь шквал возмущения за простой вынужден был принять на себя прораб товарищ Красуля. Он тут не ночевал, ездил к молодой жене, а теперь, чувствуя вину, что не позаботился своевременно о доставке горючего и смазочных материалов, суетится между людьми. Втянув голову в щуплые плечи, он то и дело виновато огрызается, а сам, наверное, думает: «Ну вас всех к чертям! Когда уже я вырвусь отсюда на какую-нибудь стройку поспокойнее или в город со своею Ниночкой-лаборанткой (оба они заочно учатся в институте)…» Левко Иванович видит его насквозь, угадывает его мысли, поэтому прямо в глаза бросает Красуле: — Делаешь все кое-как, а ведь еще молодой! Служишь будто частной фирме, вместо того чтобы вкладывать душу! Красуля огрызается: — Не напасешься души! — Ну да, если душа воробьиная! Лина, вооружившись пестрой рейкой, подходит к толпе, и механизаторы, на мгновение прекратив ссору, подзуживают и ее: — А ну-ка, по плечам его, Лина, рейкой за простой! Из-за того, что он у своей Ниночки гостил, сколько человеко-часов теряем! — Ей волноваться нечего, у нее ставка, — бросает в адрес Лины Египта, уже приготовивший свой скрепер в дорогу. Лина промолчала, однако в душе не согласилась с его словами. Она чувствовала, что вся эта неразбериха и в ней вызывает раздражение, так и хочется крикнуть вместе с Брагой прорабу в глаза: «Где же твоя совесть? Почему ты не побеспокоился? Как же это получается, что рядовые механизаторы болеют за дело больше, чем ты?» Египта, сняв кепку, приветливо машет ею Лине на прощание, просит не забывать и обещает привезти из Тарасовки полный ковш абрикосов… Чудной этот Египта. Что-то есть в нем беспечно-разудалое, бесшабашное. Недаром о нем и на стройке говорят: «Брось Египту в море — вынырнет с рыбой в зубах!» Ковш абрикосов привезет… Подшучивает, конечно, а вообще-то он такой — может что угодно добыть, повсюду у него знакомые, приятели, друзья, за официантками по степным чайным увивается, хотя всем известно, что уже платит алименты какой-то на Северном Донце, где раньше работал… Верный своим привычкам, Египта не пропустит никакого мало-мальски удобного случая закалымить, взять левый заказ, и не боится ни прораба, ни механика, которые, кажется, и сами потакают ему. Единственно, чего Египта побаивается, так это товарищеского суда, по воле механизаторов возглавляемого Левком Ивановичем Брагой. Левко Иванович постоянно держит Египту на прицеле, и за одну его недавнюю историю, не совсем красивую, при всех предупредил: — Хотя ты, Египта, и механизатор широкого профиля, на всех машинах богом себя чувствуешь, но держись: еще один левак — и вылетишь в космос! Египта выехал, прогрохотал скрепером, и хоть не в космос он держит путь, а только в Тарасовку, где строится хозяйственный канал, однако Лина чувствует, что отныне ей будет не хватать озорных усмешек парня, грубоватых его шуток и тех маленьких стычек с ним, когда он дает волю рукам, а ей приходится отбиваться. Наконец привезли горючее и смазочные материалы, прораб повеселел, и все механизаторы оживились. Брага, заправив горючим свой робот, уже с просветленным лицом испытывает, хорошо ли работают его железные мускулы. Степь наполняется грохотом машин, один за другим отправляются механизаторы к месту работы. И Лина с Василинкой тоже торопятся на свои места — и они ведь не последние спицы в этом огромном трудовом колесе, разве ж не их вешки дают простор для работы механизмов, указывают верное направление каналу? От железобетонного низенького столбика-репера, воткнутого в землю еще кем-то до тебя, ведешь ты линию канала, тянешь ее вперед и через каждые сто метров выставляешь свою пестренькую веху. Под ногами стерня или трава тонконог, виноградник или заросли полыни и чертополоха, а ты шаг за шагом отмеряешь землю, начиная от реперного столбика. И там, где проходишь сегодня ты, завтра уже будут в разгаре земляные работы. Брага, бригадир бульдозеристов, будет перекрывать со своей бригадой нормы, а еще чуть позже в свежевырытом русле заголубеет днепровская вода. Вода уже заполнила русло на головных участках канала, уже подведена к какому-то там километру, и туда съезжаются по праздникам колхозники из степных районов посмотреть на нее, полюбоваться, как на диво, на самую обыкновенную, еще мутную от глины воду. Вот так и идешь ты пикетажисткой по сухой степи, как бы ведя за собой будущую, еще незримую воду, царапаешь голые загорелые икры чертополохом, жаришься на солнце. И никаких тебе событий, разве иногда мастер, раздражительный, но, в сущности, добрый старичок Анатолий Петрович, позволит взглянуть в окуляр нивелира, чтобы приучалась, а потом сам же и оттолкнет, выверит еще раз перед тем, как скрипуче закричать бульдозеристу: «Давай!» Стрелой тянется магистральный канал на юг в сухие, испокон веков безводные степи. Придет время, и устремится вода за самый Перекоп, до каких-то крымских Семи Колодезей, которые только называются так громко, а на самом деле воду туда и до сих пор привозят цистернами. Там, где природа забыла речку проложить, сейчас волею людей рождается новая река, с той только разницей, что не петляет она по степи, а проложена по линейке, хотя водой будет не беднее, чем Ворскла, или Сула, или даже Южный Буг. На всех географических картах твоей родины появится эта речка, какую сегодня вместе с бульдозеристами строишь немножечко и ты. На днях проведать Лину приезжал отец, интересовался, как она тут живет. На этот раз не было ни угроз, ни упрашиваний. Постаревший и поникший, стоял он перед дочкой, а потом светил своей сединой в жарком вагончике, присев на краешек твердого матраца, на котором она спит. Лине стало даже жаль отца, такого покорного и внезапно состарившегося: за это, она чувствовала, часть вины ложится и на нее. Как баловал он когда-то ее маленькую, с какой радостью, вернувшись со службы, брал на руки! Лине тогда и в голову не могло прийти, что ее отец, такой сильный и черноволосый, когда-то вот так состарится и поседеет. Казалось, он всегда будет в добром здоровье, с голосом весело-грозным и при оружии. Однажды там, на Севере, во время пурги, она в трех шагах от дома неожиданно заблудилась, — ох, какую он тогда поднял стрельбу! Всех поставил на ноги, сколько ракет было выпущено в метель, в бушевавшую снежную вьюгу, хотя Лина в это время уже сидела в теплом помещении у одной знакомой. А в другой раз, когда Лина играла с детьми возле упряжки ездовых собак, лежавших у барака, одна девочка чего-то испугалась и закричала, а отцу показалось, что это голос Лины, что собаки набросились на детей (иногда и такие случаи бывали). Он выскочил на крыльцо с пистолетом в руке и сгоряча перестрелял на месте всех собак… Почему-то подобные случаи стали чаще вспоминаться Лине после того, как она очутилась здесь, на канале. Она как будто только теперь стала замечать отцовскую самозабвенную любовь к ней, так же, как только тут, среди опаленных солнцем степей, Лина, кажется, впервые по-настоящему поняла, что и там, на Крайнем Севере, была не только стужа да пурга, от которой леденеет душа, не только мхи да уродливо скрученные низкорослые березы, но и краса белых летних ночей, когда молодые солдаты, сменившись с постов, среди ночи натягивали сетку и играли в волейбол! Болельщица-девчушка, она делала для них бумажные розы, дарила команде победителей букетики этих белых безжизненных цветов. И был там среди бойцов один смуглый, чем-то немножко похожий на Египту, и она была по-детски чуточку в него влюблена… Здесь же, на канале, отец казался тихим и смирным, на ее расспросы про гладиолусы признался, что теперь за ними ухаживает он сам, потом, отозвав в сторону мастера, расспрашивал его о Лине, о том, как она работает, как живет и с кем дружит, перед прорабом и кухарками постарался замолвить за нее словечко, Лине даже неловко было за его совершенно ненужные хлопоты. Побеседовал отец и с Левком Ивановичем Брагой, почувствовав, видимо, что бригадир пользуется всеобщим уважением. Что ему говорил отец, Лина не разобрала, слышала только ответ Браги, твердый, успокоительный: — О дочке, товарищ майор, не беспокойтесь. И сама здорова, и в здоровый коллектив попала. В обиду не дадим. Жене Левка Ивановича, поварихе на котлопункте, отец Лины понравился своею рассудительностью и серьезным взглядом на жизнь. Когда отец уехал, она Лине даже нотацию по-дружески прочитала: — Ты, девушка, на отца не очень фыркай. Говорят, ты чуть не отреклась от него? Было у нас такое время, когда дети от родителей отрекались… Какой там он ни есть, но тебе отец, и роднее его нет никого у тебя на свете. Лине тогда стало немного стыдно от справедливых укоров Бражихи — в самом деле, как это она, которую отец так бережно растил и лелеял, выпорхнула теперь из дому и за все отплатила ему только упрямством и даже пренебрежением? А ведь чтобы вот так хорохориться, упрямиться, отвернуться, для этого много ума не надо. В чем-то он отстал, чего-то недопонимает, в чем-то ты с ним не совсем согласна. Так ты, как дочь, помоги ему, борись за своего отца, добейся, чтобы он поднялся, если жизнь его покорежила, изломала! Да, в нем немало есть такого, что неприемлемо для тебя, но разве только в нем? А в тебе самой? А в Миколе Египте? Вот Египта вовсе только начинает жить, а сколько уже ты находишь в нем такого, с чем душа никогда не сможет примириться! Так борись, искореняй из своей и из их душ ненужный бурьян, чтоб стали они настоящими людьми!.. «Только не донкихотство ли это с моей стороны?!» — подумала Лина и улыбнулась про себя. Неподалеку работает Брага — впереди своей бригады роет, разгребает, разрыхляет землю. Спроси у него о таких вещах, скажет, что у него сейчас только одна цель: переработать определенное количество грунта. Целыми часами не отрывается он от рычагов, работает упорно, сосредоточенно, гоняет и гоняет свою машину взад и вперед, прорубает траншеи, набрав грунта на полный нож, то выталкивает его на откос, то на повышенной скорости пикирует, возвращаясь снова на прежнее место. Словно прикованный к своему железному роботу, повторяет он одну и ту же операцию множество раз, привычно, методически. Кажется, что и сам он одуревает от грохота и скрежета горячего железа, которое оседлал. Только уже вдоволь наработавшись, остановит бульдозер на валу, выйдет из него в одной майке, в жестких, запыленных, из какой-то чертовой кожи штанах, и тогда вдруг оживет, улыбнется девчатам: — Ну, когда же ты, Лина, убежишь отсюда? Никак не могу понять, чего ты до сих пор здесь? Василинка тихонько прыскает на шутки брата, а Лина отвечает бригадиру в тон: — А вы почему не убегаете? — Что я? Шесть классов да седьмой коридор за плечами — с этим, голубка, далеко не убежишь. — Нам бы столько перечитать, как ты, — заметила Василинка и пояснила подруге: — Зимой целые ночи просиживает над книжками… Даже Плутарха читает. — Все больше вот про этого болвана книжки да про подобные ему создания, — говорит Брага, кивая в сторону своего бульдозера, и даже толкает его слегка в гусеницу. — Болван, лентяй, а вот никак не могу его бросить! «Болван, увалень, робот безмозглый» — такими и подобными прозвищами обычно награждает Брага свой бульдозер, хотя надо быть просто глухим, чтобы в его голосе при этом не уловить более глубокую, затаенно дружескую интонацию. Достав замасленную помятую пачку сигарет «Верховина» (Левко Иванович предпочитает этот сорт за его крепость), закуривает и снова продолжает свое: — Робот несчастный — это он меня в эту канальскую историю втянул да его предшественники. Еще мальчишкой, как только первый «фордзон» появился в селе — вот когда я погиб, девчата. Если бы не та встреча, давно был бы где-нибудь завгаром или кладовщиком. А вот с тех пор и пошло: тракторы, бульдозеры, тягачи, канавокопатели… Из-за канавокопателя, можно сказать, жену-партизанку нашел, известную вам отважную и решительную особу. Вы же слышите, сколько она мне каждый день указаний дает. Взяли с нею такой в жизни разбег, что никак остановиться не можем, кочуем, а хлопцы, казаки мои, уже четвертую школу меняют. При упоминании о сыновьях голос Браги сразу становится мягче, ласковее. — Полещуки они у меня, росли у матери среди болот да лесов, хоть отец коренной степняк. Когда забирал их сюда, думал: привыкнут ли к степи? А привез: «О, говорят, тату, хорошо и тут!» — «А чем же вам хорошо? Ежевики, орехов лесных нет». — «Зато здесь много неба…» Смешные! — Дядько бригадир! — зовет Кузьма Осадчий, остановив свой бульдозер неподалеку и вылезая из кабины. — Мой что-то покашливает… — Грипп азиатский? Или что там у него? Левко Иванович направляется к бегемоту Кузьмы. — Загадочный тип, — разводит руками хлопец, — как будто и гоняю, выжимаю из него все, а дела меньше, чем у вас! — А ты без толку не гоняй. Потому что он хоть и робот, а тоже кое-что понимает, — начинает растолковывать Левко Иванович. — Когда набираешь грунт на нож, прислушивайся к работе двигателя. Как только почувствуешь, что он начинает терять мощность — довольно. Наверстывай на другом; когда возвращаешься на рабочее место, переключайся на максимальную скорость. Как раз на этих, на холостых ходах нужные минуты и сэкономишь. — Вот оно что! — А ты как думал… Да еще перед работой, с утра повнимательнее узлы осматривай, ослабевшие винты закрепи, а то я видел, как вы, молодые, все хип-хап, все бегом, сел за рычаги — и айда, лишь бы скорее в забой… Так переговариваясь, они принимаются вдвоем осматривать еще совсем новый бульдозер Кузьмы. Левко Иванович, в поисках повреждения, сам залезает в кабину, и вскоре бульдозер уже снова грохочет. Кузьма, подпрыгнув, взбирается на его железный хребет, а Брага, передав ему рычаги, идет к своему агрегату. С лязгом и скрежетом врезается он в слежавшийся грунт, выбирает его, все больше углубляясь, добирается наконец до тех киммерийских глин, что залегают под травами этой степи мощным горизонтом.
С Левком Ивановичем девушки встретятся теперь уже во время обеда, когда в толпе других бульдозеристов с подносом в руках он будет стоять в очереди к окошечку, то бишь к котлопункту. Прошло время, когда не было этого котлопункта и механизаторам приходилось есть всухомятку или ватагами ездить по селам в поисках горячего обеда. Теперь прогресс, пахнет поджаркой, а над окошечком выдачи на куске ватмана красуется еще и написанная тушью крылатая мораль для работяг: «Ничто нам не стоит так дешево и ничто не ценится так дорого, как вежливость!»
— Это ты здорово загнула! — восхищенно сказал Лине Египта, когда впервые прочитал написанный ею плакат.
— Это не я, это Сервантес сказал, автор «Дон Кихота», — пояснила она Египте, а он засмеялся:
— Ты и сама у нас как Дон Кихот!
Что он имел в виду? Что она такая длинная и худая, как Рыцарь печального образа? Или он считает, что самостоятельную жизнь свою она начинает борьбой с ветряными мельницами? Но как бы там ни было, а призыв к вежливости, написанный ее рукой, висит на этом бойком месте, и от нечего делать его читают, хотя, по правде говоря, именно под этой надписью, в тесноте, в сутолоке, и возникают чаще всего ссоры.
Правда, сегодня здесь довольно спокойно, потому что нет Египты, некому задирать, даже Левко Иванович отметил его отсутствие:
— Вишь, нет Египты, и как тихо, даже скучно. Никто не лезет без очереди. А он себе распродал глину да угощается у какой-нибудь бабенки, уминает пышные вареники с вишнями.
Из окошка на голос мужа отзывается Бражиха, стоявшая на выдаче:
— О, слышу, мой партизан явился.
Брага веселеет.
— Что там сегодня, женушка? Борщ с молодой курятинкой? Наконец-то!
— Сегодня как раз твой любимый суп гороховый…
— То все на макаронах сидели, а теперь горох да горох зарядили… Нет, хватит с меня такой жизни! До Семи Колодезей добью, а там баста! Дураков нет. Дальше пускай сыновья роют, а нам даешь пенсию. Финский особнячок на берегу моря сооружу, под окнами — синева морская, виноградником займусь, помидорами, огурчиками, на досуге стану читать тебе, женушка, в холодочке курортную газету «За бронзовый загар»…
Бражиха сосредоточенно орудует черпаком, но сурово сомкнутые губы ее невольно вздрагивают в улыбке. Не впервые ей слышать от мужа эту песню. Еще в Каховке слышала: «Построю и больше не буду». И на Ингульце слышала: «Брошу, к чертям, кладовщиком или завгаром пойду…» А после того снова, как цыган, перекочевал сюда и ее потащил, чтобы вдвоем пробиваться к этим легендарным, никогда не виденным ею Семи Колодезям. Слушая мужа, она и о деле не забывает:
— Забирай, муженек, компот да освобождай место.
Обедает Брага за одним столом с сестрой и с Линой. Под навесом, где стоят столики, тесно — тут толкаются, смачно хлебают, утираются ладонями, всюду Лина видит замызганные майки, перепревшие от пота безрукавки, видит простые трудовые лица, лоснящиеся потом, темные от загара шеи, которые уже и солнце не берет. Вот громко чавкает бульдозерист Закарлюка, молча с жадностью тянут из мисок другие механизаторы: Волкодав, Штанько, Барыльченко, Фисунов; рядом с Линой примостился усатый Куцевол, и она совсем близко видит руки с толстыми короткими пальцами, на которых пообломаны ногти. Такие же руки и у Левка Ивановича, они огрубели, сплошь покрыты ссадинами. Лину в первые дни все это коробило, а теперь ей даже как-то уютно среди этих плеч, лиц, приятно класть свои тонкие усталые руки рядом с их огрубевшими в работе, натруженными на рычагах руками. «Разве же не в них, не в этих руках, — думает она, — вся сила и богатство трудового человека, который добывает ими не только свой хлеб, но еще и возможность ни перед кем не заискивать, не криводушничать? Именно они, эти руки в ссадинах, дают человеку право жить без лжи, без угодничества, без всего такого…»
Брага ест молча, серьезно, лицо его продублено ветром и солнцем, а около прищуренных глаз уже лучатся морщинки — свидетели нелегкой, видно, жизни. «Сколько живу, все на передовой, потому что тут человеку самая большая выгода, — как-то пошутил он. — И место тепленькое, и никто на него не позарится…»
На строительстве у него место не просто тепленькое, а прямо-таки горячее — в одежду, тело въелась степная пыль, майка на широких плечах прокипела солью, потом, мазутом. Тетка Катерина порой даже оправдывается за эту его майку перед девушками:
— Ей-же-ей, через день стираю! А только смену отработает — снова такая же.
Всем здесь известно, что во время войны их бригадир был подрывником в партизанском соединении, принимал участие в героических рейдах в североукраинских и белорусских лесах, и жена его, эта тетка Катерина, тоже оттуда, из Полесья, и тоже бывшая партизанка.
Съев суп, Левко Иванович принимается за макароны с котлетами, которые попались ему до черноты пережаренные.
— Поштурмуем теперь эту жужелицу, — говорит он и кричит к выдаче: — Жена! Забыла свежих помидорчиков положить!
— В Брылевке помидоры, — слышится оттуда.
— Тогда огурчиков…
— Огурчики в степи. Начснаб не насобирал.
— Помидоры где-то перезревают, огурчики желтеют, а вы…
— Ешь, муженек, и не привередничай!
Брага сокрушенно качает головой.
— Точнехонько как в той притче: ребенок хлеба просит, а мать: «Воды выпей». — «Не хочу воды». — «А, постреленок, трясця твоей матери, ты еще перебирать?» Дайте книгу жалоб, я благодарность вам запишу.
— Не к нам, к начальнику рабснабжения все претензии, — отрезает вторая кухарка.
— Сколько ни критикуют того начальника рабснабжения, а с него что с гуся вода, — говорит Василинка, как всегда с бесконечным эпическим спокойствием.
Лину всякий раз поражает в ней это спокойствие, уравновешенность. Василинка и делает все без суеты, и разговор ведет неторопливо, и обедает без спешки, она как будто и Линину нервозность утихомиривает своею степенностью, успокаивает ровной, тихой улыбкой и здоровым взглядом на мир.
— Вот она, наша с тобой жизнь, Куцевол, — принимаясь за компот, говорит Брага товарищу, который на это только шевельнул ржавопроволочными усами. — Вот куда загнала нас с тобой погоня за длинным рублем!
— Не наговаривайте на себя, Левко Иванович, — усмехнулась Лина, которая не впервые уже слышит об этом длинном рубле.
— Не веришь? Слышите, она думает, что чистой воды романтика нас сюда привела. Вот они, герои, степная гвардия, так она думает о нас. Даже жилы трещат у Браги, так он рвется вперед, чтобы побыстрее своим роботом снести Турецкий вал и дать воду степям. Еще раз взять штурмом Перекоп: отец брал тот, а сын этот! А герои твои, девушка, в это время думают о том, что завтра получка да что после нее хорошо было бы в Копани в чайную шугануть… Разве не так, Барыльченко? — обращается Брага к угрюмому бульдозеристу, обедающему за соседним столиком. — Правду ведь я говорю, что длинный рубль нас сюда привел?
— Я не слыхал.
— А ты, Кузьма?
Кузьма Осадчий, смачно уплетая за обе щеки свой горох, отрицательно вертит головой, расплывается над миской в ухмылке:
— Вы меня, дядько бригадир, на этом не купите, — и продолжает хлебать дальше.
У него сегодня хорошее настроение. Не оставляет это настроение Кузьму с того самого дня, как парень, совершенно освободившись из-под отцовской опеки (отца его перевели бригадиром на хозяйственный канал), самостоятельно сел на бульдозер, с «отцовской шеи на железную перелез», как выразился по этому поводу Египта. Правда, с новым бульдозером Кузьма еще не совсем освоился, справляется с ним пока с горем пополам, но все же справляется и норму, хоть с большой натугой, выполняет.
— Смотрите, чей это бульдозер угнали? — кричит вдруг от крайнего стола Супрун, водитель тягача. — Кузьма, твой!
И хоть Кузьму на этом ловят не впервые, он снова под общий хохот дергается и невольно оглядывается в ту сторону, где на валу нерушимо сверкает ножом его новый стальной гигант.
— А вон и черногузы[7] тянутся обедать, — говорит Куцевол, кивая на группу археологов, которые, появившись из-за кургана, приближаются к котлопункту.
Впереди, в самом деле как черногуз, ковыляет длинноногий их начальник, а за ним следует группа его сотрудников — три женщины с оголенными плечами да еще студент в войлочной конусовидной панаме. Он идет в одних трусах, как будто бы здесь пляж. Археологи ведут на кургане раскопки, перебирают косточки каких-то далеких предков, торопятся, потому что должны завершить свою работу, пока не подошли бульдозеры.
— Вишь, какие Адамы и Евы, — роняет недовольно Волкодав. — В городе такой вольности себе не позволят, а тут кого им стесняться? Людей нет, одни бульдозеристы кругом.
— Пусть себе загорают, кому какое дело! — вступается за археологов Василинка, хотя сама она, как и Лина, относится к этому неодобрительно.
Археологи, ступив под навес, вяло здороваются, старший даже снимает кепку, из-под которой засияла белым гребнем седина, а голоногий студент в своей дурацкой панаме из какого-то кавказского козла, поигрывая тощими мускулами, иронически кивает спутницам на Линину надпись о вежливости. А когда получают обед, тетка Катерина прямо в глаза замечает всей компании, особенно бесштанному студенту и женщинам, бесстыдно обнажившим свои пятнистые облезлые плечи:
— Придете еще раз в таком виде — обеда не дам. Тут не пляж.
Бульдозеристы с крайнего стола деликатно освобождают места женщинам-археологам, невзирая на их слишком оголенные спины, которые и впрямь облезают, как на ящерицах. Начальнику раскопок, человеку пожилому, жилистому, тощему, как будто он постоянно недоедает, тоже дали место. Не нашлось места только для студента — пусть, дескать, постоит, чтобы впредь не воображал себя таким умником: сам пришел в столовую без штанов да еще смеет кивать на их плакат над окошком!
— Ну, что же вы сегодня откопали? — спрашивает Брага старшего археолога, которого почему-то считают профессором, хотя никто точно этого не знает.
— Да ничего особенного, — без энтузиазма отвечает ученый, и его сухое, землистое, с запавшими щеками лицо становится и вовсе постным.
— А мы все ждем, — не отстает Брага, — ждем, что вы там что-нибудь откроете, разгадаете какую-нибудь тайну.
— Может, бочку золота выкопаете, — весело бросает через стол Барыльченко.
— Им больше глиняные черепки попадаются, — авторитетно добавляет Волкодав. — Мечи, да копья всякие, да женские побрякушки.
— Какие люди, какие племена тут жили до нас — вот что хотелось бы узнать, — задумчиво говорит Брага. — Племена тавров или кто?
— И киммерийцы жили, — уточняет профессор. — Современники Гомера.
Брагу это даже обрадовало.
— Слышишь, Кузьма? Теперь будем знать: мы — киммерийцы. — И он снова обратился к профессору: — А как у них было насчет бюрократов и взяточников? Водились? Не нашли каких-нибудь следов этого в раскопках?
— Это следов не оставляет, — засмеялась одна из женщин-археологов, блеснув в сторону Браги очками. Смех, как и голос, был у нее грудной, глубокий, и она смеялась нарочито так, чтоб слышно было, какой он глубокий.
— Истлевает, значит, дотла? — допытывался Левко Иванович. — А что же нетленно? Как по-вашему? Что оставляет след? — Видно, ему был очень нужен этот самый след.
— Прежде всего работа, вот такая, как ваша, оставляет след, — молвил профессор в раздумье.
— Мотай на ус, Кузьма, — оживился Левко Иванович. — А то пересыпаешь землицу с места на место, даешь кубы согласно установленной норме, и невдомек тебе, что из этого получается. Следи только, чтобы какой нерадивец не попался с запасом равнодушия в сто тысяч лошадиных сил, такой и оком не моргнув сведет на нет твою работу. Ведь был у нас такой случай на Ингулецкой системе: пустили мы воду в один совхоз, а у них оросительная сеть чертополохом полна, втянуло его в пропускные трубы, забило их, вода и ринулась через дамбы. Разве при наших здешних порядках не может и тут такое случиться? Нет, должна быть чистота во всем! Ни чертополоха, ни бюрократизма — вот наш с тобой лозунг, Кузьма! Правда?
— У тех киммерийцев, — вставляет Куцевол, — вряд ли было такое, чтобы горючего по два часа ждать.
— Или чтобы бульдозеры использовались как тягачи, — поднял голову Фисунов, — а тягач в то же время простаивал без дела на базе.
— А нераспорядительность вся эта от чего? — свирепо вытаращивается Бахтий. — От нехватки ума? Нет, от рыбьего сердца — вот от чего!
Этот разговор непосредственно метил в прораба Красулю, который, где-то задержавшись, только что прибыл обедать и, съежившись, принимал возле окошечка на поднос то, что ему причиталось.
В другой раз ему, конечно, уступили бы место, а сейчас у всех еще в памяти утренний простой, и потому все сидят неподвижно: сидит Куцевол, сидит Брага, Фисунов, Закарлюка, Бахтий. Едят, а кое-кто уже и покуривает, но все делают вид, будто и не видят прораба, не замечают, как он робко пристраивается рядом со студентом в сторонке на ящике и как-то по-сиротски располагает миску на коленях. Вот тебе, прораб, за твою нераспорядительность и равнодушие к делу, которыми ты сегодня оскорбил весь коллектив!
— Кому можно позавидовать, так это Египте! — говорит Брага и встает из-за стола. — Почистит какому-нибудь колхозу пруд мимоходом — и центнер пшеницы на кон. А нам снова ишачить без премий. Мы сухим Семи Колодезям — воду, а нам что? Двенадцать дней отпуска бульдозеристу в год — разве это не позор? — апеллирует он к профессору. — Работал бы я, скажем, где-нибудь экскаваторщиком на производстве или даже кладовщиком на складе, был бы у меня и отпуск вдвое больше, а тут двенадцать дней! Вот как расщедрился кто-то… Разве ж это не насмешка?
— А вам чтоб на полный курортный сезон? — ядовито спрашивает тщедушный студент, останавливая взгляд на коренастой, атлетической фигуре бульдозериста. — Чтобы здоровьице подремонтировать?
— На здоровье, молодой человек, не жалуюсь, — отрубил Левко Иванович, и голос его налился гневом. — Не в отпуске суть. Не хочу, чтобы труд мой был принижен! Чтобы какой-нибудь книгоед ставил его ниже того, что он стоит!
— Надо снова писать в ВЦСПС, — поднялся и Фисунов.
Один за другим механизаторы оставляют столы, идут к поставленным в тени бочонкам с водой, толпятся там, пьют.
А Бражиха тем временем, подозвав студента к окошку за котлетами, которых ему поначалу не хватило, объясняла ему терпеливо:
— Про курорт вы Левку Ивановичу напрасно — не для курортов он на свете живет! Сколько у него всяких грамот, благодарностей за работу, вам и не снилось. Рабочий он, и честь рабочая ему, голубь мой, дорога… А подлечиться ему тоже не мешало бы: как зима, так у него раны партизанские открываются на ногах.
— Простите, я не знал.
— Да еще и радикулит на бульдозере нажил!
— Не знал я этого.
— А знайте! — И она, стукнув задвижкой, закрыла перед ним окно выдачи.
Вскоре и сама тетка Катерина появляется под навесом тоже с миской супа, подсаживается к девчатам и женщинам-археологам, которые обедают, совершенно разморенные, алея своими опаленными худыми спинами.
— Пустые это балачки, девчата, про длинный рубль, — говорит тетка Катерина с горячностью. — И что он тому калымщику Египте завидует, тоже не верьте. Не терпит он хапуг и леваков. «Такие, говорит, только позорят нашу степную гвардию. Честь человека, говорит, в труде, и ни в чем больше ее не ищи».
У тетки Катерины лицо иконно-темное, суровое, преждевременно увядшее, а глаза молодые, полные неугасимого блеска… Пока Катерины не было тут, на канале, Брага не раз о ней рассказывал каналостроителям по вечерам. И она, по его словам, представлялась прямо-таки красавицей. «Не женщина, а нива золотая, — говорил он, — полсвета обошел, пока нашел ее». Но когда она, темноликая, разъяренная, появилась тут с детьми и налетела на него с бранью, что не выехал встречать, то все даже оторопели: это он про этакую злюку им столько пел, ее разрисовал такими словами? Потом привыкли к ее резкому нраву, к напоминавшему мумию сухому лицу без улыбки. Зато когда она изредка улыбалась своему партизану, когда сквозь сердитую темную иконопись на миг пробивалась невольная улыбка, это так меняло Катерину, что некоторым казалось: не так уж Брага, может, и преувеличивал, воздавая хвалу жене…
— Вишь, как обгорела с лица, — говорит Бражиха, разглядывая Лину, ее прихваченное степным загаром миловидное личико. — Да это ничего. Солнце обожжет, кожа облупится, и будешь такая, как и все. Только худенькая очень, высокая, а худенькая. Может, ты не наедаешься? Может, добавки тебе? Ты не стесняйся! А то вешки все носишь и сама стала как вешка.
— Я такая и была, — улыбаясь, заливается краской Лина.
— Добрый у вас муж, — вдруг сказал Бражихе профессор, который до сих пор равнодушно жевал. — Поэт труда. Богатая натура!
Бражиха сразу расцвела, заулыбалась от неожиданного комплимента.
— Добрый, это верно. Когда с ним по-доброму, то хоть на шею ему садись. Но уж если рассердишь…
— Правдолюбец он.
— Ой, не говорите: не раз на этом обжегся. «Теперь уже молчать буду», — говорит. А потом опять-таки не смолчит. За то и почет ему в коллективе: наши механизаторы председателем товарищеского суда его выбрали. Весной, когда шоферы наши в беду попали в рейсе, мастер говорит: «Давай в прокуратуру передадим», а Левко Иванович ему: «Э, нет, погоди… Сначала сами разберемся. Может, и своим судом людей спасем». Нас, мол, воспитала наша власть, и нам следует воспитывать, а не стремиться скорей засадить человека за решетку. Так по его и вышло. Зато как теперь хлопцы стараются!
Археологи благодарят за обед, встают, собираются идти.
— Ну, а это правда, что ваши люди будто бы большой кувшин с пшеницей выкопали? — спрашивает тетка Катерина вдогонку. — Левко Иваныч как-то рассказывал, когда мы с ним детей проведать ехали. «Такое, говорит, пшеничное зерно выкопали, что в десять раз больше теперешнего. Каждое зернышко величиной… ну, с грецкий орех!»
— Это он пошутил, ваш партизан, — весело замечает одна из женщин-археологов. — Зерно с грецкий орех… Это пока только плод воображения.
— А кто знает, может, и такая пшеница росла когда-нибудь на планете, — серьезно возразил профессор. — Да, может, когда-нибудь и в будущем родить будет. Если, конечно, не превратят землю в сплошной атомный шлак…
Пикетажисток между тем уже зовет мастер. Василинка и Лина берут свои пестрые палки и спешат к месту работы, а тетка Катерина, оставшись в тени под навесом одна, подобревшими глазами смотрит, как ветер треплет их легонькие ситцевые платьица. Бульдозеры на валу оживают, один за другим проваливаются в забой, где им предстоит работать до вечера, ворочать пласты этих киммерийских глин. Вот уже и Левко Иванович своим грузным телом втискивается в кабину, а Кузьма Осадчий кричит ему со своего бульдозера, стоя на гусенице во весь рост:
— Киммерийцы мы, дядько бригадир, киммерийцы! Теперь мне ясно! Понятно, почему так жаждет моя кровь синевы эгейской и беломраморных эллинских островов!..
Так переговариваясь, они принимаются вдвоем осматривать еще совсем новый бульдозер Кузьмы. Левко Иванович, в поисках повреждения, сам залезает в кабину, и вскоре бульдозер уже снова грохочет. Кузьма, подпрыгнув, взбирается на его железный хребет, а Брага, передав ему рычаги, идет к своему агрегату. С лязгом и скрежетом врезается он в слежавшийся грунт, выбирает его, все больше углубляясь, добирается наконец до тех киммерийских глин, что залегают под травами этой степи мощным горизонтом.
С Левком Ивановичем девушки встретятся теперь уже во время обеда, когда в толпе других бульдозеристов с подносом в руках он будет стоять в очереди к окошечку, то бишь к котлопункту. Прошло время, когда не было этого котлопункта и механизаторам приходилось есть всухомятку или ватагами ездить по селам в поисках горячего обеда. Теперь прогресс, пахнет поджаркой, а над окошечком выдачи на куске ватмана красуется еще и написанная тушью крылатая мораль для работяг: «Ничто нам не стоит так дешево и ничто не ценится так дорого, как вежливость!»
— Это ты здорово загнула! — восхищенно сказал Лине Египта, когда впервые прочитал написанный ею плакат.
— Это не я, это Сервантес сказал, автор «Дон Кихота», — пояснила она Египте, а он засмеялся:
— Ты и сама у нас как Дон Кихот!
Что он имел в виду? Что она такая длинная и худая, как Рыцарь печального образа? Или он считает, что самостоятельную жизнь свою она начинает борьбой с ветряными мельницами? Но как бы там ни было, а призыв к вежливости, написанный ее рукой, висит на этом бойком месте, и от нечего делать его читают, хотя, по правде говоря, именно под этой надписью, в тесноте, в сутолоке, и возникают чаще всего ссоры.
Правда, сегодня здесь довольно спокойно, потому что нет Египты, некому задирать, даже Левко Иванович отметил его отсутствие:
— Вишь, нет Египты, и как тихо, даже скучно. Никто не лезет без очереди. А он себе распродал глину да угощается у какой-нибудь бабенки, уминает пышные вареники с вишнями.
Из окошка на голос мужа отзывается Бражиха, стоявшая на выдаче:
— О, слышу, мой партизан явился.
Брага веселеет.
— Что там сегодня, женушка? Борщ с молодой курятинкой? Наконец-то!
— Сегодня как раз твой любимый суп гороховый…
— То все на макаронах сидели, а теперь горох да горох зарядили… Нет, хватит с меня такой жизни! До Семи Колодезей добью, а там баста! Дураков нет. Дальше пускай сыновья роют, а нам даешь пенсию. Финский особнячок на берегу моря сооружу, под окнами — синева морская, виноградником займусь, помидорами, огурчиками, на досуге стану читать тебе, женушка, в холодочке курортную газету «За бронзовый загар»…
Бражиха сосредоточенно орудует черпаком, но сурово сомкнутые губы ее невольно вздрагивают в улыбке. Не впервые ей слышать от мужа эту песню. Еще в Каховке слышала: «Построю и больше не буду». И на Ингульце слышала: «Брошу, к чертям, кладовщиком или завгаром пойду…» А после того снова, как цыган, перекочевал сюда и ее потащил, чтобы вдвоем пробиваться к этим легендарным, никогда не виденным ею Семи Колодезям. Слушая мужа, она и о деле не забывает:
— Забирай, муженек, компот да освобождай место.
Обедает Брага за одним столом с сестрой и с Линой. Под навесом, где стоят столики, тесно — тут толкаются, смачно хлебают, утираются ладонями, всюду Лина видит замызганные майки, перепревшие от пота безрукавки, видит простые трудовые лица, лоснящиеся потом, темные от загара шеи, которые уже и солнце не берет. Вот громко чавкает бульдозерист Закарлюка, молча с жадностью тянут из мисок другие механизаторы: Волкодав, Штанько, Барыльченко, Фисунов; рядом с Линой примостился усатый Куцевол, и она совсем близко видит руки с толстыми короткими пальцами, на которых пообломаны ногти. Такие же руки и у Левка Ивановича, они огрубели, сплошь покрыты ссадинами. Лину в первые дни все это коробило, а теперь ей даже как-то уютно среди этих плеч, лиц, приятно класть свои тонкие усталые руки рядом с их огрубевшими в работе, натруженными на рычагах руками. «Разве же не в них, не в этих руках, — думает она, — вся сила и богатство трудового человека, который добывает ими не только свой хлеб, но еще и возможность ни перед кем не заискивать, не криводушничать? Именно они, эти руки в ссадинах, дают человеку право жить без лжи, без угодничества, без всего такого…»
Брага ест молча, серьезно, лицо его продублено ветром и солнцем, а около прищуренных глаз уже лучатся морщинки — свидетели нелегкой, видно, жизни. «Сколько живу, все на передовой, потому что тут человеку самая большая выгода, — как-то пошутил он. — И место тепленькое, и никто на него не позарится…»
На строительстве у него место не просто тепленькое, а прямо-таки горячее — в одежду, тело въелась степная пыль, майка на широких плечах прокипела солью, потом, мазутом. Тетка Катерина порой даже оправдывается за эту его майку перед девушками:
— Ей-же-ей, через день стираю! А только смену отработает — снова такая же.
Всем здесь известно, что во время войны их бригадир был подрывником в партизанском соединении, принимал участие в героических рейдах в североукраинских и белорусских лесах, и жена его, эта тетка Катерина, тоже оттуда, из Полесья, и тоже бывшая партизанка.
Съев суп, Левко Иванович принимается за макароны с котлетами, которые попались ему до черноты пережаренные.
— Поштурмуем теперь эту жужелицу, — говорит он и кричит к выдаче: — Жена! Забыла свежих помидорчиков положить!
— В Брылевке помидоры, — слышится оттуда.
— Тогда огурчиков…
— Огурчики в степи. Начснаб не насобирал.
— Помидоры где-то перезревают, огурчики желтеют, а вы…
— Ешь, муженек, и не привередничай!
Брага сокрушенно качает головой.
— Точнехонько как в той притче: ребенок хлеба просит, а мать: «Воды выпей». — «Не хочу воды». — «А, постреленок, трясця твоей матери, ты еще перебирать?» Дайте книгу жалоб, я благодарность вам запишу.
— Не к нам, к начальнику рабснабжения все претензии, — отрезает вторая кухарка.
— Сколько ни критикуют того начальника рабснабжения, а с него что с гуся вода, — говорит Василинка, как всегда с бесконечным эпическим спокойствием.
Лину всякий раз поражает в ней это спокойствие, уравновешенность. Василинка и делает все без суеты, и разговор ведет неторопливо, и обедает без спешки, она как будто и Линину нервозность утихомиривает своею степенностью, успокаивает ровной, тихой улыбкой и здоровым взглядом на мир.
— Вот она, наша с тобой жизнь, Куцевол, — принимаясь за компот, говорит Брага товарищу, который на это только шевельнул ржавопроволочными усами. — Вот куда загнала нас с тобой погоня за длинным рублем!
— Не наговаривайте на себя, Левко Иванович, — усмехнулась Лина, которая не впервые уже слышит об этом длинном рубле.
— Не веришь? Слышите, она думает, что чистой воды романтика нас сюда привела. Вот они, герои, степная гвардия, так она думает о нас. Даже жилы трещат у Браги, так он рвется вперед, чтобы побыстрее своим роботом снести Турецкий вал и дать воду степям. Еще раз взять штурмом Перекоп: отец брал тот, а сын этот! А герои твои, девушка, в это время думают о том, что завтра получка да что после нее хорошо было бы в Копани в чайную шугануть… Разве не так, Барыльченко? — обращается Брага к угрюмому бульдозеристу, обедающему за соседним столиком. — Правду ведь я говорю, что длинный рубль нас сюда привел?
— Я не слыхал.
— А ты, Кузьма?
Кузьма Осадчий, смачно уплетая за обе щеки свой горох, отрицательно вертит головой, расплывается над миской в ухмылке:
— Вы меня, дядько бригадир, на этом не купите, — и продолжает хлебать дальше.
У него сегодня хорошее настроение. Не оставляет это настроение Кузьму с того самого дня, как парень, совершенно освободившись из-под отцовской опеки (отца его перевели бригадиром на хозяйственный канал), самостоятельно сел на бульдозер, с «отцовской шеи на железную перелез», как выразился по этому поводу Египта. Правда, с новым бульдозером Кузьма еще не совсем освоился, справляется с ним пока с горем пополам, но все же справляется и норму, хоть с большой натугой, выполняет.
— Смотрите, чей это бульдозер угнали? — кричит вдруг от крайнего стола Супрун, водитель тягача. — Кузьма, твой!
И хоть Кузьму на этом ловят не впервые, он снова под общий хохот дергается и невольно оглядывается в ту сторону, где на валу нерушимо сверкает ножом его новый стальной гигант.
— А вон и черногузы[7] тянутся обедать, — говорит Куцевол, кивая на группу археологов, которые, появившись из-за кургана, приближаются к котлопункту.
Впереди, в самом деле как черногуз, ковыляет длинноногий их начальник, а за ним следует группа его сотрудников — три женщины с оголенными плечами да еще студент в войлочной конусовидной панаме. Он идет в одних трусах, как будто бы здесь пляж. Археологи ведут на кургане раскопки, перебирают косточки каких-то далеких предков, торопятся, потому что должны завершить свою работу, пока не подошли бульдозеры.
— Вишь, какие Адамы и Евы, — роняет недовольно Волкодав. — В городе такой вольности себе не позволят, а тут кого им стесняться? Людей нет, одни бульдозеристы кругом.
— Пусть себе загорают, кому какое дело! — вступается за археологов Василинка, хотя сама она, как и Лина, относится к этому неодобрительно.
Археологи, ступив под навес, вяло здороваются, старший даже снимает кепку, из-под которой засияла белым гребнем седина, а голоногий студент в своей дурацкой панаме из какого-то кавказского козла, поигрывая тощими мускулами, иронически кивает спутницам на Линину надпись о вежливости. А когда получают обед, тетка Катерина прямо в глаза замечает всей компании, особенно бесштанному студенту и женщинам, бесстыдно обнажившим свои пятнистые облезлые плечи:
— Придете еще раз в таком виде — обеда не дам. Тут не пляж.
Бульдозеристы с крайнего стола деликатно освобождают места женщинам-археологам, невзирая на их слишком оголенные спины, которые и впрямь облезают, как на ящерицах. Начальнику раскопок, человеку пожилому, жилистому, тощему, как будто он постоянно недоедает, тоже дали место. Не нашлось места только для студента — пусть, дескать, постоит, чтобы впредь не воображал себя таким умником: сам пришел в столовую без штанов да еще смеет кивать на их плакат над окошком!
— Ну, что же вы сегодня откопали? — спрашивает Брага старшего археолога, которого почему-то считают профессором, хотя никто точно этого не знает.
— Да ничего особенного, — без энтузиазма отвечает ученый, и его сухое, землистое, с запавшими щеками лицо становится и вовсе постным.
— А мы все ждем, — не отстает Брага, — ждем, что вы там что-нибудь откроете, разгадаете какую-нибудь тайну.
— Может, бочку золота выкопаете, — весело бросает через стол Барыльченко.
— Им больше глиняные черепки попадаются, — авторитетно добавляет Волкодав. — Мечи, да копья всякие, да женские побрякушки.
— Какие люди, какие племена тут жили до нас — вот что хотелось бы узнать, — задумчиво говорит Брага. — Племена тавров или кто?
— И киммерийцы жили, — уточняет профессор. — Современники Гомера.
Брагу это даже обрадовало.
— Слышишь, Кузьма? Теперь будем знать: мы — киммерийцы. — И он снова обратился к профессору: — А как у них было насчет бюрократов и взяточников? Водились? Не нашли каких-нибудь следов этого в раскопках?
— Это следов не оставляет, — засмеялась одна из женщин-археологов, блеснув в сторону Браги очками. Смех, как и голос, был у нее грудной, глубокий, и она смеялась нарочито так, чтоб слышно было, какой он глубокий.
— Истлевает, значит, дотла? — допытывался Левко Иванович. — А что же нетленно? Как по-вашему? Что оставляет след? — Видно, ему был очень нужен этот самый след.
— Прежде всего работа, вот такая, как ваша, оставляет след, — молвил профессор в раздумье.
— Мотай на ус, Кузьма, — оживился Левко Иванович. — А то пересыпаешь землицу с места на место, даешь кубы согласно установленной норме, и невдомек тебе, что из этого получается. Следи только, чтобы какой нерадивец не попался с запасом равнодушия в сто тысяч лошадиных сил, такой и оком не моргнув сведет на нет твою работу. Ведь был у нас такой случай на Ингулецкой системе: пустили мы воду в один совхоз, а у них оросительная сеть чертополохом полна, втянуло его в пропускные трубы, забило их, вода и ринулась через дамбы. Разве при наших здешних порядках не может и тут такое случиться? Нет, должна быть чистота во всем! Ни чертополоха, ни бюрократизма — вот наш с тобой лозунг, Кузьма! Правда?
— У тех киммерийцев, — вставляет Куцевол, — вряд ли было такое, чтобы горючего по два часа ждать.
— Или чтобы бульдозеры использовались как тягачи, — поднял голову Фисунов, — а тягач в то же время простаивал без дела на базе.
— А нераспорядительность вся эта от чего? — свирепо вытаращивается Бахтий. — От нехватки ума? Нет, от рыбьего сердца — вот от чего!
Этот разговор непосредственно метил в прораба Красулю, который, где-то задержавшись, только что прибыл обедать и, съежившись, принимал возле окошечка на поднос то, что ему причиталось.
В другой раз ему, конечно, уступили бы место, а сейчас у всех еще в памяти утренний простой, и потому все сидят неподвижно: сидит Куцевол, сидит Брага, Фисунов, Закарлюка, Бахтий. Едят, а кое-кто уже и покуривает, но все делают вид, будто и не видят прораба, не замечают, как он робко пристраивается рядом со студентом в сторонке на ящике и как-то по-сиротски располагает миску на коленях. Вот тебе, прораб, за твою нераспорядительность и равнодушие к делу, которыми ты сегодня оскорбил весь коллектив!
— Кому можно позавидовать, так это Египте! — говорит Брага и встает из-за стола. — Почистит какому-нибудь колхозу пруд мимоходом — и центнер пшеницы на кон. А нам снова ишачить без премий. Мы сухим Семи Колодезям — воду, а нам что? Двенадцать дней отпуска бульдозеристу в год — разве это не позор? — апеллирует он к профессору. — Работал бы я, скажем, где-нибудь экскаваторщиком на производстве или даже кладовщиком на складе, был бы у меня и отпуск вдвое больше, а тут двенадцать дней! Вот как расщедрился кто-то… Разве ж это не насмешка?
— А вам чтоб на полный курортный сезон? — ядовито спрашивает тщедушный студент, останавливая взгляд на коренастой, атлетической фигуре бульдозериста. — Чтобы здоровьице подремонтировать?
— На здоровье, молодой человек, не жалуюсь, — отрубил Левко Иванович, и голос его налился гневом. — Не в отпуске суть. Не хочу, чтобы труд мой был принижен! Чтобы какой-нибудь книгоед ставил его ниже того, что он стоит!
— Надо снова писать в ВЦСПС, — поднялся и Фисунов.
Один за другим механизаторы оставляют столы, идут к поставленным в тени бочонкам с водой, толпятся там, пьют.
А Бражиха тем временем, подозвав студента к окошку за котлетами, которых ему поначалу не хватило, объясняла ему терпеливо:
— Про курорт вы Левку Ивановичу напрасно — не для курортов он на свете живет! Сколько у него всяких грамот, благодарностей за работу, вам и не снилось. Рабочий он, и честь рабочая ему, голубь мой, дорога… А подлечиться ему тоже не мешало бы: как зима, так у него раны партизанские открываются на ногах.
— Простите, я не знал.
— Да еще и радикулит на бульдозере нажил!
— Не знал я этого.
— А знайте! — И она, стукнув задвижкой, закрыла перед ним окно выдачи.
Вскоре и сама тетка Катерина появляется под навесом тоже с миской супа, подсаживается к девчатам и женщинам-археологам, которые обедают, совершенно разморенные, алея своими опаленными худыми спинами.
— Пустые это балачки, девчата, про длинный рубль, — говорит тетка Катерина с горячностью. — И что он тому калымщику Египте завидует, тоже не верьте. Не терпит он хапуг и леваков. «Такие, говорит, только позорят нашу степную гвардию. Честь человека, говорит, в труде, и ни в чем больше ее не ищи».
У тетки Катерины лицо иконно-темное, суровое, преждевременно увядшее, а глаза молодые, полные неугасимого блеска… Пока Катерины не было тут, на канале, Брага не раз о ней рассказывал каналостроителям по вечерам. И она, по его словам, представлялась прямо-таки красавицей. «Не женщина, а нива золотая, — говорил он, — полсвета обошел, пока нашел ее». Но когда она, темноликая, разъяренная, появилась тут с детьми и налетела на него с бранью, что не выехал встречать, то все даже оторопели: это он про этакую злюку им столько пел, ее разрисовал такими словами? Потом привыкли к ее резкому нраву, к напоминавшему мумию сухому лицу без улыбки. Зато когда она изредка улыбалась своему партизану, когда сквозь сердитую темную иконопись на миг пробивалась невольная улыбка, это так меняло Катерину, что некоторым казалось: не так уж Брага, может, и преувеличивал, воздавая хвалу жене…
— Вишь, как обгорела с лица, — говорит Бражиха, разглядывая Лину, ее прихваченное степным загаром миловидное личико. — Да это ничего. Солнце обожжет, кожа облупится, и будешь такая, как и все. Только худенькая очень, высокая, а худенькая. Может, ты не наедаешься? Может, добавки тебе? Ты не стесняйся! А то вешки все носишь и сама стала как вешка.
— Я такая и была, — улыбаясь, заливается краской Лина.
— Добрый у вас муж, — вдруг сказал Бражихе профессор, который до сих пор равнодушно жевал. — Поэт труда. Богатая натура!
Бражиха сразу расцвела, заулыбалась от неожиданного комплимента.
— Добрый, это верно. Когда с ним по-доброму, то хоть на шею ему садись. Но уж если рассердишь…
— Правдолюбец он.
— Ой, не говорите: не раз на этом обжегся. «Теперь уже молчать буду», — говорит. А потом опять-таки не смолчит. За то и почет ему в коллективе: наши механизаторы председателем товарищеского суда его выбрали. Весной, когда шоферы наши в беду попали в рейсе, мастер говорит: «Давай в прокуратуру передадим», а Левко Иванович ему: «Э, нет, погоди… Сначала сами разберемся. Может, и своим судом людей спасем». Нас, мол, воспитала наша власть, и нам следует воспитывать, а не стремиться скорей засадить человека за решетку. Так по его и вышло. Зато как теперь хлопцы стараются!
Археологи благодарят за обед, встают, собираются идти.
— Ну, а это правда, что ваши люди будто бы большой кувшин с пшеницей выкопали? — спрашивает тетка Катерина вдогонку. — Левко Иваныч как-то рассказывал, когда мы с ним детей проведать ехали. «Такое, говорит, пшеничное зерно выкопали, что в десять раз больше теперешнего. Каждое зернышко величиной… ну, с грецкий орех!»
— Это он пошутил, ваш партизан, — весело замечает одна из женщин-археологов. — Зерно с грецкий орех… Это пока только плод воображения.
— А кто знает, может, и такая пшеница росла когда-нибудь на планете, — серьезно возразил профессор. — Да, может, когда-нибудь и в будущем родить будет. Если, конечно, не превратят землю в сплошной атомный шлак…
Пикетажисток между тем уже зовет мастер. Василинка и Лина берут свои пестрые палки и спешат к месту работы, а тетка Катерина, оставшись в тени под навесом одна, подобревшими глазами смотрит, как ветер треплет их легонькие ситцевые платьица. Бульдозеры на валу оживают, один за другим проваливаются в забой, где им предстоит работать до вечера, ворочать пласты этих киммерийских глин. Вот уже и Левко Иванович своим грузным телом втискивается в кабину, а Кузьма Осадчий кричит ему со своего бульдозера, стоя на гусенице во весь рост:
— Киммерийцы мы, дядько бригадир, киммерийцы! Теперь мне ясно! Понятно, почему так жаждет моя кровь синевы эгейской и беломраморных эллинских островов!..
 Вот он шумит сейчас, приплясывает на гусенице, а наступит вечер, приплетется Кузьма к вагончикам, как побитый, спешенный и поникший, остановится перед бригадиром, а тот в это время уже бреется после работы, готовится ехать с женой в село к сыновьям. Бреется Левко Иванович, а сам напевает, как песенку, какое-то стихотворение, прочитанное им еще зимой; к нему он подобрал и свой собственный нехитрый мотив: «Лишь правда извечна, а то все трава!..» Проведет бритвой, намылит щеку и снова еще громче: «А то все трава!.. А то все трава!..»
— Левко Иваныч, — наконец осмеливается прервать его Кузьма. — Снова с моим что-то… Еле из забоя выбрался.
— Спазмы? Тромбы? Или, может, инфаркт?
— Не знаю, — чуть слышно тянет Кузьма, а сам старается спрятать смущение под густыми бровями, посеревшими от пыли.
— И что же теперь будет? — закончив бритье и вытягивая шею перед зеркальцем, прилаженным к карнизу вагончика, спрашивает бригадир. — Повесим носы, пусть повисят или как?
Тетка Катерина, сообразив, чем все это угрожает, спешит напомнить мужу:
— Мы с тобой собрались детей навестить!
— Отойди, солнышко, не то как бы мне не порезаться!
— Ну, скребись побыстрее да едем!
— Сначала поглядим, что там у него, — складывая бритву, говорит Левко Иванович и, продолжая напевать свой мотивчик, отправляется с Кузьмой к танку, где уже сбились стадом несколько бульдозеров в ожидании, когда освободится укрепленный на танке кран. (К вечеру возле танка всегда многолюдно — за день обязательно набежит какой-нибудь ремонт.)
Сердитым, ревнивым взглядом следит Бражиха за мужем, и ей хочется на всю степь закричать, когда она видит, как муж, скинув чистую сорочку, которую только что успел надеть, снова натягивает на себя рабочую куртку и лезет под брюхо Кузькиного бегемота. Долго не вылезает. Кузьма ему туда еще и электрической лампой подсвечивает, потому что под бульдозером уже темно. Вздохнув, присмиревшая Бражиха упавшим голосом жалуется девушкам, замечтавшимся на пороге вагончика:
— Теперьуже на всю ночь.
Всю тяжесть мужниной работы она ощущает даже не тогда, когда он трудится, роет землю, набирает и выбрасывает ее из забоев на поверхность, а больше всего когда подгонит к танку свой бульдозер и начинает возиться возле него или, вот как сейчас, помогает ремонтировать кому-то из своих товарищей. Если взялся, то его уже не оторвешь, до поздней ночи не вытянешь. Придет потом словно выжатый, но зато довольный, что дело свое сделал. Она знает мужнину работу, знает, как достается ему в сырые, холодные зимы, когда, не переставая, льют дожди или бушует метель, — в такой холод, кажется, немыслимо к железу и прикоснуться голыми руками, а он спокойно берет, ощупывает железные мускулы. С утра и до ночи без тепла, на ветру, в кабине сквозняки, фуфайка насквозь продувается, а тут тебя еще и радикулит ломает — профессиональный недуг бульдозериста. Или, скажем, весной, когда черная буря гудит над степью, когда так затянет небо, что и работать приходится при свете фар, и солнце в небе тоже, как подслеповатая фара, чуть-чуть поблескивает в пыли…
— Этой весной буря прошла какая-то вроде бы маслянистая, липкая, будто с нефтью. Не с Каспия ли нанесло? — говорит тетка Катерина, присев рядом с девчатами на ступеньках вагончика. — Так, бывало, насечет за день, что потом не отмоешься, одежду не отстираешь, хоть выбрасывай. Не выходите, девчата, ни за бульдозеристов, ни за скреперистов, — невесело пошутила она.
При упоминании о скреперистах Лине почему-то представился Египта, озорной, веселый. Он сейчас небось, оставив свой скрепер, ужинает где-нибудь в чайной беззаботно и при этом игриво подмигивает какой-нибудь девчонке своими цыганскими глазами. Или, может, в драку какую попал, он до этого охоч; а может, взяли его дружинники, а то где-нибудь в дороге громыхает по степи и везет ей, Лине, полный шестикубовый ковш абрикосов — улыбнулась она этой шутке Египты и загляделась на небо, вдоль которого от края до края высеялся звездами Чумацкий Шлях. Чумацким Шляхом назван когда-то этот изгиб Галактики. Магистральный канал проходит на юг как раз по этой звездной трассе, по которой молодая революция шагала в обмотках на штурм Перекопа, а в старину со всей Украины шли тысячи чумацких мажар, чтобы нагрузиться солью на крымских соляных озерах. Босыми ногами проходили тут когда-то твои пращуры, пускались, словно Колумбы, в сухой океан степей. И не раз, бывало, их тут косила чума и глаза еще у живых выклевывало воронье. Сквозь столетия, сквозь чуму, сквозь пожары пролегает этот путь, путь мужественных трудовых людей, страдный путь невольников и невольниц, которых со скрученными за спиной руками гнали в полон в Крым, шлях рыцарей запорожских, топотом своей конницы будивших весь край… Сколько крови и слез вобрала в себя эта многострадальная земная дорога, что звездами и созвездиями навеки отразилась в темном зеркале неба ночного!.. Дальше и дальше пойдет магистральный, ровной трассой пройдет он через Перекоп, через Турецкий вал, через вековечное поле многих кровопролитных сражений. Через стрелы татарские, ржавые патроны английские, через прах погибших революционных бойцов… Проходят века, волею людей изменяется география степи, другими становятся и люди, и ветры, и травы, остается неизменной только эта безмерная ширь степная да высокий Чумацкий Шлях, что мерцает над нею, усыпанный мириадами звезд. А впрочем, теперь уже известно, что изменяются и звезды, и наше солнце, так же как и люди. Но каждый ли поддается изменениям, можно ли души ковать, как металл, и не пустые ли это девичьи мечтания, что Египту тоже можно сделать совсем другим, безупречным? «Все это так сложно, — думает Лина, — так нелегко найти основу основ, постигнуть природу человека…» Вода по каналу понесет в степи жизнь, вольет свежесть в растения, ну а вольет ли она свежесть также и в души людские? Очистит ли она ту житейскую накипь и грязь, которой еще немало вокруг? Чистоты жаждет душа, но это, видно, даром не дается, за это пока только воюй да воюй. На днях Брага сцепился с кассиром, что привез заработную плату, кричал ему, глухому, в ухо: «Мы не только бульдозеристы, мы сантехники нашей эпохи! Такими нас и запишите. Борьба против чертополоха жизни — вот наша вторая профессия, а в вашей ведомости это не указано!..»
— Ждут сыны, ждут соколы, — приговаривает в темноте тетка Катерина.
А Василина успокаивает:
— Ничего с ними не случится.
— Погоди, сама станешь матерью, еще не то запоешь. Мальчишка, он мальчишка и есть. Все его к железу тянет. На той неделе прибегает Толик из города, в руках ржавая коробка: «Мама, что это?» А я глянула — и похолодела: мина! Ведь тут в земле пакости этой — где ни копнешь, там и наткнешься.
Звездно, тихо в пространстве. Где-то далеко на совхозных полях ровно, по-пчелиному гудит трактор; у походной мастерской мелькает переносная лампа: там все еще продолжается возня около бульдозера Кузьмы, слышны голоса, стук. Лина прислушивается к этим звукам. Вот они, люди трудной жизни. Были солдатами. Стали рабочими. Их руки привычны к рычагам, к рулю, к шоферским баранкам… Жизнь у них не тихая. Скитаются по стройкам, по дорогам, по чайным. Так и живут. В будние дни кубы дают. По праздникам в домино режутся. Грубые, как правда. Чистые, как небо. С ними она связала свою судьбу и не жалеет об этом.
— Вот ведь как трудятся, не щадят себя, — говорит Бражиха. — Если бы все так к своему делу относились, далеко бы мы уже были. А то вон Черненькую затапливает, вода просачивается из нашего канала, хаты у людей уже поразмокали, среди сухой степи болото образовалось, а почему? Потому что тот, кто проектировал, хоть его и учили, а он с холодной душой свое дело делал. Спустя рукава, лишь бы отделаться. А теперь вся Черненькая клянет его… Или даже то Кахморе возьмите. Хотя мы с Левком Иванычем и строили его, а проку в нем немного я вижу. Большое болото сделали, сто сорок тысяч гектаров леса в плавнях пустили под нож — разве ж это по-хозяйски? Разве нельзя было дамбами добрую половину тех плавней огородить? А берега? Обсадить обещали, так и поныне обсаживают языками. А люди теперь на нас, на строителей, жалуются. Возле моря живут, а напиться негде, волной берег все больше и больше разрушает, чернозем размывает все дальше, и не знаешь, где будет этому конец. Придет переселенка с коромыслом к берегу да полчаса над обрывом и провозится, пока воды там зачерпнет.
— Но мы же воду для нашего канала берем как раз из Каховского моря, — напомнила Василинка.
— Вот это разве только морю и оправдание. Досадно, когда человек кое-как к делу своему относится, — вот что я скажу! Начальник СМУ неделями у нас не бывает, разве же так руководят? — говорит Бражиха, и в голосе ее клокочет гнев, который она при первой же возможности готова выплеснуть прямо в глаза начальнику СМУ.
Всякий раз, как только он появляется, Бражиха не упускает случая пожаловаться на бесквартирность, на невзгоды кочевой жизни и на то, что дети ее учатся уже в четвертой школе…
— Не пора ли нам спать? — говорит Василина и встает, потягиваясь.
— Вы идите, ложитесь, а я еще подожду своего.
Девушки идут к вагончику, а Бражиха долго сидит, одиноко вглядываясь в небесный звездный шлях, в его светлые туманы, созвездия.
Вот он шумит сейчас, приплясывает на гусенице, а наступит вечер, приплетется Кузьма к вагончикам, как побитый, спешенный и поникший, остановится перед бригадиром, а тот в это время уже бреется после работы, готовится ехать с женой в село к сыновьям. Бреется Левко Иванович, а сам напевает, как песенку, какое-то стихотворение, прочитанное им еще зимой; к нему он подобрал и свой собственный нехитрый мотив: «Лишь правда извечна, а то все трава!..» Проведет бритвой, намылит щеку и снова еще громче: «А то все трава!.. А то все трава!..»
— Левко Иваныч, — наконец осмеливается прервать его Кузьма. — Снова с моим что-то… Еле из забоя выбрался.
— Спазмы? Тромбы? Или, может, инфаркт?
— Не знаю, — чуть слышно тянет Кузьма, а сам старается спрятать смущение под густыми бровями, посеревшими от пыли.
— И что же теперь будет? — закончив бритье и вытягивая шею перед зеркальцем, прилаженным к карнизу вагончика, спрашивает бригадир. — Повесим носы, пусть повисят или как?
Тетка Катерина, сообразив, чем все это угрожает, спешит напомнить мужу:
— Мы с тобой собрались детей навестить!
— Отойди, солнышко, не то как бы мне не порезаться!
— Ну, скребись побыстрее да едем!
— Сначала поглядим, что там у него, — складывая бритву, говорит Левко Иванович и, продолжая напевать свой мотивчик, отправляется с Кузьмой к танку, где уже сбились стадом несколько бульдозеров в ожидании, когда освободится укрепленный на танке кран. (К вечеру возле танка всегда многолюдно — за день обязательно набежит какой-нибудь ремонт.)
Сердитым, ревнивым взглядом следит Бражиха за мужем, и ей хочется на всю степь закричать, когда она видит, как муж, скинув чистую сорочку, которую только что успел надеть, снова натягивает на себя рабочую куртку и лезет под брюхо Кузькиного бегемота. Долго не вылезает. Кузьма ему туда еще и электрической лампой подсвечивает, потому что под бульдозером уже темно. Вздохнув, присмиревшая Бражиха упавшим голосом жалуется девушкам, замечтавшимся на пороге вагончика:
— Теперьуже на всю ночь.
Всю тяжесть мужниной работы она ощущает даже не тогда, когда он трудится, роет землю, набирает и выбрасывает ее из забоев на поверхность, а больше всего когда подгонит к танку свой бульдозер и начинает возиться возле него или, вот как сейчас, помогает ремонтировать кому-то из своих товарищей. Если взялся, то его уже не оторвешь, до поздней ночи не вытянешь. Придет потом словно выжатый, но зато довольный, что дело свое сделал. Она знает мужнину работу, знает, как достается ему в сырые, холодные зимы, когда, не переставая, льют дожди или бушует метель, — в такой холод, кажется, немыслимо к железу и прикоснуться голыми руками, а он спокойно берет, ощупывает железные мускулы. С утра и до ночи без тепла, на ветру, в кабине сквозняки, фуфайка насквозь продувается, а тут тебя еще и радикулит ломает — профессиональный недуг бульдозериста. Или, скажем, весной, когда черная буря гудит над степью, когда так затянет небо, что и работать приходится при свете фар, и солнце в небе тоже, как подслеповатая фара, чуть-чуть поблескивает в пыли…
— Этой весной буря прошла какая-то вроде бы маслянистая, липкая, будто с нефтью. Не с Каспия ли нанесло? — говорит тетка Катерина, присев рядом с девчатами на ступеньках вагончика. — Так, бывало, насечет за день, что потом не отмоешься, одежду не отстираешь, хоть выбрасывай. Не выходите, девчата, ни за бульдозеристов, ни за скреперистов, — невесело пошутила она.
При упоминании о скреперистах Лине почему-то представился Египта, озорной, веселый. Он сейчас небось, оставив свой скрепер, ужинает где-нибудь в чайной беззаботно и при этом игриво подмигивает какой-нибудь девчонке своими цыганскими глазами. Или, может, в драку какую попал, он до этого охоч; а может, взяли его дружинники, а то где-нибудь в дороге громыхает по степи и везет ей, Лине, полный шестикубовый ковш абрикосов — улыбнулась она этой шутке Египты и загляделась на небо, вдоль которого от края до края высеялся звездами Чумацкий Шлях. Чумацким Шляхом назван когда-то этот изгиб Галактики. Магистральный канал проходит на юг как раз по этой звездной трассе, по которой молодая революция шагала в обмотках на штурм Перекопа, а в старину со всей Украины шли тысячи чумацких мажар, чтобы нагрузиться солью на крымских соляных озерах. Босыми ногами проходили тут когда-то твои пращуры, пускались, словно Колумбы, в сухой океан степей. И не раз, бывало, их тут косила чума и глаза еще у живых выклевывало воронье. Сквозь столетия, сквозь чуму, сквозь пожары пролегает этот путь, путь мужественных трудовых людей, страдный путь невольников и невольниц, которых со скрученными за спиной руками гнали в полон в Крым, шлях рыцарей запорожских, топотом своей конницы будивших весь край… Сколько крови и слез вобрала в себя эта многострадальная земная дорога, что звездами и созвездиями навеки отразилась в темном зеркале неба ночного!.. Дальше и дальше пойдет магистральный, ровной трассой пройдет он через Перекоп, через Турецкий вал, через вековечное поле многих кровопролитных сражений. Через стрелы татарские, ржавые патроны английские, через прах погибших революционных бойцов… Проходят века, волею людей изменяется география степи, другими становятся и люди, и ветры, и травы, остается неизменной только эта безмерная ширь степная да высокий Чумацкий Шлях, что мерцает над нею, усыпанный мириадами звезд. А впрочем, теперь уже известно, что изменяются и звезды, и наше солнце, так же как и люди. Но каждый ли поддается изменениям, можно ли души ковать, как металл, и не пустые ли это девичьи мечтания, что Египту тоже можно сделать совсем другим, безупречным? «Все это так сложно, — думает Лина, — так нелегко найти основу основ, постигнуть природу человека…» Вода по каналу понесет в степи жизнь, вольет свежесть в растения, ну а вольет ли она свежесть также и в души людские? Очистит ли она ту житейскую накипь и грязь, которой еще немало вокруг? Чистоты жаждет душа, но это, видно, даром не дается, за это пока только воюй да воюй. На днях Брага сцепился с кассиром, что привез заработную плату, кричал ему, глухому, в ухо: «Мы не только бульдозеристы, мы сантехники нашей эпохи! Такими нас и запишите. Борьба против чертополоха жизни — вот наша вторая профессия, а в вашей ведомости это не указано!..»
— Ждут сыны, ждут соколы, — приговаривает в темноте тетка Катерина.
А Василина успокаивает:
— Ничего с ними не случится.
— Погоди, сама станешь матерью, еще не то запоешь. Мальчишка, он мальчишка и есть. Все его к железу тянет. На той неделе прибегает Толик из города, в руках ржавая коробка: «Мама, что это?» А я глянула — и похолодела: мина! Ведь тут в земле пакости этой — где ни копнешь, там и наткнешься.
Звездно, тихо в пространстве. Где-то далеко на совхозных полях ровно, по-пчелиному гудит трактор; у походной мастерской мелькает переносная лампа: там все еще продолжается возня около бульдозера Кузьмы, слышны голоса, стук. Лина прислушивается к этим звукам. Вот они, люди трудной жизни. Были солдатами. Стали рабочими. Их руки привычны к рычагам, к рулю, к шоферским баранкам… Жизнь у них не тихая. Скитаются по стройкам, по дорогам, по чайным. Так и живут. В будние дни кубы дают. По праздникам в домино режутся. Грубые, как правда. Чистые, как небо. С ними она связала свою судьбу и не жалеет об этом.
— Вот ведь как трудятся, не щадят себя, — говорит Бражиха. — Если бы все так к своему делу относились, далеко бы мы уже были. А то вон Черненькую затапливает, вода просачивается из нашего канала, хаты у людей уже поразмокали, среди сухой степи болото образовалось, а почему? Потому что тот, кто проектировал, хоть его и учили, а он с холодной душой свое дело делал. Спустя рукава, лишь бы отделаться. А теперь вся Черненькая клянет его… Или даже то Кахморе возьмите. Хотя мы с Левком Иванычем и строили его, а проку в нем немного я вижу. Большое болото сделали, сто сорок тысяч гектаров леса в плавнях пустили под нож — разве ж это по-хозяйски? Разве нельзя было дамбами добрую половину тех плавней огородить? А берега? Обсадить обещали, так и поныне обсаживают языками. А люди теперь на нас, на строителей, жалуются. Возле моря живут, а напиться негде, волной берег все больше и больше разрушает, чернозем размывает все дальше, и не знаешь, где будет этому конец. Придет переселенка с коромыслом к берегу да полчаса над обрывом и провозится, пока воды там зачерпнет.
— Но мы же воду для нашего канала берем как раз из Каховского моря, — напомнила Василинка.
— Вот это разве только морю и оправдание. Досадно, когда человек кое-как к делу своему относится, — вот что я скажу! Начальник СМУ неделями у нас не бывает, разве же так руководят? — говорит Бражиха, и в голосе ее клокочет гнев, который она при первой же возможности готова выплеснуть прямо в глаза начальнику СМУ.
Всякий раз, как только он появляется, Бражиха не упускает случая пожаловаться на бесквартирность, на невзгоды кочевой жизни и на то, что дети ее учатся уже в четвертой школе…
— Не пора ли нам спать? — говорит Василина и встает, потягиваясь.
— Вы идите, ложитесь, а я еще подожду своего.
Девушки идут к вагончику, а Бражиха долго сидит, одиноко вглядываясь в небесный звездный шлях, в его светлые туманы, созвездия.
 Ждет Бражиха. И она дождется, когда, закончив работу, с облегчением загомонит возле танка мужнина бригада, услышит она шутки этих неутомимых гвардейцев, возвращающихся к своему вагончику, услышит и веселый голос Левка Ивановича, обращенный к кому-то:
— А они ж думали, как магистральный строится… И днем строится, и ночью!..
Подошли к Катерине, стали подшучивать, что долго не спит, и еще папиросы свои не докурили перед сном, как в степи послышался грохот, ударил свет фар, и вместо замолкшего сердитого рычания агрегата прозвучал голос Египты:
— Где прораб? Подайте мне его сюда!
— Я тут, — из темноты командирского вагончика отозвался прораб. — Что тебе?
— Вы мне плюнули в душу!
— Это как же?
— Не знаете как? Перегон пустой!
— Неувязка вышла.
— В печенках у меня ваши неувязки! Разве для того живу, чтобы холостые перегоны делать? Я же вам не пигмей какой-нибудь! Пылищу поднял по шляху, тридцать километров пыли поднял — только и всего!.. А я не хочу для пыли!..
— Заплатят! — донеслось из будки.
— Не хочу я вашей дурной платы! Какая цена дню, прожитому впустую? Эти вот здесь ишачили день, так хоть знали для чего, а я? Натурой верните мне этот день! Не галочкой в наряде, а день жизни верните!
На крик Египты собрались бульдозеристы, показались в дверях и девчата. Только теперь, когда он вернулся, Лина почувствовала, что душа ее встала на место, спать она будет спокойно.
А Египта между тем, подстрелив у кого-то сигарету, уже весело рассказывал товарищам, что нет, все же не даром и он этот день прожил…
— Еду по степи, как вдруг глядь — бугай огромный человека топчет. Я, как тореадор, скрепером на него, а он только сопит, запенился, глаза кровью налиты, будто у какого самодура-бюрократа. Ну, я его все-таки оттиснул, человека спас, — правда, оказалось, что это наш начальник рабснабжения: если бы знал, так еще подумал бы, надо ли спасать!
В ответ взрыв хохота. Но скоро и он утихнет, лагерь окутается сном, и слышен будет только стрекот кузнечиков в звездных просторах теплой степной ночи.
И снова наступает трудовое утро; бульдозеры уже подошли к кургану, и теперь не женщины-археологи своими нежными пальчиками выбирают в нем черепочки, а могучие машины режут его стальными лемехами, разравнивают, разгребают. Работаешь — и только диву даешься, кто смог насыпать этот курган и чем его насыпали, такой высокий, шапками ли сюда таскали землю по древнему воинскому обычаю, шлемами или еще как? Чем глубже врезается в землю Кузьма Осадчий, тем отчетливее видит, что курган этот, как книга, сложен страницами-пластами: слой земли, под ним прокладка настланной кем-то морской травы, потом снова слой земли, под ним опять прокладка морской травы, которая и за века не перегнила, лишь слежалась, плесенью взялась. Где же те амфоры, в которых сберегали древние пшеничное зерно с грецкий орех?
Разровняли и курган, из грунта его сделали крылья канала, называющиеся кавальерами, и дальше пошли в степи перекопские.
Степи перекопские… Наверное, нет другого такого места на планете, где тело земли было бы так густо начинено металлом войны, где стрелки компасов так танцевали бы от искусственных аномалий. Словно по фронтовым дорогам, прошли саперы впереди строителей магистрального канала, вынимая из земли проржавевшие мины, тяжелые авиабомбы и целые свалки артиллерийских снарядов, что, как гадюки в гадючнике, дремали в этой земле, скрытые бурьянами. Саперы с удилищами миноискателей, в вылинявших болотного цвета панамах, которые пикетажисткам казались такими необычными на солдатских головах, были учтивыми и компанейскими хлопцами. Они даже позволили девушкам взять в руки свои удилища и надеть наушники, чтобы те услышали голос этой загадочной земли. А на прощание еще и сфотографировали Василинку и Лину с этими наушниками и миноискателями.
Однако не на всю нужную глубину, видно, прослушивают землю и эти чуткие устройства, по-птичьи попискивают они и там, где должны были бы замолкнуть. Как-то утром, когда Кузьма Осадчий прорубал свежую траншею, под лемехами его бульдозера вдруг что-то резко заскрежетало. Остановив агрегат, Кузьма соскочил на землю, с виноватым видом наклонился к гусенице, а к нему уже торопились бригадир и другие бульдозеристы.
— Что у тебя опять? — крикнул Брага, но, заглянув под гусеницу, сразу же отстранил рукой и Кузьму, и всех собравшихся: — А ну все отсюда!
Отогнав людей, бригадир только сам по праву бывшего подрывника остался на месте происшествия, да с ним еще Куцевол, который служил в войну сапером, разминировал Вену, где и сейчас будто бы еще не слиняло на стенах: «Разминировал Куцевол».
Прораб сразу же послал самосвал за командой подрывников, а пока что моторы были заглушены, агрегаты остановлены, на всем участке работ — тишина и стрекот цикад. Лишь возле грозной находки Кузьмы, черной, похожей на опаленную свиную тушу авиабомбы, Брага и Куцевол соображают что-то, копошатся вдвоем под самыми гусеницами. Вскоре Брага забрался в кабину и осторожно, как только он умеет, подал машину Кузьмы слегка назад, и строители сразу увидели всю бомбу целиком; вот она, уже извлеченная из земли, стоит торчком, а возле нее спокойный Куцевол. По правилам сапера он должен огородить это место, пометить: не подходи, мол, опасность! Не найдя ничего другого под рукой, он снимает свой засаленный, заношенный картуз, нахлобучивает его на бомбу, как на снеговую бабу. Нахлобучил да еще чуть прижал, будто надвинул на глаза, — и бомба сразу стала какой-то смешной в этом картузе, похожей на огородное чучело.
Ждет Бражиха. И она дождется, когда, закончив работу, с облегчением загомонит возле танка мужнина бригада, услышит она шутки этих неутомимых гвардейцев, возвращающихся к своему вагончику, услышит и веселый голос Левка Ивановича, обращенный к кому-то:
— А они ж думали, как магистральный строится… И днем строится, и ночью!..
Подошли к Катерине, стали подшучивать, что долго не спит, и еще папиросы свои не докурили перед сном, как в степи послышался грохот, ударил свет фар, и вместо замолкшего сердитого рычания агрегата прозвучал голос Египты:
— Где прораб? Подайте мне его сюда!
— Я тут, — из темноты командирского вагончика отозвался прораб. — Что тебе?
— Вы мне плюнули в душу!
— Это как же?
— Не знаете как? Перегон пустой!
— Неувязка вышла.
— В печенках у меня ваши неувязки! Разве для того живу, чтобы холостые перегоны делать? Я же вам не пигмей какой-нибудь! Пылищу поднял по шляху, тридцать километров пыли поднял — только и всего!.. А я не хочу для пыли!..
— Заплатят! — донеслось из будки.
— Не хочу я вашей дурной платы! Какая цена дню, прожитому впустую? Эти вот здесь ишачили день, так хоть знали для чего, а я? Натурой верните мне этот день! Не галочкой в наряде, а день жизни верните!
На крик Египты собрались бульдозеристы, показались в дверях и девчата. Только теперь, когда он вернулся, Лина почувствовала, что душа ее встала на место, спать она будет спокойно.
А Египта между тем, подстрелив у кого-то сигарету, уже весело рассказывал товарищам, что нет, все же не даром и он этот день прожил…
— Еду по степи, как вдруг глядь — бугай огромный человека топчет. Я, как тореадор, скрепером на него, а он только сопит, запенился, глаза кровью налиты, будто у какого самодура-бюрократа. Ну, я его все-таки оттиснул, человека спас, — правда, оказалось, что это наш начальник рабснабжения: если бы знал, так еще подумал бы, надо ли спасать!
В ответ взрыв хохота. Но скоро и он утихнет, лагерь окутается сном, и слышен будет только стрекот кузнечиков в звездных просторах теплой степной ночи.
И снова наступает трудовое утро; бульдозеры уже подошли к кургану, и теперь не женщины-археологи своими нежными пальчиками выбирают в нем черепочки, а могучие машины режут его стальными лемехами, разравнивают, разгребают. Работаешь — и только диву даешься, кто смог насыпать этот курган и чем его насыпали, такой высокий, шапками ли сюда таскали землю по древнему воинскому обычаю, шлемами или еще как? Чем глубже врезается в землю Кузьма Осадчий, тем отчетливее видит, что курган этот, как книга, сложен страницами-пластами: слой земли, под ним прокладка настланной кем-то морской травы, потом снова слой земли, под ним опять прокладка морской травы, которая и за века не перегнила, лишь слежалась, плесенью взялась. Где же те амфоры, в которых сберегали древние пшеничное зерно с грецкий орех?
Разровняли и курган, из грунта его сделали крылья канала, называющиеся кавальерами, и дальше пошли в степи перекопские.
Степи перекопские… Наверное, нет другого такого места на планете, где тело земли было бы так густо начинено металлом войны, где стрелки компасов так танцевали бы от искусственных аномалий. Словно по фронтовым дорогам, прошли саперы впереди строителей магистрального канала, вынимая из земли проржавевшие мины, тяжелые авиабомбы и целые свалки артиллерийских снарядов, что, как гадюки в гадючнике, дремали в этой земле, скрытые бурьянами. Саперы с удилищами миноискателей, в вылинявших болотного цвета панамах, которые пикетажисткам казались такими необычными на солдатских головах, были учтивыми и компанейскими хлопцами. Они даже позволили девушкам взять в руки свои удилища и надеть наушники, чтобы те услышали голос этой загадочной земли. А на прощание еще и сфотографировали Василинку и Лину с этими наушниками и миноискателями.
Однако не на всю нужную глубину, видно, прослушивают землю и эти чуткие устройства, по-птичьи попискивают они и там, где должны были бы замолкнуть. Как-то утром, когда Кузьма Осадчий прорубал свежую траншею, под лемехами его бульдозера вдруг что-то резко заскрежетало. Остановив агрегат, Кузьма соскочил на землю, с виноватым видом наклонился к гусенице, а к нему уже торопились бригадир и другие бульдозеристы.
— Что у тебя опять? — крикнул Брага, но, заглянув под гусеницу, сразу же отстранил рукой и Кузьму, и всех собравшихся: — А ну все отсюда!
Отогнав людей, бригадир только сам по праву бывшего подрывника остался на месте происшествия, да с ним еще Куцевол, который служил в войну сапером, разминировал Вену, где и сейчас будто бы еще не слиняло на стенах: «Разминировал Куцевол».
Прораб сразу же послал самосвал за командой подрывников, а пока что моторы были заглушены, агрегаты остановлены, на всем участке работ — тишина и стрекот цикад. Лишь возле грозной находки Кузьмы, черной, похожей на опаленную свиную тушу авиабомбы, Брага и Куцевол соображают что-то, копошатся вдвоем под самыми гусеницами. Вскоре Брага забрался в кабину и осторожно, как только он умеет, подал машину Кузьмы слегка назад, и строители сразу увидели всю бомбу целиком; вот она, уже извлеченная из земли, стоит торчком, а возле нее спокойный Куцевол. По правилам сапера он должен огородить это место, пометить: не подходи, мол, опасность! Не найдя ничего другого под рукой, он снимает свой засаленный, заношенный картуз, нахлобучивает его на бомбу, как на снеговую бабу. Нахлобучил да еще чуть прижал, будто надвинул на глаза, — и бомба сразу стала какой-то смешной в этом картузе, похожей на огородное чучело.
 Пометив таким способом опасное место, к которому нельзя подходить, Куцевол побрел к своему бульдозеру и, чтобы не терять попусту время, повел его мимо бомбы вперед разрабатывать трассу дальше.
Работа возобновилась, бульдозеристы то и дело выглядывали из кабин и посмеивались, глядя на чудовище, уже переставшее быть страшным в затасканном Куцеволовом картузе. Лишь Кузьма Осадчий все еще не мог подавить в себе чувство тревоги; работая, он постоянно прислушивался к тому, что делается внизу, и ему временами казалось, будто опять он слышит в земле под гусеницами угрожающий металлический скрежет.
Команда подрывников прибыла во второй половине дня. Вместе с Брагой и Куцеволом они втащили бомбу в самосвал и повезли ее в степь, откуда вскоре донесся взрыв и вслед за тем поднялась туча степной пыли, похожая на вихрь. Девчата, оцепенев, стояли со своими пестрыми рейками в руках, прислушивались, как тает в степи грохот взрыва, этот запоздалый отголосок войны.
День за днем продвигаются вперед строители магистрального. Слепящая степь окружает их, океаном солнца залито все впереди, но из той светлой дали до строителей время от времени долетают глухие удары взрывов, заставляющих и пикетажисток, и Кузьму Осадчего, и всех бульдозеристов на мгновение настораживаться. Потом они снова двигаются дальше, вспомнив, что эти встречные взрывы доносятся к ним из евпаторийских степей, где в карьерах открытым способом добывают строительный камень-ракушечник. На тысячи гектаров, на многие километры вокруг раскинулись эти степные каменоломни, а над ними то и дело раздаются взрывы и встают желто-бурые облака, но это не атомные облака! После того как взрывы раскидают верхний слой грунта, под ним открываются пласты морского золотистого камня — остаток доисторических морей. Машины режут его, как масло. Затем его грузят и развозят по стройкам в степные города, совхозы и колхозы; пригоден этот камень и для некоторых сооружений канала, где со временем он, состарившись, из золотисто-желтого станет темно-серым, похожим на тот древний, вечный, из которого были когда-то построены Херсонес севастопольский и гордая эллинская Ольвия над днепровским лиманом.
Пометив таким способом опасное место, к которому нельзя подходить, Куцевол побрел к своему бульдозеру и, чтобы не терять попусту время, повел его мимо бомбы вперед разрабатывать трассу дальше.
Работа возобновилась, бульдозеристы то и дело выглядывали из кабин и посмеивались, глядя на чудовище, уже переставшее быть страшным в затасканном Куцеволовом картузе. Лишь Кузьма Осадчий все еще не мог подавить в себе чувство тревоги; работая, он постоянно прислушивался к тому, что делается внизу, и ему временами казалось, будто опять он слышит в земле под гусеницами угрожающий металлический скрежет.
Команда подрывников прибыла во второй половине дня. Вместе с Брагой и Куцеволом они втащили бомбу в самосвал и повезли ее в степь, откуда вскоре донесся взрыв и вслед за тем поднялась туча степной пыли, похожая на вихрь. Девчата, оцепенев, стояли со своими пестрыми рейками в руках, прислушивались, как тает в степи грохот взрыва, этот запоздалый отголосок войны.
День за днем продвигаются вперед строители магистрального. Слепящая степь окружает их, океаном солнца залито все впереди, но из той светлой дали до строителей время от времени долетают глухие удары взрывов, заставляющих и пикетажисток, и Кузьму Осадчего, и всех бульдозеристов на мгновение настораживаться. Потом они снова двигаются дальше, вспомнив, что эти встречные взрывы доносятся к ним из евпаторийских степей, где в карьерах открытым способом добывают строительный камень-ракушечник. На тысячи гектаров, на многие километры вокруг раскинулись эти степные каменоломни, а над ними то и дело раздаются взрывы и встают желто-бурые облака, но это не атомные облака! После того как взрывы раскидают верхний слой грунта, под ним открываются пласты морского золотистого камня — остаток доисторических морей. Машины режут его, как масло. Затем его грузят и развозят по стройкам в степные города, совхозы и колхозы; пригоден этот камень и для некоторых сооружений канала, где со временем он, состарившись, из золотисто-желтого станет темно-серым, похожим на тот древний, вечный, из которого были когда-то построены Херсонес севастопольский и гордая эллинская Ольвия над днепровским лиманом.
Полигон (История одной любви)
Среди степных вечерних курганов, в мглистой дымке сереющих на небосклоне, выделяется один курган особенный: вишнево-красный. Все уменьшается, тает этот вишнево-красный курган… Вот и растаял, исчез на глазах: зашло, спряталось за горизонтом солнце. Солнце скрылось, а отблески неба еще играют на стреловидных блестящих ракетах, которые, сколько видит глаз, высятся по всей степи, словно обелиски. Ни деревца нигде, ни дорог, ни человеческого жилья. Только степь да ракеты. Одни лежат, другие чуть приподнялись и, наклонившись под определенным углом, замерли в ракетных гнездах, третьи стоят торчком, нацеленные в небо, затаив силу молний в своих тугих, налитых телах. Мир безмолвия и грусти, мир, созданный словно бы в предостережение человеку. Только и нарушают изредка тишину этих неоглядных просторов страшной силы взрывы, ибо все тут предназначено для ударов, для поражений, для попадания в цель. Безжизненное, ненастоящее, призрачное все здесь: и беленькие реактивные истребители, что, распластавшись, притаились среди трав, — у этих самолетов отняты души, и они уже никуда не полетят; и судно, виднеющееся в море, — это судно никуда не поплывет; и черные грузовики полевых радиостанций, которые темнеют вдали, разбросанные по степи между ракетами, они так и будут темнеть день за днем на одном месте, ибо они ненастоящие; да и сами обелиски-ракеты — это только мишени, только умело поставленные кем-то в этих безлюдных просторах макеты боевых ракет. И как-то странно среди этого безмолвия и неподвижности вдруг увидеть силуэт «газика», который живо движется вдоль горизонта, маленький, как мышка, рядом с высокими сверкающими ракетами. Непривычно видеть, как возле одного из курганов, где «газик» прерывает свой бег, из него выходит человек — одинокий человек в фуражке летчика и кожаной блестящей куртке. Медленным шагом поднимается человек на курган, останавливается на его вершине и надолго застывает в скорбном молчании, как застыли и эти обелиски-ракеты, до самого горизонта заполняющие степь своим угасающим вечерним величием. Что привело на курган этого человека? Какие думы владеют им, какую тревогу носит он в своем сердце? Стоит в задумчивости, стоит недвижно в вечерних сумерках. Какому-нибудь чабану с совхозных земель издали и сам этот силуэт на полигонном кургане мог бы показаться лишь макетом человека, маленьким макетом, застывшим среди других исполинских макетов, в этом запретном суровом мире, имя которому полигон. Но это не макет. На кургане стоит Уралов. Начальник полигона Уралов, жизнь которого целиком подчинена летчикам и который теперь только с земли переговаривается с самолетами, когда они, преодолев огромные расстояния, приближаются к полигону с грозной своей кладью, — этот Уралов в недавнем прошлом сам был летчиком-истребителем. Как большинство людей его профессии, на которых сама стремительность их жизни как бы накладывает свой отпечаток, он был жизнелюбом, пылким и общительным парнем, его манили все новые и новые скорости, привлекал риск. Летал, со спортивным азартом гонялся за воздушными целями, расстреливая их разноцветными зарядами (чтоб оставить след на макете), пока однажды во время очередного медосмотра ему не сказали: — Хватит, браток, отлетался. Отныне тебе привыкать к наземной службе… Уралов не мог смириться с этим. Поехал в Москву, обивал пороги кабинетов суровых военных врачей. Многие начальники выслушивали этого щуплого аса с бледным, словно бы все время взволнованным лицом и с речью резкой, нервной, требовательной. — Я чувствую себя здоровым, понимаете? Хочу летать, понимаете? Надо — на руках перед вами по кабинету пройду! — Не надо нам на руках. — Но я ведь здоров, почему не верите? Лицо его бледнело еще больше, и на этой бледности еще ярче выступали синие, небесно-синие капельки глаз. Там, в штабных коридорах, случайно встретил генерала, бывшего своего комдива, который хорошо знал его, Уралова, по общей службе в оккупационных войсках. Генерал летел куда-то на новое, дальнее назначение. Он торопился, однако Уралову обрадовался, как сыну, расспросил, почему здесь, внимательно выслушал. — Что-то мудрят они с тобой, Уралов… А ну, пойдем! И повел к кому следует, дал соответствующую характеристику: — Поручиться могу за него: командиром звена был, отличный летчик! Ас! Но и это не помогло. Ибо есть что-то сильнее всех этих людей, есть межа, которую никто не властен переступить, будь ты героем из героев. И вот он со своим видавшим виды чемоданом, бледнолицый сухопутный ас, уже протискивается в автобус Москва-Внуково, протискивается, зацепляясь за автобусную дверцу своей роскошной летной фуражкой, которая отныне стала казаться ему чересчур большой и словно становилась все больше, будто ощутимо росла на его голове. Сел, забился в уголок. И было тяжело, невыразимо тяжело у него на душе, и жизнь казалась ненужной. Неподалеку от него у окна сидели трое, с виду студенты — две девушки и парень с рюкзаком. Славный такой хлопец, только лицо покрыто шрамами, будто он горел или был ранен, хотя по возрасту своему и не мог знать войны. Напротив сидели его спутницы, рослые, красивые девушки. Одна из них, белянка в желтой вязаной кофте, все поглядывала на летчика, тихо переговаривалась с подругой и смеялась, — может, ей казался смешным этот кислый остроносый летчик или его большая фуражка, неуклюжесть которой Уралов и сам все время ощущал. А может, она просто так смеялась, только потому, что была молода и счастлива, полна здоровья, и день был чудесный, солнечный, и за окном экспресса пролетали ослепительно белые березовые рощи. Пролетали как сказка, как причудливая фантазия, а девушка что-то говорила певуче об этих березах, о том, как они хороши и чисты. Да и она тоже была сама чистота, солнечность, улыбка природы, и великим мог бы стать художник, который сумел бы все это передать. Уралов потом видел их в аэропорту, когда парень покупал им конфеты, а девушки стояли у телеэкрана, где дают справки о рейсах самолетов. И еще раз видел их при выходе у таблички «На Сочи». Может, они встречали кого-то или же сами собирались лететь, это осталось ему неизвестным. Им было весело. Они и здесь, словно развлечения ради, то и дело поглядывали на летчика, улыбаясь. А когда ему пришло время отправляться, та, что в желтой, цвета подсолнечника, кофте, еще раз так славно, так незабываемо улыбнулась ему! И пока он шел с группой пассажиров к маленькому аэродромному автобусу, чтоб ехать к своему самолету, три руки из-за барьера — две девичьи и одна юношеская — все махали ему, желали счастливого полета и как будто говорили: «Не унывай, летчик, не поддавайся горю!» И подумалось тогда, какую большую поддержку могут оказать тебе в таком вот душевном состоянии совершенно незнакомые люди, три добрых сердца, три души, с которыми ты, верно, навсегда разминулся в океане человечества. Долго потом жили в его душе и те прощальные взмахи рук, и светлые, чистые улыбки незнакомых людей, которые как бы осветили ему дорогу из Внуково. Предложили ему, как и обещано было, наземную службу. Придя домой, сказал жене: — Предлагают полигон. — И ты согласился? — Я солдат. — Ты хочешь, чтобы я век прожила в казарме? Квартиру с видом на море менять на какую-то глухомань! Другим рестораны и театры, а меня туда, где, чего доброго, еще и бомбу на голову сбросит какой-нибудь ротозей! Нет, благодарю покорно! Не поеду! И не поехала. Уехал он один. Барсуком жил в закутке полигонной казармы, где со стены улыбалась Джоконда, к которой только и обращалась душа в минуты отчаяния и одиночества: «Да, я солдат. Если нужен здесь — буду здесь. Если из летчика надо стать кротом подземным — стану кротом. А скажет отчизна: „Снарядом стань!“ — стану снарядом, ракетой стану, черт возьми!» И это не было пустым бахвальством. Человек долга и чести, человек, который ради дела, ради товарища готов к самопожертвованию, — таким его знало командование, и таким он в действительности был. А тем временем — жизнь в неуютном полигонном бараке, откуда Джоконде твоей только и видны желтые безрадостные кучегуры песка, подступающие к самым окнам, да стенд, вбитый среди колючек и молочая: «Воин, выполняй устав безупречно, смело и честно!» Под этим девизом теперь проходила его жизнь. Холостяцкий беспорядок комнаты. Кучи книг по углам. Пудовые альбомы репродукций… Порой зубами скрежещешь от тоски по тому, что было. Друзья где-то без тебя летают… А ты с неба, с полетов, где пела душа, брошен в эти знойные пески, в дурманящие чабрецы, в заросли колючек, которые, если настоять их на водке, якобы излечивают какие-то болезни. Неравнодушный к живописи, Уралов и сам, бывало, понемногу рисовал. Этюды его сверкали красками яркими, полыхающими, а здесь и этюдник засох, припорошенный пылью, — Уралов терпеть не мог эти серо-желтые пустынные тона, окружавшие его. Бесцветность, полигонная пустыня, песчаные барханы, которые тянутся до самого горизонта, — при одном взгляде на них так тоскливо становится, хоть волком вой. Арена песков, пустота, царство ящериц, да и сам ты тут, как ящерица, живешь. А когда выпадет забраться подальше в те необозримые пески, то окажется, что все они в воронках, в ямах, изрытые, расковырянные, живого места нет. Песок точно начинен металлом, тонны можно было бы в утиль сдавать, солдаты кое-чему нашли даже применение: возле казармы урны для мусора — из черных опрокинутых бомбовых стабилизаторов. Служба такая, что нечасто звучит тут смех, нечасто услышишь приветливый неофициальный голос. Бесконечные цифры, зашифрованные команды, рапорты — их только и слышишь в течение дня на командном пункте, нежностям и лирике нет здесь места, — властно врываются басовитые радиоголоса невидимых тебе людей; и каждое слово летчика, которое доносится с воздуха, записывается здесь на магнитофонную ленту, так же как фиксируется и каждое твое слово. Стоишь, дежуришь, напряженно вглядываешься в сетку прозрачного плексигласового планшета, на которой сержант-вычислитель выводит все новые и новые цифровые обозначения. Летом духота на этом песчаном поле — микроклимат Сахары, работать приходится раздетым, и солдаты сидят среди приборов полуголые, загорелые, мускулистые, делают записи, пометки, принимают, передают команды. Вычислители, радисты, наблюдатели, повара — это все твои побратимы, такие же работяги, как и ты. Для них тоже весь гомон планеты, ее музыка и ее голоса чаще всего сводятся к нескольким чеканным словам: «Выхожу на рубеж!», «Работаю на цель…» Разве изредка кто-нибудь прорвется неположенной вольностью: «У меня „лампас“ на борту». А тот «лампас», бывает, отбомбится на «двойку» и заведет потом с тобой долгую радиотяжбу, что он, мол, собственными глазами видел свое попадание, и ты должен ему доказывать, стоять за правду, как кремень. Неспокойно, тревожно твое хозяйство, и за все ты отвечаешь, начиная от сложной работы КП и станций радиолокатора и кончая каким-нибудь белым огромным — двести на двести метров — крестом, выложенным где-то в барханах, который надо своевременно побелить известкой, так как он быстро линяет, заносится песком и пылью. Однажды Уралов был по делам службы далеко от полигона, ехал по открытой слепящей степи, среди блеска стерни, среди стрекота комбайнов, которые, как корабли, двигались от неба до неба среди золотых россыпей зерна, что целыми ворохами, целыми горами краснело на залитых солнцем токах. Дорога его лежала мимо элеватора, бетонного исполинского сооружения без окон и как будто даже без дверей. Неподалеку от элеватора попался артезианский колодец, вода сама текла из него, и Уралов остановил машину, чтобы напиться. Там и произошла его встреча с Галей. Полнолицая смуглянка с высоким лбом, вышла она с ведром из ближнего двора, огороженного желтым ноздреватым камнем, и, приближаясь к колодцу, уже улыбалась Уралову по-доброму, как будто давным-давно знала его. У нее были брови черные, как в песнях, которые не раз слышал он в этих краях, а очи были такие ясные, такие пленительно живые, каких, верно, и в песнях не бывает. Те очи так и излучали мягкий, доверчивый свет, так и проникали в душу Уралова каждым своим лучиком! И вблизи улыбка не угасла, но сквозь светлую ее приветливость стала заметна и печаль в глубине глаз, и видны были дрожавшие на ресницах слезинки. Кто мог таким глазам горе причинить? Кто посмел их обидеть? Непринужденно завязался разговор, и Галя призналась, что вправду недавно поплакала, потому что у нее вышел разлад со свекровью, которая сегодня навьючила ее корзинами и послала торговать, а ей так совестно было… Поблескивая слезами, волнуя своей доверчивой откровенностью, Галя рассказывала ему, как шла она к станции мимо элеватора, где муж ее весовщиком, надеялась, увидит ее, согнутую базарной ношей, пожалеет, защитит, но он еще и крикнул вдогонку:
— Гляди там, не проторгуйся!
И хохотал в компании приятелей, с которыми каждый вечер только и знает, что забивать «козла»… Им-то хаханьки, а у нее лицо горело от стыда, и слезы падали, и камень от них под ногами вскипал. Ведь только вчера была комсомолкой, вожатой в школе была, а тут ее хотят торговкою сделать!
— Так вот что, Галя… Садись-ка со мной.
И хотя в голосе его была в этот миг сердитая и даже будто неприятная резкость, но было и нечто такое, что невольно заставило Галю вздохнуть. Она даже взглянула не без интереса на его потрепанный, запыленный «газик».
— Садись, садись, — повторил Уралов волевым, командирским тоном. — Я совершенно серьезно.
И хотя на этот раз она не села, однако через некоторое время это все же произошло: средь бела дня забрал ее Уралов, и все тот же «газик», набрав скорость, помчал их в раздолье степей золотых, и Галя без сожаления глядела, как проплывает стороной на горизонте элеватор, этот безглазый степной небоскреб.
Мчал ее Уралов просторами, где земля светилась солнечным блеском жнивья, селами, где хаты утопали в виноградниках, где сады ниспадали каскадами груш, яблок и абрикосов, а роскошные виноградные лозы выметывали буйные широколистые побеги на самую улицу. «Все, что ты видишь, — это я, это мое, это для тебя», — как бы говорила ему Галя, сидя рядом. И краешком глаза он видел, как она расцветает сквозь тревогу, освобожденная от свекровьиных корзин, а сам он мало говорил, только еще больше бледнел, крепко сжимая руль обеими руками.
Уралов повез ее прямиком, там, где раньше не ездил, и «газик» вскоре поглотило море холмистых песков — мертвая зона полигона.
— Куда это ты меня завез? — улыбалась Галя, когда они забуксовали, хотя видно было по ней, что не пугает ее этот горячий мир песка и молочаев, мир бомбовых воронок и ржавых стабилизаторов, торчавших повсюду.
В песках довелось и заночевать, там и первая ночь для них промелькнула, там и рассвет застал их в объятиях друг у друга. Слегка отсыревшая от росы плащ-палатка среди степных колючек и репейников, молчаливый «газик», тоже влажный от росы, остывший за ночь, да еще этот тихий рассвет и были свидетелями их признаний и их любви.
Зажили они дружно. Галя, чтоб показать мужа родителям, повезла его в родное степное село, где, перед тем как выйти за своего весовщика, она некоторое время секретарствовала в сельсовете и где ее соблазнил местный завклубом. Ничего не утаила Галя от Уралова, чистосердечно рассказала ему все о себе, и он выслушал молча, попросил только никогда об этом больше не вспоминать. Родителям зять понравился. Мать, правда, заметила, что нос клювиком да что суровый очень, редко смеется.
— Это у меня служба такая, — угрюмо пошутил Уралов.
Жить стали среди воронок, среди взрывов, среди заносов бесплодных песков. Уралов сначала побаивался, что не привыкнет Галя, затоскует от полигонного однообразного житья, ибо хоть и есть у них немалая библиотека и пудовые альбомы с репродукциями знаменитейших картинных галерей, хоть есть и клубик и экран, но ведь есть и пески, целая пустыня зловещих песков вокруг! Но не затосковала ясноокая его подруга, по крайней мере, не показывала этого, была все такою же веселой, как и прежде. А он с притворной суровостью жаловался на нее товарищам:
— Эта хохлушка каждый день мне какое-нибудь новое слово подкидывает. Что-нибудь ввернет непонятное, а ты ходи и думай потом целый день, что оно значит: может, обозвала как?
— Глупенький, — вмешивалась Галя, — это же все ласковые слова…
— И надолго тебе их хватит?
— На всю жизнь, чернобровый мой…
Это его, белокурого, даже рыжеватого, она называла чернобровым!
Когда он замечал, что его Галя вдруг запечалилась, он считал необходимым развлечь ее и не находил ничего лучше, как повести на одну из наблюдательных вышек, откуда они вдвоем любовались, будто грандиозным спектаклем, бомбовыми взрывами, которые извещали о себе оранжевыми вспышками в глубине песчаной арены, в ослепительных далях полигонных холмов. Самолеты шли на такой высоте, что их и не видно было, даже гул их едва долетал; казалось, сама земля извергает эти оранжевые, багровые и каких-то марсианских оттенков вулканы. Тучи взрывов и эти причудливые светло-красноватые облака разрастались затем в воздухе в целые острова, которые долго, медленно таяли, как бы ожидая, пока их зафиксируют с вышек бойцы-наблюдатели.
А тем временем отяжелевшие сады юга осыпались абрикосами, земля покрылась ими так, что некуда было ступить, а собирать некому, и соседний с полигоном колхоз обратился к Уралову за помощью. Это была отраднейшая для Гали пора, ибо Уралов, прихватив и Галю и всех тех, кого можно было прихватить из своего войска, повел их на штурм в солнечное абрикосовое царство, где все светилось и пахло абрикосами, и земля казалась золотой от них, и деревья блестели золотом плодов так, что спекулянты и заготовители должны были бы увидеть их и за тысячи верст!
То была приятная работа, радостная усталость, и не забыть тех песен по вечерам, и костров, и шалашей…
Но и оттуда — от радостного труда, от песен и шалашей дорога опять приводила в пески.
Через некоторое время Уралова — как бы в порядке повышения по службе — перевели с песчаного полигона на другой, приморский, степной, где перед глазами Гали впервые встали похожие на призраки обелиски ракет. Здесь бомбили только ночью, иногда на рассвете, а днем разбросанные по степи макеты самолетов, машин, ракет своею неподвижностью способны были нагнать только уныние и тоску.
Однако и ракетная степь Галю не устрашила, не испортила ее веселого, жизнелюбивого нрава. И хоть жизнь тут была еще более беспокойная (бывали такие дни, когда им и совсем приходилось переселяться за пределы полигона), Галя и здесь нашла себя, обвыклась, уже одним своим цветущим видом радуя и Уралова, и его полигонных товарищей. Прирожденная Галина доброта, бесхитростная, любвеобильная и деятельная ее натура вскоре и здесь проявили себя. В отличие от бесплодных песков земля на этом полигоне была такая, что могла бы все родить, — не кучегуры, а гладь черноземная расстилалась вокруг, и Галя не преминула этим воспользоваться. Как только настала весна, Галя, несмотря на то что была беременной, принялась копать, делать грядки и клумбы, привлекла к этой работе и солдат, которые потом своим глазам не верили, когда увидели на столе в столовой свежий зеленый лук собственной посадки, а свою казарму и командный пункт — в венке цветников, где вьюнок обнимался с настурцией, а нежная петуния и царская бородка красовались среди ярких гвоздик и крепких полноцветных бархоток. Как и подобает доброй хозяйке, Галя еще и кур да уток развела, — правда, потом оказалось, что ни она, ни Уралов не умеют резать птицу. Когда все же приходилось это делать, Уралов с решительным видом появлялся на пороге с мелкокалиберкой в руках и, наметив среди двора синеголового селезня, на которого указывала ему Галя, валил его с первого выстрела.
Потом у них родился ребенок, славненькая дочурка, которую они, по обоюдному согласию, решили назвать Оленой — Аленкой.
Осчастливленный рождением дочки, Уралов перестрелял на радостях всех селезней, всех уток и кур для широко затеянного «рая» — праздновал первое рождение человека на полигоне. На празднество Ураловы пригласили всех, кто только был свободен в это время от дежурства.
— Ничего в жизни не боялся, — признавался в этот день Уралов товарищам, — а тут, ох, передрожал! И знаете, чего боялся всего больше? Где-то вычитал перед тем, что в Японии тридцать шесть тысяч дефектных детей родилось после Хиросимы. Радиация, патология — всякие глупости полезли в голову. Только тогда от души отлегло, когда медсестра сказала, что все хорошо, и на руки мне подала вот эту нашу красавицу степнячку, — говорил Уралов, растроганно заглядывая в блестящую никелированную кроватку.
Там, сморщив красное личико и ничего еще не подозревая о земных страстях, сладко спала чистым сном младенца новорожденная.
— Вот она, властительница полигона, — говорили о ней солдаты, а мать ласково прибавляла:
— Ясочка наша.
И Уралов охотно соглашался:
— И правда, ясочка!
Хотя и не совсем понимал, что оно такое «ясочка».
Было в самом деле удивительно: вот только что родилось, а уже стало главенствовать здесь это самое юное существо, хрупкий росточек жизни, эта крохотка-несмышленыш Аленка! Уже с самого рождения ее окружали нежность, трогательная забота и любовь. При одном упоминании о ней лица бойцов становились мягче, слова ласковей, и не было здесь человека, на которого бы не распространялась ее власть — власть любви!
Когда впервые дитя улыбнулось, это стало событием, сенсацией на весь полигон. Все бегали к Уралову на квартиру поглядеть Аленку, козыряли, отдавали ей честь и в последующие дни тоже не переставали бегать на квартиру за ее улыбками. Старшины-сверхсрочники подставляли ей лицо, чтобы поймала за ус, молодые солдаты были в восторге, когда она схватит кого-нибудь за ухо и подергает, пощекочет своею ручонкой.
Про Уралова уже и говорить нечего. Он с рождением дочки стал просто неузнаваем — не таким категоричным во всем, как прежде, разговорчивее, приветливее. Улыбки дочки, детские нежные прикосновения к щеке словно бы проникали в самую его душу и влияли на нее чудодейственно. Он не стыдился собственноручно стирать пеленки — более того, проделывал это с таким видом, будто совершал какой-то торжественный и важный ритуал.
— Разве ж не диво, Галя, а? — склонялся он над кроваткой, прибежав со службы. — Еще не говорит, а уже умеет смеяться. Сплошное доброжелательство: всему на свете улыбается.
Это была просто идиллическая картина, когда под вечер Ураловы выходили прогуляться. Он, которого и полигонный загар не брал, бледный, вечно взволнованный, нес Аленку на руках, а его полненькая ясноокая Галя семенила рядом, не в силах скрыть радость своего благополучия. Это были истинно счастливые супруги, как бы созданные друг для друга, даже ростом одинаковы, небольшие оба, — они проходили не спеша мимо КП и шли в открытую степь. Все знали, что Уралов понес прогулять, развлечь дочку, так как ему казалось, что ей уже хочется каких-то детских развлечений, и он жалел, что на полигоне нет чертова колеса или карусели, а есть лишь блестящие острия ракет в степи — единственное, что только он и мог показать своей любимой дочке. Еще, правда, были в степи, кроме ракет, спортивный «козел», «кобыла», волейбольная площадка и старая облупленная овчарня, оставшаяся на территории полигона от тех времен, когда полигона еще не было, а земля вся принадлежала совхозу. Была рядом с овчарней и хата чабанская, она тоже облупилась, саманом светила — развалина такая, что, кажется, и Аленку отпугивала своей драной крышей и провалами окон. Осматривая эти полуразрушенные остатки чабанской эры, Уралов давал волю своей фантазии, рисовал перед дочкой и женой шутливые картины своего будущего, когда Аленка будет уже большой и вместо полигона тут снова будут владения совхозных чабанов, а он, Уралов, станет тогда главным пастухом, взберется вон на ту вышку, где теперь КП, и с ее высоты будет руководить отарами, наблюдать за овцами в стереотрубу.
Посмеявшись над этой выдумкой, они отправлялись дальше, приостанавливаясь около высокой, нацеленной в небо ракеты. И им казалось, что их ясочка не сводит глазенок со сверкающей махины, с этой огромной игрушки, и какие-то первые знаки уже запечатлеваются на пленке ее сознания, чистой и непорочной, как утренняя зорька. От ракеты не спеша шли они туда, где седеют древние могилы. Уралов считал, что дочка лучше всего себя чувствует на степном кургане, где был установлен локатор. Здесь свежий ветерок обдувал Аленку, она оживлялась и будто с любопытством наблюдала, как локатор, медленно вращаясь своим обручем, бросает подвижную тень на травянистую глобальную выпуклость кургана. Это была пока что и вся Аленкина планета, на ней не было ничего, кроме серебристой полыни да локатора, который должен был служить ребенку развлечением.
Непринужденно завязался разговор, и Галя призналась, что вправду недавно поплакала, потому что у нее вышел разлад со свекровью, которая сегодня навьючила ее корзинами и послала торговать, а ей так совестно было… Поблескивая слезами, волнуя своей доверчивой откровенностью, Галя рассказывала ему, как шла она к станции мимо элеватора, где муж ее весовщиком, надеялась, увидит ее, согнутую базарной ношей, пожалеет, защитит, но он еще и крикнул вдогонку:
— Гляди там, не проторгуйся!
И хохотал в компании приятелей, с которыми каждый вечер только и знает, что забивать «козла»… Им-то хаханьки, а у нее лицо горело от стыда, и слезы падали, и камень от них под ногами вскипал. Ведь только вчера была комсомолкой, вожатой в школе была, а тут ее хотят торговкою сделать!
— Так вот что, Галя… Садись-ка со мной.
И хотя в голосе его была в этот миг сердитая и даже будто неприятная резкость, но было и нечто такое, что невольно заставило Галю вздохнуть. Она даже взглянула не без интереса на его потрепанный, запыленный «газик».
— Садись, садись, — повторил Уралов волевым, командирским тоном. — Я совершенно серьезно.
И хотя на этот раз она не села, однако через некоторое время это все же произошло: средь бела дня забрал ее Уралов, и все тот же «газик», набрав скорость, помчал их в раздолье степей золотых, и Галя без сожаления глядела, как проплывает стороной на горизонте элеватор, этот безглазый степной небоскреб.
Мчал ее Уралов просторами, где земля светилась солнечным блеском жнивья, селами, где хаты утопали в виноградниках, где сады ниспадали каскадами груш, яблок и абрикосов, а роскошные виноградные лозы выметывали буйные широколистые побеги на самую улицу. «Все, что ты видишь, — это я, это мое, это для тебя», — как бы говорила ему Галя, сидя рядом. И краешком глаза он видел, как она расцветает сквозь тревогу, освобожденная от свекровьиных корзин, а сам он мало говорил, только еще больше бледнел, крепко сжимая руль обеими руками.
Уралов повез ее прямиком, там, где раньше не ездил, и «газик» вскоре поглотило море холмистых песков — мертвая зона полигона.
— Куда это ты меня завез? — улыбалась Галя, когда они забуксовали, хотя видно было по ней, что не пугает ее этот горячий мир песка и молочаев, мир бомбовых воронок и ржавых стабилизаторов, торчавших повсюду.
В песках довелось и заночевать, там и первая ночь для них промелькнула, там и рассвет застал их в объятиях друг у друга. Слегка отсыревшая от росы плащ-палатка среди степных колючек и репейников, молчаливый «газик», тоже влажный от росы, остывший за ночь, да еще этот тихий рассвет и были свидетелями их признаний и их любви.
Зажили они дружно. Галя, чтоб показать мужа родителям, повезла его в родное степное село, где, перед тем как выйти за своего весовщика, она некоторое время секретарствовала в сельсовете и где ее соблазнил местный завклубом. Ничего не утаила Галя от Уралова, чистосердечно рассказала ему все о себе, и он выслушал молча, попросил только никогда об этом больше не вспоминать. Родителям зять понравился. Мать, правда, заметила, что нос клювиком да что суровый очень, редко смеется.
— Это у меня служба такая, — угрюмо пошутил Уралов.
Жить стали среди воронок, среди взрывов, среди заносов бесплодных песков. Уралов сначала побаивался, что не привыкнет Галя, затоскует от полигонного однообразного житья, ибо хоть и есть у них немалая библиотека и пудовые альбомы с репродукциями знаменитейших картинных галерей, хоть есть и клубик и экран, но ведь есть и пески, целая пустыня зловещих песков вокруг! Но не затосковала ясноокая его подруга, по крайней мере, не показывала этого, была все такою же веселой, как и прежде. А он с притворной суровостью жаловался на нее товарищам:
— Эта хохлушка каждый день мне какое-нибудь новое слово подкидывает. Что-нибудь ввернет непонятное, а ты ходи и думай потом целый день, что оно значит: может, обозвала как?
— Глупенький, — вмешивалась Галя, — это же все ласковые слова…
— И надолго тебе их хватит?
— На всю жизнь, чернобровый мой…
Это его, белокурого, даже рыжеватого, она называла чернобровым!
Когда он замечал, что его Галя вдруг запечалилась, он считал необходимым развлечь ее и не находил ничего лучше, как повести на одну из наблюдательных вышек, откуда они вдвоем любовались, будто грандиозным спектаклем, бомбовыми взрывами, которые извещали о себе оранжевыми вспышками в глубине песчаной арены, в ослепительных далях полигонных холмов. Самолеты шли на такой высоте, что их и не видно было, даже гул их едва долетал; казалось, сама земля извергает эти оранжевые, багровые и каких-то марсианских оттенков вулканы. Тучи взрывов и эти причудливые светло-красноватые облака разрастались затем в воздухе в целые острова, которые долго, медленно таяли, как бы ожидая, пока их зафиксируют с вышек бойцы-наблюдатели.
А тем временем отяжелевшие сады юга осыпались абрикосами, земля покрылась ими так, что некуда было ступить, а собирать некому, и соседний с полигоном колхоз обратился к Уралову за помощью. Это была отраднейшая для Гали пора, ибо Уралов, прихватив и Галю и всех тех, кого можно было прихватить из своего войска, повел их на штурм в солнечное абрикосовое царство, где все светилось и пахло абрикосами, и земля казалась золотой от них, и деревья блестели золотом плодов так, что спекулянты и заготовители должны были бы увидеть их и за тысячи верст!
То была приятная работа, радостная усталость, и не забыть тех песен по вечерам, и костров, и шалашей…
Но и оттуда — от радостного труда, от песен и шалашей дорога опять приводила в пески.
Через некоторое время Уралова — как бы в порядке повышения по службе — перевели с песчаного полигона на другой, приморский, степной, где перед глазами Гали впервые встали похожие на призраки обелиски ракет. Здесь бомбили только ночью, иногда на рассвете, а днем разбросанные по степи макеты самолетов, машин, ракет своею неподвижностью способны были нагнать только уныние и тоску.
Однако и ракетная степь Галю не устрашила, не испортила ее веселого, жизнелюбивого нрава. И хоть жизнь тут была еще более беспокойная (бывали такие дни, когда им и совсем приходилось переселяться за пределы полигона), Галя и здесь нашла себя, обвыклась, уже одним своим цветущим видом радуя и Уралова, и его полигонных товарищей. Прирожденная Галина доброта, бесхитростная, любвеобильная и деятельная ее натура вскоре и здесь проявили себя. В отличие от бесплодных песков земля на этом полигоне была такая, что могла бы все родить, — не кучегуры, а гладь черноземная расстилалась вокруг, и Галя не преминула этим воспользоваться. Как только настала весна, Галя, несмотря на то что была беременной, принялась копать, делать грядки и клумбы, привлекла к этой работе и солдат, которые потом своим глазам не верили, когда увидели на столе в столовой свежий зеленый лук собственной посадки, а свою казарму и командный пункт — в венке цветников, где вьюнок обнимался с настурцией, а нежная петуния и царская бородка красовались среди ярких гвоздик и крепких полноцветных бархоток. Как и подобает доброй хозяйке, Галя еще и кур да уток развела, — правда, потом оказалось, что ни она, ни Уралов не умеют резать птицу. Когда все же приходилось это делать, Уралов с решительным видом появлялся на пороге с мелкокалиберкой в руках и, наметив среди двора синеголового селезня, на которого указывала ему Галя, валил его с первого выстрела.
Потом у них родился ребенок, славненькая дочурка, которую они, по обоюдному согласию, решили назвать Оленой — Аленкой.
Осчастливленный рождением дочки, Уралов перестрелял на радостях всех селезней, всех уток и кур для широко затеянного «рая» — праздновал первое рождение человека на полигоне. На празднество Ураловы пригласили всех, кто только был свободен в это время от дежурства.
— Ничего в жизни не боялся, — признавался в этот день Уралов товарищам, — а тут, ох, передрожал! И знаете, чего боялся всего больше? Где-то вычитал перед тем, что в Японии тридцать шесть тысяч дефектных детей родилось после Хиросимы. Радиация, патология — всякие глупости полезли в голову. Только тогда от души отлегло, когда медсестра сказала, что все хорошо, и на руки мне подала вот эту нашу красавицу степнячку, — говорил Уралов, растроганно заглядывая в блестящую никелированную кроватку.
Там, сморщив красное личико и ничего еще не подозревая о земных страстях, сладко спала чистым сном младенца новорожденная.
— Вот она, властительница полигона, — говорили о ней солдаты, а мать ласково прибавляла:
— Ясочка наша.
И Уралов охотно соглашался:
— И правда, ясочка!
Хотя и не совсем понимал, что оно такое «ясочка».
Было в самом деле удивительно: вот только что родилось, а уже стало главенствовать здесь это самое юное существо, хрупкий росточек жизни, эта крохотка-несмышленыш Аленка! Уже с самого рождения ее окружали нежность, трогательная забота и любовь. При одном упоминании о ней лица бойцов становились мягче, слова ласковей, и не было здесь человека, на которого бы не распространялась ее власть — власть любви!
Когда впервые дитя улыбнулось, это стало событием, сенсацией на весь полигон. Все бегали к Уралову на квартиру поглядеть Аленку, козыряли, отдавали ей честь и в последующие дни тоже не переставали бегать на квартиру за ее улыбками. Старшины-сверхсрочники подставляли ей лицо, чтобы поймала за ус, молодые солдаты были в восторге, когда она схватит кого-нибудь за ухо и подергает, пощекочет своею ручонкой.
Про Уралова уже и говорить нечего. Он с рождением дочки стал просто неузнаваем — не таким категоричным во всем, как прежде, разговорчивее, приветливее. Улыбки дочки, детские нежные прикосновения к щеке словно бы проникали в самую его душу и влияли на нее чудодейственно. Он не стыдился собственноручно стирать пеленки — более того, проделывал это с таким видом, будто совершал какой-то торжественный и важный ритуал.
— Разве ж не диво, Галя, а? — склонялся он над кроваткой, прибежав со службы. — Еще не говорит, а уже умеет смеяться. Сплошное доброжелательство: всему на свете улыбается.
Это была просто идиллическая картина, когда под вечер Ураловы выходили прогуляться. Он, которого и полигонный загар не брал, бледный, вечно взволнованный, нес Аленку на руках, а его полненькая ясноокая Галя семенила рядом, не в силах скрыть радость своего благополучия. Это были истинно счастливые супруги, как бы созданные друг для друга, даже ростом одинаковы, небольшие оба, — они проходили не спеша мимо КП и шли в открытую степь. Все знали, что Уралов понес прогулять, развлечь дочку, так как ему казалось, что ей уже хочется каких-то детских развлечений, и он жалел, что на полигоне нет чертова колеса или карусели, а есть лишь блестящие острия ракет в степи — единственное, что только он и мог показать своей любимой дочке. Еще, правда, были в степи, кроме ракет, спортивный «козел», «кобыла», волейбольная площадка и старая облупленная овчарня, оставшаяся на территории полигона от тех времен, когда полигона еще не было, а земля вся принадлежала совхозу. Была рядом с овчарней и хата чабанская, она тоже облупилась, саманом светила — развалина такая, что, кажется, и Аленку отпугивала своей драной крышей и провалами окон. Осматривая эти полуразрушенные остатки чабанской эры, Уралов давал волю своей фантазии, рисовал перед дочкой и женой шутливые картины своего будущего, когда Аленка будет уже большой и вместо полигона тут снова будут владения совхозных чабанов, а он, Уралов, станет тогда главным пастухом, взберется вон на ту вышку, где теперь КП, и с ее высоты будет руководить отарами, наблюдать за овцами в стереотрубу.
Посмеявшись над этой выдумкой, они отправлялись дальше, приостанавливаясь около высокой, нацеленной в небо ракеты. И им казалось, что их ясочка не сводит глазенок со сверкающей махины, с этой огромной игрушки, и какие-то первые знаки уже запечатлеваются на пленке ее сознания, чистой и непорочной, как утренняя зорька. От ракеты не спеша шли они туда, где седеют древние могилы. Уралов считал, что дочка лучше всего себя чувствует на степном кургане, где был установлен локатор. Здесь свежий ветерок обдувал Аленку, она оживлялась и будто с любопытством наблюдала, как локатор, медленно вращаясь своим обручем, бросает подвижную тень на травянистую глобальную выпуклость кургана. Это была пока что и вся Аленкина планета, на ней не было ничего, кроме серебристой полыни да локатора, который должен был служить ребенку развлечением.
 Все было бы хорошо, если бы не ночи. По ночам Аленка спала плохо. Случалось, что ни Гале, ни Уралову не удавалось прилечь и на минутку, ребенок криком кричал всю ночь напролет. Детский плач слышали и полигонные часовые, но никто ничем не мог помочь. Галя в отчаянии обливалась слезами, а Уралов, стиснув зубы, метался из угла в угол, не находя себе места, — душу ему разрывал Аленкин мучительный крик. Воин, солдат, он не признавал раньше нежных, ласковых слов, нередко посмеивался над Галей, а тут и сам научился.
— Ну, что болит у тебя, доченька, что? — припадал он к ребенку. — Животик? Головка? Скажи! Ну покажи, где болит?
А дочурка только смотрит на него глазенками, затуманившимися от боли, ранит его своим криком: помоги! Ты же сильный, а я беспомощна! Вас много, взрослых, а я одна…
Только под утро, когда всходит солнце, Аленка перестает плакать, успокаивается, а немного поспав — расцветает улыбкой. И так день за днем, ночь за ночью: днем успокоится, а только наступит ночь — ребенок в плач, даже синеет, заходится от крика.
Стал привозить Уралов из города врачей, лучших специалистов. Все осматривают, а ничего особенного не находят, поставить диагноз не могут. Это, говорят, что-то такое случайное, временное, а так ребенок здоров. Чтобы как-нибудь развлечь дочку, Уралов купил в военторге аккордеон, дорогой, роскошный, хотя играть на нем совсем не умел. Учился теперь, упорно упражнялся ночами, старательно растягивал эту чертову кожу. А когда уставал, в полном изнеможении швырял инструмент в угол, отстранял от девочки опухшую от слез жену, сам наклонялся над крохотным тельцем, боровшимся за жизнь, и молча принимал на себя ее боль, ее крик, хватающий за душу дочкин плач. В одну из таких ночей, доведенный беспрестанным криком ребенка до беспамятства, Уралов бросился к машине, завел и помчался в совхоз к Чабанихе — незадолго до того он слышал, что есть там такая бабка Чабаниха, мать капитана, которая травами лечит, — народная медицина, и все такое… Где она живет, точно он не знал, только приблизительно представлял приметы, поэтому жадно разглядывал иероглифы телевизионных антенн над домами, искал металлическую вышку — по этим иероглифам да по вышке и разыскал он Чабанихину хату. Забарабанил в окно. Старуха появилась на пороге, какпризрак, как видение прошлого: растрепанная, скуластая, губы сжаты, под нахмуренными бровями — ямы глаз… Колдовское непроницаемое лицо Пифии, Сивиллы, но оно как раз чем-то внушало доверие: эта поможет, эта спасет! Как горячо он ее умолял — та поначалу упрямилась, говорила, что давно уже перестала этим заниматься.
— На колени упаду, землю буду есть, только поедемте, помогите! Век буду благодарить!
В конце концов уговорил, подхватил в «газик» и помчал ее в свою ракетную степь. Когда проезжали мимо ракет, уже рассветало, ракеты сияли своими оболочками, но бабка как будто и не видела их, даже не оглянулась ни разу в ту сторону. Осмотрела ребенка, только что заснувшего, измученного после бессонной ночи, буркнула, что это не «сглаз» и не «младенческое» и что у нее нет против этого средства. Просто, по ее мнению, не подходит ребенку это место, не для него такие игрушки и грохот…
Все было бы хорошо, если бы не ночи. По ночам Аленка спала плохо. Случалось, что ни Гале, ни Уралову не удавалось прилечь и на минутку, ребенок криком кричал всю ночь напролет. Детский плач слышали и полигонные часовые, но никто ничем не мог помочь. Галя в отчаянии обливалась слезами, а Уралов, стиснув зубы, метался из угла в угол, не находя себе места, — душу ему разрывал Аленкин мучительный крик. Воин, солдат, он не признавал раньше нежных, ласковых слов, нередко посмеивался над Галей, а тут и сам научился.
— Ну, что болит у тебя, доченька, что? — припадал он к ребенку. — Животик? Головка? Скажи! Ну покажи, где болит?
А дочурка только смотрит на него глазенками, затуманившимися от боли, ранит его своим криком: помоги! Ты же сильный, а я беспомощна! Вас много, взрослых, а я одна…
Только под утро, когда всходит солнце, Аленка перестает плакать, успокаивается, а немного поспав — расцветает улыбкой. И так день за днем, ночь за ночью: днем успокоится, а только наступит ночь — ребенок в плач, даже синеет, заходится от крика.
Стал привозить Уралов из города врачей, лучших специалистов. Все осматривают, а ничего особенного не находят, поставить диагноз не могут. Это, говорят, что-то такое случайное, временное, а так ребенок здоров. Чтобы как-нибудь развлечь дочку, Уралов купил в военторге аккордеон, дорогой, роскошный, хотя играть на нем совсем не умел. Учился теперь, упорно упражнялся ночами, старательно растягивал эту чертову кожу. А когда уставал, в полном изнеможении швырял инструмент в угол, отстранял от девочки опухшую от слез жену, сам наклонялся над крохотным тельцем, боровшимся за жизнь, и молча принимал на себя ее боль, ее крик, хватающий за душу дочкин плач. В одну из таких ночей, доведенный беспрестанным криком ребенка до беспамятства, Уралов бросился к машине, завел и помчался в совхоз к Чабанихе — незадолго до того он слышал, что есть там такая бабка Чабаниха, мать капитана, которая травами лечит, — народная медицина, и все такое… Где она живет, точно он не знал, только приблизительно представлял приметы, поэтому жадно разглядывал иероглифы телевизионных антенн над домами, искал металлическую вышку — по этим иероглифам да по вышке и разыскал он Чабанихину хату. Забарабанил в окно. Старуха появилась на пороге, какпризрак, как видение прошлого: растрепанная, скуластая, губы сжаты, под нахмуренными бровями — ямы глаз… Колдовское непроницаемое лицо Пифии, Сивиллы, но оно как раз чем-то внушало доверие: эта поможет, эта спасет! Как горячо он ее умолял — та поначалу упрямилась, говорила, что давно уже перестала этим заниматься.
— На колени упаду, землю буду есть, только поедемте, помогите! Век буду благодарить!
В конце концов уговорил, подхватил в «газик» и помчал ее в свою ракетную степь. Когда проезжали мимо ракет, уже рассветало, ракеты сияли своими оболочками, но бабка как будто и не видела их, даже не оглянулась ни разу в ту сторону. Осмотрела ребенка, только что заснувшего, измученного после бессонной ночи, буркнула, что это не «сглаз» и не «младенческое» и что у нее нет против этого средства. Просто, по ее мнению, не подходит ребенку это место, не для него такие игрушки и грохот…
 Аленке становилось все хуже. Однажды ночью, когда Уралов был на КП, из дому позвонила жена. Он слышал, как она всхлипывала в трубку, и жизнь в нем остановилась, холод смертельной тоски вступил в грудь.
— Коля, быстрее! Аленке совсем плохо… Посинела, глазки закатываются…
А когда он прибежал домой, уже не закатывались глазоньки, уже не кричала его доченька: вечная чистая улыбка застыла на ее устах.
Она еще лежала в белой своей постельке, а возле нее на полу валялся аккордеон, хищно сверкая зубами клавишей. Жена билась на кровати в рыданиях. Охотничье ружье висело на стене. Стоял на столе полевой телефон. Все было как раньше, не было только ее, Аленкиного, дыхания, была лишь бесконечная всесветная пустыня вокруг. Каждая вещь ранила его. Подавленный, ослепленный горем, выскочил он во двор, но рыдания Гали снова вернули его в дом.
Аленке становилось все хуже. Однажды ночью, когда Уралов был на КП, из дому позвонила жена. Он слышал, как она всхлипывала в трубку, и жизнь в нем остановилась, холод смертельной тоски вступил в грудь.
— Коля, быстрее! Аленке совсем плохо… Посинела, глазки закатываются…
А когда он прибежал домой, уже не закатывались глазоньки, уже не кричала его доченька: вечная чистая улыбка застыла на ее устах.
Она еще лежала в белой своей постельке, а возле нее на полу валялся аккордеон, хищно сверкая зубами клавишей. Жена билась на кровати в рыданиях. Охотничье ружье висело на стене. Стоял на столе полевой телефон. Все было как раньше, не было только ее, Аленкиного, дыхания, была лишь бесконечная всесветная пустыня вокруг. Каждая вещь ранила его. Подавленный, ослепленный горем, выскочил он во двор, но рыдания Гали снова вернули его в дом.
 Утром весь полигон был в трауре. Ветер развевал над казармой красные флаги с черными лентами. Потрясенные трагическим концом, офицеры, солдаты о чем-то шепотом переговаривались между собой, советовались. Оказалось, что никто не мог сделать гроб. Люди, которые разбирались в электронике, имели дело с точнейшими приборами, картами, расчетами, не умели смастерить простой маленький гробик для ребенка! Потому что в этом никогда не было нужды. До сих пор здесь никто еще не умирал. Казалось, что тут все собрались для вечной жизни. И кладбища на полигоне не было — это была у них первая смерть. Все она начинала, Аленка. Только оркестр был свой да флаги черно-красные склонялись скорбно.
Траурная музыка зазвучала над степью, и бомбы в тот день не рвались.
Похоронить Аленку решили на том самом кургане, где стоял прежде радиолокатор. Теперь его там уже не было, солдаты выкопали на кургане для своей любимицы маленький окопчик. Туда шла по степи вся процессия. Офицеры молча несли Аленку над головами, несли ее по своей ракетной степи, между боевыми мишенями, сквозь их настороженный, грозный блеск, а девочка, проплывая, улыбалась и сейчас. Она уходила от Уралова в вечность со своею улыбкой, с ее непередаваемым очарованием и как бы говорила ему: «Папочка! Я не видела ничего, кроме этих твоих ракет. Не видела весен. Цветения вишенного не знала. Ни синих рек, ни городов далеких, сказочно-прекрасных. Я успела увидеть только эти грозные блистающие ракеты, среди которых и прожила свою маленькую жизнь. Короткою жизнью зарницы жила я. Появилась, осветила улыбкой ваш полигон, сверкнула разливом счастья тебе, папочка, и маме, и вот теперь я иду от вас, ухожу от вас навсегда!..»
Как хотелось ему в этот миг уничтожить, изувечить здесь все, как жгло желание поделиться с нею своей собственной жизнью — да что поделиться! Он, ни секунды не колеблясь, отдал бы ей всю свою жизнь без остатка, только жила бы она, его ясочка, его звездочка, которую ему так и не удалось спасти…
Идут. Ветер рвет красно-черные флаги, развевает над степью, льются рыдающие звуки траурного марша; с трубами идут те, кто еще вчера дежурил на КП, — радисты, вычислители, планшетисты, а теперь делят с Ураловым бремя его тяжелого горя. Слепящий день похож на ночь. Блестят слезы на загорелых солдатских щеках. Голосит Галя. Стиснув зубы, шагает рядом с ней Уралов — грудь его переполнена болью. Трещит под ногами сухая трава, улыбается в затуманенное небо Аленка. Трубы, как удавы, обвили оркестрантов, а они, бросая в ветреную степь звуки печальных маршей, музыкой бунтуют против горя, тяжело шагают, скованные удавами-трубами, как Лаокооны.
Утром весь полигон был в трауре. Ветер развевал над казармой красные флаги с черными лентами. Потрясенные трагическим концом, офицеры, солдаты о чем-то шепотом переговаривались между собой, советовались. Оказалось, что никто не мог сделать гроб. Люди, которые разбирались в электронике, имели дело с точнейшими приборами, картами, расчетами, не умели смастерить простой маленький гробик для ребенка! Потому что в этом никогда не было нужды. До сих пор здесь никто еще не умирал. Казалось, что тут все собрались для вечной жизни. И кладбища на полигоне не было — это была у них первая смерть. Все она начинала, Аленка. Только оркестр был свой да флаги черно-красные склонялись скорбно.
Траурная музыка зазвучала над степью, и бомбы в тот день не рвались.
Похоронить Аленку решили на том самом кургане, где стоял прежде радиолокатор. Теперь его там уже не было, солдаты выкопали на кургане для своей любимицы маленький окопчик. Туда шла по степи вся процессия. Офицеры молча несли Аленку над головами, несли ее по своей ракетной степи, между боевыми мишенями, сквозь их настороженный, грозный блеск, а девочка, проплывая, улыбалась и сейчас. Она уходила от Уралова в вечность со своею улыбкой, с ее непередаваемым очарованием и как бы говорила ему: «Папочка! Я не видела ничего, кроме этих твоих ракет. Не видела весен. Цветения вишенного не знала. Ни синих рек, ни городов далеких, сказочно-прекрасных. Я успела увидеть только эти грозные блистающие ракеты, среди которых и прожила свою маленькую жизнь. Короткою жизнью зарницы жила я. Появилась, осветила улыбкой ваш полигон, сверкнула разливом счастья тебе, папочка, и маме, и вот теперь я иду от вас, ухожу от вас навсегда!..»
Как хотелось ему в этот миг уничтожить, изувечить здесь все, как жгло желание поделиться с нею своей собственной жизнью — да что поделиться! Он, ни секунды не колеблясь, отдал бы ей всю свою жизнь без остатка, только жила бы она, его ясочка, его звездочка, которую ему так и не удалось спасти…
Идут. Ветер рвет красно-черные флаги, развевает над степью, льются рыдающие звуки траурного марша; с трубами идут те, кто еще вчера дежурил на КП, — радисты, вычислители, планшетисты, а теперь делят с Ураловым бремя его тяжелого горя. Слепящий день похож на ночь. Блестят слезы на загорелых солдатских щеках. Голосит Галя. Стиснув зубы, шагает рядом с ней Уралов — грудь его переполнена болью. Трещит под ногами сухая трава, улыбается в затуманенное небо Аленка. Трубы, как удавы, обвили оркестрантов, а они, бросая в ветреную степь звуки печальных маршей, музыкой бунтуют против горя, тяжело шагают, скованные удавами-трубами, как Лаокооны.
Так и расстался он со своею Аленкой. Пустой и бесцельной после этого стала его жизнь. Проснется ночью — все Аленка перед глазами со своими ручонками, с шелком волос, с улыбкой — детская ее улыбка застилает собою все небо, весь мир! Нет и не будет во всех галактиках ничего лучше и милее этого — улыбки детской, ласковых ручонок, первого лепета… Было что-то бессмысленно жестокое в этом ударе судьбы, и жизнь его, столь устойчивая прежде, сразу как бы пошатнулась. Уралов чувствовал, что утешения не найдет, примирения с несчастьем не будет и что новое, обретенное в горе прозрение не перестанет терзать его. Зачем это солнце в небе, когда ее нет? Зачем все чудеса мира, все науки, к чему все радости земные, если все это ей, его ясочке, уже не нужно? Зачем, наконец, он сам, Уралов, и его тяжелый труд, и его неистовая преданность делу? Стал упорно добиваться перевода куда-нибудь в другое место. Хоть на Курилы, только не здесь! Сегодняшняя его поездка в город тоже была связана с этим. И, возвращаясь к вечеру домой, он свернул к кургану, где лежала Аленка, зная, что это уже прощание. Здесь, на могиле, и ночь его застала. Все вокруг налилось темнотой, и небо над степью нависло, изрешеченное звездными пробоинами, как гигантская мишень. Уралов, съежившись, сидел на кургане, какая-то ночная птица пролетела над ним, просвистела крыльями; вспомнилось детство в кустанайских степях, и какая там была на озерах охота, и как он, еще мальчонкой, бегал за охотниками, чтобы разными услугами взрослым заработать себе право пострелять. Сколько помнит себя, он всегда бредил охотой, далекий выстрел настораживал и бросал его в дрожь. Его охотничий пыл удивлял даже взрослых, им было смешно, что мальчишка, услышав отдаленный выстрел, бледнел от волнения, а он только и мечтал о той поре, когда вырастет и приобретет собственное ружье. Потом выяснилось, что у его деда-кузнеца сохранилось старинное ружье — катериновка, четвертый калибр, весом не менее пуда. Пушка, да и только! Говорили, что когда-то еще дедов дед, пугачевец, сделал его. Сам дед так и не выстрелил из него ни разу — боялся. А вот этот малец, Уралов, взял зарядил, вместо дроби шариков из подшипника набил, пошел на площадь, приладил к плугу, к курку привязал шнурочек, чтобы испытать издали. Вот это был выстрел! Однако ружье не разорвало. После этого зарядил снова, пристроил свою катериновку к велосипеду и покатил на озера в степь. Встречные парни-казахи смеялись: «Всех гусей твоя пушка перебьет!..» В поле гусей тьма, на просянище пасутся, летают, гогочут, валом валят. Он зарылся в копенку проса, выставил наружу только ствол своей гаубицы, под плечо картуз подложил, чтобы плечо отдачей не раздробило. Сидит не дышит, а гогот все ближе и ближе, гуси уже чуть ли не из-под него просо дергают, и вот он, затаив дыхание, прицелился и пальнул. Удар, искры из глаз — и он ничего больше не помнит. Очнулся. «Где это я? Что со мною?» Ружье отлетело далеко, картуз тоже, плечо горит, и… ни одного гуся. Однако это не отбило в нем страсти к охоте. Он снова и снова ходил со своей пудовой катериновкой на гусей и всякий раз после выстрела падал, оглушенный, пока в какой-то инструкции не вычитал, что надо было давать заряд вдвое меньший, чем давал он… Трудно сказать, почему именно сейчас вспомнилась ему эта ранняя мальчишеская страсть, блуждающим воспоминанием пришла она к нему среди ночной степи на могиле, где вечным сном спит его дочка. Не раз приходилось ему слышать жалобы на быстротечность человеческой жизни. Промелькнула как сон, пролетела мгновенно, не успел и оглянуться… Это так. Но сейчас его мысли о другом — о том, как много может вобрать в себя человеческая душа, мозг человеческий: целые галактики жизни может вместить в себе человек! Когда были те озера, гуси, просянище? Когда он впервые увидел трамвай? Первый самостоятельный вылет… Как все это далеко, далеко! Словно за далью веков. Почти в античности. И ничего этого Аленка не знала — ни гусей, ни просянищ, ни озер, и никогда уже не увидит. И в этом есть какая-то чудовищная несправедливость. Свежая житейская рана, она заслонила от него все, что было и что есть, болью своей терзает его и терзает. Фатальность? Если это фатальность, то он и ее ненавидит! Забрать у него Аленку, в самом расцвете загубить этот свежий росистый бутон, который уже умел всем дарить радость, — нет в этом смысла, нет, и никогда никто не убедит Уралова в том, что так бывает, и что ничего не поделаешь, и что «такова уж судьба». Не должно быть такой судьбы! За что она наказана, за что она погибла, его Аленка? Не было в ней ни злобы, ни ненависти, ни хитростей, ни коварства, не было ошибок и злых намерений. Была только ясность чистейшей улыбки, было только то, с чем человек рождается для жизни… Сверлит Уралова мысль, тревога, что, возможно, есть частица и его вины в происшедшем. Когда привозил Чабаниху, она предостерегала, что место, мол, не подходит для ребенка и не такие ему надобны игрушки. Только под тихими звездами, а не среди грохота и взрывов здоровым и счастливым будет зачатие человеческое… Он не придал тогда значения словам старухи, а теперь чем дальше, тем больше гложет его неотвязчивая мысль: «Может, и в самом деле все здесь пугало ребенка, грохот тревожил и эти взрывы, которые то и дело сотрясают землю, может, они и в самом деле не для детской психики?» Причину смерти девочки так и не удалось установить. Командиры и товарищи считали Уралова человеком упорным, волевым, настойчивым, человеком, для которого чувство долга превыше всего. А вот тут он не уверен, все ли он сделал, чтобы спасти Аленку, выполнил ли он свой долг перед нею до конца. Одно только знает, что эта тяжелая драма не прошла для него бесследно, что угасшие улыбки Аленки для него никогда не угаснут и никогда он уже не будет таким, каким был прежде. Глубокое внутреннее потрясение как бы шире открыло ему глаза на мир, на самую сущность жизни, и то, что ранее его могло ничуть не тронуть, сейчас уже не оставляло равнодушным. Так ли ты жил? Так ли живешь? Так ли все вы, люди, живете? Множество таких вопросов задала ему Аленка, спросила и ушла навсегда, а ему оставила вечность на размышления! Откуда-то из глубокой темноты слышится звон колокольчика. Приближается отара. Ведет ее не иначе как чабан Горпищенко, потому что только он отваживается углубляться с отарой так далеко в полигонные земли, да и полигонное начальство к нему не очень придирчиво — ведь у старика сын летчик и сам он человек заслуженный. Во время последних важных учений приехавший маршал быстро с Горпищенко сдружился, и для них обоих — для чабана и для маршала, — видно, было о чем потолковать у костра в степи около чабанской каши «в кожухе». В те дни все, что делалось на полигоне, было окутано особой секретностью, право доступа сюда имели только люди самые необходимые, остальных всех выселили. И чабан Горпищенко тоже только издали мог видеть, как незнакомые автомобили мчались в направлении полигона, как за один день появились там новые палатки и как потом на далекой косе, выходившей в море, выросло высокое ступенчатое сооружение, а в нем, словно в зыбке, в свивальнике, лежало что-то блестящее. Когда-то там орлы и другие дикие птицы гнездились, а теперь вон для каких птенцов люди гнезда вьют… — Хотите увидеть? — спросил его маршал при встрече. — Смотрите завтра в двенадцать. И чабан смотрел. Слышал удар, видел взрыв и как отделилась ракета. Видимая, настоящая, она вначале медленно, будто нехотя выходила из огненного вихря, а потом вдруг понеслась молнией и исчезла неуловимо, чтобы опуститься где-то, может, на далеких водах океана, тоже ровных и открытых, как степь. И сразу же после этого все разъехались, уехал и маршал, исчезли палатки, а берег на косе снова стал пустынным. — Это кто тут ночует? — спрашивает чабан, подходя к Уралову, и, узнав его, добавляет как-то смущенно: — А, это ты, сынок…
 И, шурша травой, усаживается рядом с ним.
Сидят оба молча, вслушиваясь в шорохи отары, пасущейся на чистой, не загрязненной ничьими овечками траве полигона. Из темноты время от времени доносится звон колокольчика, нежный, мелодичный.
— Для чего эта музыка? — спрашивает Уралов.
— А чтоб не растерялись… Да и любят овечки музыку. Сопилку, песенку или тронку вот такую…
— Как, как она называется?
— Тронка.
— Никогда не слыхал такого слова, — с грустью говорит Уралов. — Как много я еще не знаю!.. Красивый звук. Это медь?
Чабан встает, ловит овечку, подошедшую совсем близко, снимает у нее с шеи звоночек, чтобы показать Уралову. Тот берет в руки что-то тяжелое, металлическое, покореженное. Похоже на снарядную гильзу, согнутую вдвое. Позвонил, задумчиво послушал. Как антипод тишины — таков здесь звук этой тронки. Среди тьмы и молчания степи она как голос жизни.
— Кусок обыкновенной гильзы, — говорит он, возвращая тронку чабану, — а какой нежный издает звук.
Что-то просвистело в ночном воздухе: летучая мышь пролетела или какая птица, невзначай поднятая отарой из травы.
— Перепелка, или что? — промолвил, глядя вверх, Горпищенко. — Уже и перепелок теперь меньше стало. А лебедей? Когда-то у вас там, на косе, лебедей мужики возами набивали. Поедет и полон воз, как снегу, накладет. А теперь и птицы переводятся. Орел разве изредка покружит.
— Сколько он живет, орел?
— Да больше нас. Стоишь смотришь порой на него и думаешь: чего только эта птица не видела на своем веку! От чумаков до ракет — все он оком своим охватил…
— Хищник…
— Хищник-то хищник, а ты присмотрись к нему. У птиц свои законы. Даже коршун не бьет чужих птенчиков, когда они еще в гнезде…
Уралов спросил недоверчиво, нервно:
— Кто это видел?
— В народе давно подмечено… Пока пташка сидит на гнезде, никогда ее не тронет… — вздохнул чабан и, помолчав, обернулся к Уралову: — Правда, что тебя куда-то переводят?
— Не только меня. Весь полигон сворачиваем.
— Канал таки подпирает?
— Да и канал.
— Один полигон сворачиваем, а другой уже на его место спешит. Слышал — в Черниговке? Тоже полигон. Только иной. Полигон железобетонных изделий — так он называется. Железобетонные кольца изготовляют, облицовочные плиты для каналов, потребность там большая в разных бетонных изделиях. Моя Тонька как вспыхнет из-за чего-нибудь, так сразу и грозится: «Брошу, к бесам, вашу отару, в Черниговку на полигон пойду! Мотористкой бетономешалки стану!»
По ласковости голоса слышно, что старик улыбается в темноте.
— Но и мы свой полигон ликвидировать не собираемся, — ревниво говорит Уралов. — Только перекочуем на другое место.
— Пока бандиты вокруг хаты ходят, разве ж можно ликвидировать? Никак нельзя, — оживился чабан. — Того вон даже над Свердловском сбили, чего его туда занесло?.. А Петро тебе привет передает, позавчера письмо было…
— Спасибо.
— «Уралову, пишет, передайте привет и жене его…»
Чабан умалчивает о том, что, передавая Уралову и Гале привет, сын еще интересовался и тем, как маленькая Уралова растет. Чувствует старый, что нельзя сейчас об этом говорить — тяжело раненный возле него человек. Хоть и молчит чабан, но душа его полна сочувствия к Уралову, проникнута сейчас его горем, потому что в этой драме на полигоне было нечто такое, что касалось не только Ураловых, а глубоко тронуло души многих людей. Пройдет время, изменится степь, не будет уже тут и следов полигона, а чабан и тогда не одному еще расскажет, как родилось на полигоне дитя, как росла в этой ракетной степи на радость гарнизону славная девочка, и как стала потом кричать по ночам неизвестно отчего, и как угасла. Расскажет, как хоронили ее на этом кургане под музыку двух духовых оркестров — военного и совхозного — и как все бомбардировщики в тот день отменили свои полеты.
После паузы он снова заводит речь о канале:
— Как придет большая вода, изменит она весь край. Вволю напьется степь днепровской воды и зазеленеет. А то еще лето в разгаре, а тут уже все сгорело, горячая вьюга свистит, тучи пыли гонит. С водой будет веселее! Еще и рис будем сеять, как в Тарасовке. У них там, говорят, очень хорошо уродился, корейцы постарались… Семей сорок их в Тарасовку приехало, чтобы и наших научить. Потому хоть возле овец, хоть возле ракет, хоть возле рису — все уметь надо. Когда я в Средней Азии был, кое-что видел. Он теплой воды, скажем, не любит, ему только свежую, проточную, прохладную давай. А у соседей механизаторы уже и кукурузу на поливных посеяли: лес! Будет вода — все будет. И сады какие зашумят!.. Приезжай когда-нибудь в гости, увидишь. Запомнилось мне слово вашего маршала, умное слово, в самую душу запало. Сидим вот так, как с тобой, толкуем, и говорит он: «Даже если у меня есть самые наилучшие ракеты, даже если есть сила весь мир завоевать, не хочу я этого. Не нужны мне континенты-пепелища. Я хочу их видеть в зелени и в цвету, хочу под всеми звездами слышать шепот влюбленных…» Вот так, сынок.
Старик встает и, не прощаясь, уходит, исчезает где-то внизу за курганом; вместе с ним отдаляется в темноте и мелодичный звук тронки.
А Уралов и зарю утреннюю встретит здесь. Уже заблещет рассвет на голых ракетных оболочках, когда появится в степи женская фигура, торопливой, стремительной походкой приближаясь к «газику», к кургану. «Галя идет», — подумает Уралов и не ошибется. Это она спешит сюда, и в руках у нее полыхает охапка живых цветов, целый сноп густо окропленных росой бархоток и петуний, гвоздик и царских бородок. Поднявшись на курган, она молча кладет их там, где следует положить, лицо ее бледнит рассвет, а губы измученно подергиваются, но при взгляде на Уралова складываются в нечто похожее на улыбку.
— Бедненький, как ты измучился!.. И роса на тебе… Я так и думала, что ты здесь. Пойдем, милый… Пойдем…
Они сходят вниз, где застыл под курганом накренившийся «газик», садятся, и Уралов, включив скорость, трогает с места. Отъехав, еще раз останавливается, и оба молча оглядываются на курган, увенчанный маленьким, покрашенным охрой обелиском, который в это мгновение для них бесконечно выше всех этих холодных ракетных обелисков, сверкающих в утренней степи. Хмурясь, Уралов сообщает жене, что все уже решено: они переезжают, и полигон сворачивается, и эти ракеты сегодня же будут повалены его солдатами.
Светает, степь ширится, как бы раздвигаясь после ночной мглы, а на востоке за блестящими столбами ракет, между седыми казацкими могилами неожиданно появляется вишнево-красная верхушка еще одного кургана: и тот курган, свежий, яркий, молодой, все растет и растет, все выше поднимается над полосой горизонта, пока не становится наконец совсем круглым, становится уже не курганом, а солнцем.
И, шурша травой, усаживается рядом с ним.
Сидят оба молча, вслушиваясь в шорохи отары, пасущейся на чистой, не загрязненной ничьими овечками траве полигона. Из темноты время от времени доносится звон колокольчика, нежный, мелодичный.
— Для чего эта музыка? — спрашивает Уралов.
— А чтоб не растерялись… Да и любят овечки музыку. Сопилку, песенку или тронку вот такую…
— Как, как она называется?
— Тронка.
— Никогда не слыхал такого слова, — с грустью говорит Уралов. — Как много я еще не знаю!.. Красивый звук. Это медь?
Чабан встает, ловит овечку, подошедшую совсем близко, снимает у нее с шеи звоночек, чтобы показать Уралову. Тот берет в руки что-то тяжелое, металлическое, покореженное. Похоже на снарядную гильзу, согнутую вдвое. Позвонил, задумчиво послушал. Как антипод тишины — таков здесь звук этой тронки. Среди тьмы и молчания степи она как голос жизни.
— Кусок обыкновенной гильзы, — говорит он, возвращая тронку чабану, — а какой нежный издает звук.
Что-то просвистело в ночном воздухе: летучая мышь пролетела или какая птица, невзначай поднятая отарой из травы.
— Перепелка, или что? — промолвил, глядя вверх, Горпищенко. — Уже и перепелок теперь меньше стало. А лебедей? Когда-то у вас там, на косе, лебедей мужики возами набивали. Поедет и полон воз, как снегу, накладет. А теперь и птицы переводятся. Орел разве изредка покружит.
— Сколько он живет, орел?
— Да больше нас. Стоишь смотришь порой на него и думаешь: чего только эта птица не видела на своем веку! От чумаков до ракет — все он оком своим охватил…
— Хищник…
— Хищник-то хищник, а ты присмотрись к нему. У птиц свои законы. Даже коршун не бьет чужих птенчиков, когда они еще в гнезде…
Уралов спросил недоверчиво, нервно:
— Кто это видел?
— В народе давно подмечено… Пока пташка сидит на гнезде, никогда ее не тронет… — вздохнул чабан и, помолчав, обернулся к Уралову: — Правда, что тебя куда-то переводят?
— Не только меня. Весь полигон сворачиваем.
— Канал таки подпирает?
— Да и канал.
— Один полигон сворачиваем, а другой уже на его место спешит. Слышал — в Черниговке? Тоже полигон. Только иной. Полигон железобетонных изделий — так он называется. Железобетонные кольца изготовляют, облицовочные плиты для каналов, потребность там большая в разных бетонных изделиях. Моя Тонька как вспыхнет из-за чего-нибудь, так сразу и грозится: «Брошу, к бесам, вашу отару, в Черниговку на полигон пойду! Мотористкой бетономешалки стану!»
По ласковости голоса слышно, что старик улыбается в темноте.
— Но и мы свой полигон ликвидировать не собираемся, — ревниво говорит Уралов. — Только перекочуем на другое место.
— Пока бандиты вокруг хаты ходят, разве ж можно ликвидировать? Никак нельзя, — оживился чабан. — Того вон даже над Свердловском сбили, чего его туда занесло?.. А Петро тебе привет передает, позавчера письмо было…
— Спасибо.
— «Уралову, пишет, передайте привет и жене его…»
Чабан умалчивает о том, что, передавая Уралову и Гале привет, сын еще интересовался и тем, как маленькая Уралова растет. Чувствует старый, что нельзя сейчас об этом говорить — тяжело раненный возле него человек. Хоть и молчит чабан, но душа его полна сочувствия к Уралову, проникнута сейчас его горем, потому что в этой драме на полигоне было нечто такое, что касалось не только Ураловых, а глубоко тронуло души многих людей. Пройдет время, изменится степь, не будет уже тут и следов полигона, а чабан и тогда не одному еще расскажет, как родилось на полигоне дитя, как росла в этой ракетной степи на радость гарнизону славная девочка, и как стала потом кричать по ночам неизвестно отчего, и как угасла. Расскажет, как хоронили ее на этом кургане под музыку двух духовых оркестров — военного и совхозного — и как все бомбардировщики в тот день отменили свои полеты.
После паузы он снова заводит речь о канале:
— Как придет большая вода, изменит она весь край. Вволю напьется степь днепровской воды и зазеленеет. А то еще лето в разгаре, а тут уже все сгорело, горячая вьюга свистит, тучи пыли гонит. С водой будет веселее! Еще и рис будем сеять, как в Тарасовке. У них там, говорят, очень хорошо уродился, корейцы постарались… Семей сорок их в Тарасовку приехало, чтобы и наших научить. Потому хоть возле овец, хоть возле ракет, хоть возле рису — все уметь надо. Когда я в Средней Азии был, кое-что видел. Он теплой воды, скажем, не любит, ему только свежую, проточную, прохладную давай. А у соседей механизаторы уже и кукурузу на поливных посеяли: лес! Будет вода — все будет. И сады какие зашумят!.. Приезжай когда-нибудь в гости, увидишь. Запомнилось мне слово вашего маршала, умное слово, в самую душу запало. Сидим вот так, как с тобой, толкуем, и говорит он: «Даже если у меня есть самые наилучшие ракеты, даже если есть сила весь мир завоевать, не хочу я этого. Не нужны мне континенты-пепелища. Я хочу их видеть в зелени и в цвету, хочу под всеми звездами слышать шепот влюбленных…» Вот так, сынок.
Старик встает и, не прощаясь, уходит, исчезает где-то внизу за курганом; вместе с ним отдаляется в темноте и мелодичный звук тронки.
А Уралов и зарю утреннюю встретит здесь. Уже заблещет рассвет на голых ракетных оболочках, когда появится в степи женская фигура, торопливой, стремительной походкой приближаясь к «газику», к кургану. «Галя идет», — подумает Уралов и не ошибется. Это она спешит сюда, и в руках у нее полыхает охапка живых цветов, целый сноп густо окропленных росой бархоток и петуний, гвоздик и царских бородок. Поднявшись на курган, она молча кладет их там, где следует положить, лицо ее бледнит рассвет, а губы измученно подергиваются, но при взгляде на Уралова складываются в нечто похожее на улыбку.
— Бедненький, как ты измучился!.. И роса на тебе… Я так и думала, что ты здесь. Пойдем, милый… Пойдем…
Они сходят вниз, где застыл под курганом накренившийся «газик», садятся, и Уралов, включив скорость, трогает с места. Отъехав, еще раз останавливается, и оба молча оглядываются на курган, увенчанный маленьким, покрашенным охрой обелиском, который в это мгновение для них бесконечно выше всех этих холодных ракетных обелисков, сверкающих в утренней степи. Хмурясь, Уралов сообщает жене, что все уже решено: они переезжают, и полигон сворачивается, и эти ракеты сегодня же будут повалены его солдатами.
Светает, степь ширится, как бы раздвигаясь после ночной мглы, а на востоке за блестящими столбами ракет, между седыми казацкими могилами неожиданно появляется вишнево-красная верхушка еще одного кургана: и тот курган, свежий, яркий, молодой, все растет и растет, все выше поднимается над полосой горизонта, пока не становится наконец совсем круглым, становится уже не курганом, а солнцем.
Тронка
Прошло еще одно лето человеческой жизни. Отголубело море солнечной голубизной, разобраны в «Парижкоме» палатки пионерских лагерей — дети пошли в школу; не летают больше чайки на степные свои водопои; пущены комбайны на плантации засохших почерневших подсолнухов, которые, кажется, еще недавно так пышно цвели; птицы на побережье табунятся перед отлетом в теплые края; некоторые уже и снимаются, улетают, давая изображение на экранах локаторов; в Асканийском заповеднике поднялись в воздух даже лебеди и гуси канадские, считавшиеся акклиматизированными; и бухгалтерия теперь целую зиму будет высчитывать определенную сумму из зарплаты смотрителя за понесенный убыток, пока весной гуси и лебеди не вернутся снова, как уже было однажды. Небосклон в сухой дымке, чаще дуют ветры с севера, и седая трава на солончаках струится, как вода, а кусты чертополоха и ковыля летчику Серобабе с воздуха кажутся овцами, разбежавшимися по пастбищу. Тем временем настоящие отары — «золотое руно» степняков — бродят по всему приморью, выгуливаются перед зимой. Когда в июне во время стрижки стригали выпускают овец из кошар без руна, отара становится словно бы меньше наполовину, а сейчас чабанские отары снова увеличились, хотя это просто за лето выросла шерсть; овец уже принимаются вторично купать (первый раз купали в начале лета), чтобы в зиму пошли чистыми, здоровыми. На Горпищенковой кошаре купание овец уже началось, и распоряжается здесь Тоня — она осталась за старшую, потому что отец и мать в эти дни где-то далеко, полетели по вызову сына: женится Петро. По этому случаю он вызвал родителей телеграммой-молнией. На аэродроме мать с испугом подходила к реактивному, а отец еще и пошутил с летчиком: — Ты ж, сынок, сверхзвуковую скорость давай, чтобы меньше грохотало, а то мы со старухой погуторить хотим… Поднялись в воздух и полетели. Незадолго перед этим Петра перевели в другое место, и служба у него стала какой-то другой; летчик Серобаба уверяет, что в тот гарнизон, куда перевели Петра, попадает не всякий, серых да рябеньких туда не берут и что «Петра ты, Тоня, пожалуй, увидишь в голубом скафандре…» Военное судно-мишень еще стоит в далеком заливе, но теперь оно совсем забыто, его, наверно, сплошь затянуло паутиной; уже больше и не бомбят его, никто внимания на него не обращает. Только Тоня, как посмотрит в ту сторону, невольно вздрогнет: так нелепо могли бы погибнуть они с Виталием! Едва не стала для них могилой та опустевшая железная громада, где только пауки, да обломанные мачты, да опухолями вздулась палуба от взрывов. Словно бы сразу взрослее стали они после того приключения, словно бы новыми глазами смотрят и на себя, и на свою любовь, и на людей, и на жизнь. Как тот, кто однажды побывал под расстрелом и, оставшись в живых, не забудет этого, — так Тоня и Виталий не забудут тех ночей на железном острове, не забудут тягостного одиночества, когда они, как обреченные, сиротливо сидели, прижавшись друг к другу, а небо над ними на подзвездных высотах угрожающе, зловеще гудело… Будто в бреду, видит Тоня себя, измученную жаждой, и неутомимого даже в тех условиях Виталика, который, создав возле себя целую мастерскую, часами хлопочет, что-то трет, пилит, силясь добыть хоть первобытным способом искру огня. Напрасными были все его усилия. Лишь потом, шаря по судну, он нашел какое-то стеклышко, и оказалось, что оно обладает свойствами линзы, а значит, может собрать лучи пучком, навести их на край штанины и поджечь ткань. Солдаты с полигона первыми заметили вечером сигналы с судна, огненные точки и тире, что передавал побережью Виталик, размахивая с мачты пылающим клубком. А потом они попали в мощный луч прожектора, примчался катер, и на нем капитан Дорошенко да знакомые ребята с полигона с шуточками насчет съеденной гармошки… А теперь уже и полигона нет, его бескрайние степные просторы ныне свободны для чабанских отар, и Тоня, углубившись в эти просторы, натыкается подчас на прочные укрытия в земле да на остатки клумб у командного пункта, да еще читает на стенде полусмытые дождем слова: «Воин, выполняй устав безупречно, смело и честно!» И эти слова, хотя адресованные и не ей, трогают в ее душе какую-то ранее не задетую струну… Не удалось пока Тоне организовать девичью чабанскую бригаду — разлетелись ее одноклассницы кто куда: одни работают по своим отделениям, на фермах или в поле, Лина и Кузьма на канале, Алла Ратушная попала в институт, а Нина Иваница и Жанна Перепичка устроились в городе на текстильном комбинате, пишут, что хоть и трудно, однако им очень нравится, «такие красивые яркие ткани, Тоня, выпускаем — всех наших степнячек оденем в самые лучшие наряды, довольно им в ватниках ходить…». Работа этих девчат Тоню не на шутку привлекает, их ткани, струящиеся цветными водопадами из станков, часто встают у нее перед глазами, и если эта чабанская степь в самом деле будет когда-то распахана и рис здесь посеют, то, может, и сама она тоже окажется в городе с девчатами на текстильном. А покамест, словно бы нарочно, надевает на себя заношенный отцовский ватник, повязывается суконным платком, обувается в резиновые сапоги и идет наводить порядок у кошары. Нынче Тоня с чабанами купает овец. Овечья ванна для купания имеет вид длинного зацементированного рва, наполненного какой-то бурдой — это подогретая вода с дезинфицирующим раствором. Загнав в загородку часть отары, чабаны ловят овцу за овцой и бросают в этот ров, овца испуганно плывет по нему, а сверху Тоня еще и рогулей ее придавит, чтобы с головою окунулась в ту взбаламученную теплую бурду, чтоб вся короста с овечки сошла. «Калеки двадцатого века, будете вы у меня чистенькими!» — мысленно приговаривает Тоня, пуская в ход рогулю. Порой перед глазами Тони вместо овечек возникаете вы, городские вертопрахи, маменькины сынки, те, что, обмотавшись пестренькими шарфиками, бьют баклуши на проспектах да пьянствуют вечерами по ресторанам на отцовские деньги, а потом кривляются в рок-н-роллах со своими такими же партнершами-тунеядками. Это вас Тоня, стоя над рвом в резиновых, забрызганных раствором сапогах, в платке и ватнике (в этом тоже вроде ее вызов вам), это вас она сверху еще и рогулей придавливает, поглубже окунает в овечью ванну, чтобы вся нечисть сошла с вас; это вы, голубчики, выбравшись из рва, встряхиваетесь перед Тоней на площадке и, очищенные от коросты, вприпрыжку скачете снова в отару, уже чистую. Может, не так теперь будете крутить носом, услышав чабанский дух и запах овечьих медикаментов, не смертельно уже будет пугать вас чабанское ремесло, и, прежде чем зубоскалить над рабочим ватником, распахнувшемся на Тоне, вы подумаете, откуда берутся ваши шарфики и модные штаны, узнаете, что не из воздуха появились они, а что их добыли неусыпным трудом чабанским здесь вот, в степях. — Так их, Тоня, окунай поглубже, отмывай почище! — крикнет иной раз Демид или Корней, загоняя овец в ров, и девушке кажется, что и чабаны сейчас думают о том же, что и она. — А знаешь, когда-то уже была мода на узкие штаны, — говорит между делом Демид своему напарнику. — Я сам, можно сказать, в стилягах ходил… — Трудно узнать в тебе бывшего стилягу, — отвечает Корней, исподлобья глянув на подпоясанного веревкой, забрызганного своего напарника. — Здорово перевоспитался… — Еще когда ходил в парубках, загорелся было желанием такие штаны раздобыть, чтоб на целый век хватило… Дай, думаю, сошью штаны из линтваря.[8] Добротные получились, всем на зависть. Дождь идет, а я себе разгуливаю в них — не промокают мои штаны! А только после дождя, как ударила жара, чувствую я, что штаны мои словно бы уменьшаются. Да так, скажу тебе, уменьшаются, что уже и не согнуться, хожу, как на параде, гусиным шагом, а потом цурка[9] так придавила живот — хоть кричи! Они еще долго оба с серьезным видом рассуждают о легендарных тех штанах, пока Корней, словно бы соревнуясь с Демидом, не начинает свою байку. — А у нас, когда мы у батька были малышами, — говорит он, — кожух был… Скажу тебе, Демид, такой кожух, что по всей Таврии не сыщешь! Не хуже твоих штанов. Семья большая, одежки путной кот наплакал, кожух только и выручает: острижем его, бывало, рукавиц из шерсти понавяжем и валенок наваляем. Сколько ни стрижешь, а кожух все теплый, на следующую зиму шерсть на нем вновь как была! — Вон кому б такой кожух! Век могли б не сеять и не жать… Перемигнувшись, чабаны посматривают в сторону овчарни, где в это время месят глину несколько женщин-тунеядок, которые, согласно закону, по приговору суда направлены из города отбывать свой срок в совхозе. Другие совхозы от них отказались, не хотел брать и Пахом Хрисанфович, который после болезни хоть и с третью желудка, но с прежней энергией приступил к исполнению своих обязанностей. — Не навязывайте мне этой публики! — упорно отбивался он от тунеядок. — Почему ко мне? Почему не в «Приморский»? Разве у меня хозяйство хуже, чем у них? Однако Лукия Назаровна была другого мнения: кто-то же, мол, должен перевоспитывать и эту публику, — и вот тунеядок, взятых из рук правосудия, привезли в совхоз — привезли под конвоем, а здесь расконвоировали: работайте на воле, как все. Были среди привезенных спекулянтки, пойманные на горячем, и злостные сектантки, и выловленные на курортных пляжах женщины легкого поведения; одна из них — рыжая, видная — считала себя женщиной порядочной, замужем, только беда вот — путала мужей: один раз называла себя женой летчика, а другой — моряка-подводника. Эта последняя, по прозванию Варя-алкоголичка, с двумя молчаливыми сектантками при распределении попала в Горпищенкову бригаду. Что и говорить, было над чем потешаться чабанам! Без внутренней улыбки не могли они смотреть, как эта не то летчица, не то подводница, высоко подобрав юбку, ходит теперь со своими товарками, как журавлиха по кругу, месит и месит после горячих пляжных песков холодную в замесе глину, которой будет потом замазывать дырки в стенах кошары, чтобы зимой на ягнят не дуло. Иной раз Тоня разрешает ей уже и отару пасти, к этому делу Варя охотница, нарядится в самое лучшее, идет к отаре, будто на танцы, красуется возле нее с городской сумочкой в руке, с ногтями, на которых еще и лак не сошел, с остатками завивки на голове гнедой, то бишь каштановой, масти… Походит, попасет, достанет из сумочки зеркальце, подкрасит губы и снова пасет. А лицо помятое, испитое, голос хриплый, и хоть, может, во время своих оргий где-то там она была совсем иная, здесь в ней осталась лишь покорность, появилось что-то жалкое, она готова без всякого протеста выполнить любое распоряжение Тони. Девушке иногда становилось просто жаль ее. «До чего может опуститься человек», — думала Тоня не раз, и ей хочется искренне верить, что эта тунеядка со временем перестанет быть такой, хочется верить и в правдивость ее слов, когда она с каким-то неумелым заискиванием рассказывала Тоне о своем летчике, а на следующий день о подводнике, который был якобы ее законным мужем, и вся беда в том, что она не позаботилась вовремя зарегистрировать с ним брак. — Он как узнает, обязательно меня разыщет, добьется, чтобы сняли судимость, и мы тогда по-новому заживем, — говорила она, прихорашиваясь перед зеркальцем, а Тоня смотрела на несчастную женщину с жалостью и сочувствием. Корней и Демид, хотя и не были к таким особам сердобольными, но и они через некоторое время с приятным удивлением стали замечать, что дамочка эта понятлива в работе, выполняет поручения с душой и почему-то особенно внимательна к больному, искалеченному ягненку, который и до сих пор прыгал при их отаре. Она за ним нянькой ходила, и, когда ягненок блеял, отстав, она тотчас бросалась к нему, и даже слезы у нее на глаза навертывались при виде того, как ягненок мучится, силясь встать на изуродованные свои ножки. И чем основательней Варя втягивалась в работу, тем лучше к ней относились и чабаны. Особенно Тоня крепко верила в свою «педагогическую поэму», да и чабаны огонь своих насмешек чаще переносили теперь на сектанток, которые были очень упрямы и работы поначалу избегали, а на чабанские насмешки отвечали молчанием либо мрачными цитатами из Библии.
Но вот теперь и они уже работают. Тоня своей бригадирской властью заставила их убирать кошару для овец: там подмажьте, там подметите, там подстелите. Трудятся послушно, видимо, все, что приказывает Тоня, считают делом богоугодным. А может, просто, глядя на целодневную чабанскую работу, они и сами приохотились, душой потянулись к труду. Приготовили замес, взялись обмазывать стены глиной; работают дружно, уверенно — взглянул бы кто со стороны, даже и не подумал бы, что перед ним осужденные люди, лишь отбывающие свою повинность.
После обеда тунеядки и вовсе повеселели, особенно подводница, которой добросердечная жена Корнея даже стопку поднесла, даром что своего мужа все время приструнивает, чтобы не заглядывал в чарку. Теперь уже не сектантки, а Варя хриплым своим голосом цитировала им Библию:
— Суета сует и всяческая суета! Страшный суд, атомный суд — ну и что? Кроме дружинников, никого не боюсь!
Ей было весело, весело было и чабанам, которые с любопытством смотрели, как она, неуклюже прижав к себе древко вил, у всех на виду подкрашивает губы.
Невесело купала овец только Тоня — из дому она вернулась чем-то огорченная, заплаканная. Это не укрылось от Вари-тунеядки, она, кажется, первой заметила, что девушка расстроена.
— Что случилось, Тоня? — спросила она негромко, перед тем как уходить от чабанов, а Тоня лишь отмахнулась: идите, мол, занимайтесь своим делом!
А сама принялась почти со злостью орудовать своей рогулей над пенистой овечьей ванной.
Было о чем задуматься Тоне. Завтра в совхозе станет меньше еще одним выпускником их класса, еще с одним придется распрощаться, и этим одним будет ее Виталик. Уже несколько дней она знала об этом, знала, что разлука неминуемо надвигается, и готовила себя к ней, а сейчас, когда в переданной школьниками записке прочитала, что день отъезда назначен на завтра, не могла удержаться от слез. При детях, при школьниках так и брызнули обильные слезы, а они, двое мальчиков из четвертого «Б», смотрели с испугом на нее, на бывшую свою вожатую, и что-то лепетали Тоне про школьный исторический музей, просили от имени учителя и кружка юных историков дать какие-нибудь старинные чабанские вещи для этого музея. Взяв себя в руки, немного успокоившись, Тоня стала обдумывать, что бы им, в самом деле, дать, ведь к своему школьному музею она была неравнодушна. Герлыгу? Отцовская разукрашенная медью герлыга висела на гвоздике под крышей, ее раскачивал ветер, и мальчонки-историки смотрели на нее с восторгом — она была блестящая, исхлестанная травами, отполированная, как слоновая кость. Но эту вещь Тоня не имела права отдать: герлыга еще будет служить и отцу и ей. Не могла она дать им и эту звонкую тронку, что, снятая на время купания отары, лежала сейчас возле хаты, — у юных историков так и разгорелись глаза, когда они увидели ее.
— Если бы звоночек этот… тронку, — робко просили они. — Это же настоящий чабанский экспонат…
— Нет, тронку не дам, — сказала Тоня. — Без нее ночью никак нельзя.
В конце концов, она передала для музея чабанское деревянное корытце, из которого чабаны тузлук когда-то ели. Теперь тузлук давно уже едят из мисок, а корытце к тому же и рассохлось.
Дети охотно взяли корытце, и Тоня прикинула в уме, где они его поставят в школьной музейной комнате. В создании той комнаты была частица и ее энтузиазма, комната вышла на славу, в ней посетитель видит обыкновеннейшие вещи, которые, попав сюда, сразу становятся необычными, становятся экспонатами. Среди экспонатов уже есть герлыги. И постолы чабанские. И каток да валек деревянный. На стенах яркие рушники да полуистлевшие вышивки с материнских рубашек, раздобытые у здешних матерей и переселенок из западных областей Украины. Есть в этом музейчике также разные подарки, присланные бывшими воспитанниками школы, что разбрелись теперь по всему свету. Один прислал марки вьетнамские, другой — камешки с Урала. От капитана — куклы японские. Но самым интересным экспонатом музея был редкостный любительский снимок, на котором можно было узнать первого советского космонавта сразу же после его приземления. Это был подарок родной школе от одного из ее воспитанников, чья теперешняя служба позволяла видеть космонавта раньше и ближе, чем другим. На снимке космонавт был заросший и еще словно бы измученный полетом, не похожий на того, что смеется со страниц газет. Перед этим снимком Тоня часто останавливалась, и Виталик даже чуть-чуть ревновал.
Маленькие школьники оказались назойливыми, они принялись клянчить, чтобы Тоня дала для музея и свою фотографию:
— Вы ж теперь чабанка, гордость школы, так про вас учитель сказал.
Тоня отказала наотрез — рано, мол, а жена Демида, хозяйничавшая у летней кухни, услышав разговор, крикнула зычно:
— Может, вам и печку эту передать в музей? В других совхозах чабанам уже газовые плиты собираются ставить, а наше начальство и в ус не дует! И окна вон побиты, а стекла кто вставит?
Она кричала на детей, как на взрослых, как на виновников всех ее невзгод, запасы критики были у нее неисчерпаемы, а голос оказался таким, что дети, удаляясь со своими трофеями в степь, еще долго удивленно оглядывались.
…Работает Тоня, купает овец, быстро, споро и как-то даже сердито, будто хочет их своей рогулей потопить; работает, а душа горит, а мысли все о Виталике. Завтра на рассвете, когда она выгонит отару на пастбище, Виталик уже поедет, поедет неведомо куда и насколько. Капитан Дорошенко забирает его с собой. Поговаривали о капитане, что он лучевую болезнь схватил в океане, а он вот выздоровел, едет на кораблестроительный принимать вновь построенное судно, экипаж новый набирать и первым в состав будущего экипажа берет Виталика корабельным радистом. Виталик был на седьмом небе, когда капитан, получив радиограмму, предложил ему новую должность. Примчался он к Тоне в тот день запыхавшийся, расцветший:
— А ты как? Может, ты против?
Пожалуй, она могла бы его удержать, удержать здесь силой своего чувства, своей любви, но Тоня не сделала этого: разве может она приковать его к себе, когда перед ним открывается океан! Сама же одобрила, сама же вместе с ним радовалась, мечтала, а теперь, когда приблизился час разлуки, то и слезу пустила. Даже зло берет на себя за то, что оказалась плаксой. Виталик заедет сегодня прощаться, а она и переодеться не успела — как была с утра, так и после перерыва вышла работать в своей чабанской одежде, пускай видит ее такой, как она есть, в этом ватнике и в сапогах, забрызганных в овечьей купели. Не видел он ее еще такой — так пусть увидит. Пусть знает, что всю зиму эти сапоги будут месить грязь да навоз, лицо обветрится, исхлестанное дождями, руки огрубеют и потрескаются в работе, разнося силос тяжелый да прижимая к груди ягнят пахучих, влажных, когда в кошаре холодно и нужно их согреть своим теплом… А если кто думает, что Тоня, только проводив Виталика, на другой же день побежит в клуб на танцы и к ней можно будет приставать, — ох, очень тот рискует схватить от нее горячую оплеуху! Так влепит, что эхо покатится по всей Центральной! Праздничные блузки, платья и туфли на тонких каблуках — все спрячет: до возвращения Виталика в резине будет ходить, в ватнике, в лохмотьях! Она покажет вам, калеки двадцатого века, что и сейчас люди умеют любить и преданно ждать любимых!
Виталий приехал, примчался на мотоцикле уже под вечер, при заходе солнца и, застав все чабанство еще за работой, пошел прямо к Тоне, улыбаясь ей. Его нисколько не удивила ее чабанская роба, а рогуля, которой Тоня умело орудовала, даже заинтересовала хлопца — он попросил:
— А ну, дай и я попробую.
И хотя был хлопец одет уже по-городскому, в тужурке чистенькой и в новых туфлях, однако, став у рва и орудуя рогулей, принялся весело подталкивать барашков, чтобы ныряли в тот подогретый мутный раствор.
Хлопец еще был здесь, возле кошары, еще стоял над цементированным рвом, откуда разносился запах креолина, еще был он сам частицей этой степи, а Тоня уже видела его где-то на океанских просторах, среди аппаратуры в радиорубке, среди разбушевавшихся волн, что бьют до самой верхней палубы, брызгами стреляют в иллюминатор… В штормовые далекие рейсы пойдет он, а мог бы неотлучно быть здесь, возле нее. Может, сказать: не уезжай? Еще не поздно. Нет, не скажет она этого. Лучше ждать будет, вроде тех збурьевских женщин, что по полгода ждут своих китобоев!
На время купания тронка снята с овечьей шеи, и дети чабанские теперь забавляются ею. И Виталик взял тронку, позвонил, как школьным колокольчиком. Внимательно рассмотрел: медная снарядная гильза сплюснута, согнута вдвое, словно побывала в руках какого-то силача. Смерть таила в себе, а стала нежным степным звоночком…
— Грубая, корявая работа, а звук такой нежный…
Тоня, повеселев, рассказала, как юные историки просили сегодня эту тронку для школьного музея, а она не дала.
— И верно. Чего ей там пылиться? Ей по степи гулять.
— А ты привезешь им что-нибудь? — спросила Тоня.
— Я меч-рыбу им привезу… Золотую макрель. Нет, кита голубого!
— А я им корытце чабанское подарила, — сказала Тоня и добавила с несвойственной ей застенчивостью и смущением: — Фотографию мою тоже просили, зачем она им? Где они меня там поместят?
— Как где? А там, где и космонавт.
— Такое скажешь… Вон мой космос, — кивнула Тоня в открытую бурую степь, и в голосе ее прозвучала грусть.
Виталий смотрел на нее, опечаленную, немного усталую, в одежде рабочей, вспомнил, какой беззаботной была она в степи в тот день, когда чаек поили. Не та уже хохотушка-десятиклассница, другой стала, более серьезной, задумчивой, — новые обязанности словно бы наложили на нее свой отпечаток. Не школьница, а молодая чабанка стоит перед ним, оставленная здесь за старшую, временно заменяющая отца, а может, и не временно.
— Всех выкупала?
— Всех.
— А теперь?
— Овчарню будем утеплять.
Начинается пора ветров, туманов да осенней стужи, коротких дней и длинных ночей. Еще затемно будет выходить с отарой в степь, по глазам печальным, по щекам этим нежным будут сечь холодные дожди.
Тебе открываются океанские дороги, а ей жить здесь, на этих фермах, в степях, где люди в тяжкой работе рано стареют, зато долго живут и растят детей целыми стайками.
— Я буду посылать тебе радиограммы. Отовсюду!
— Хорошо, — тихо отвечает девушка.
Не та, не та сейчас Тоня, не вспыхивает всякий миг, как прежде, весельем — грусть таится в ее орехово-карих глазах, но как он любит ее и такую, любит даже еще крепче! крепче! крепче! «Нигде, никогда я тебя не забуду! Знай, что никто так не ждет своих любимых, как моряки. Всюду ты будешь со мной. Из самых дальних плаваний к тебе вернусь! А чтоб все тут знали, что нас с тобой объединяет, так вот тебе моя клятва, пусть будет она вот какой!..»
Хлопец хватает Тоню и при всех целует, целует самозабвенно, и молча смотрят на их прощание чабаны и чабанки у хаты, и сектантки у кошары, и гнедая тунеядка-подводница платочком вытирает глаза, растроганная чужойлюбовью.
Это, собственно, и было их расставанием. Было после этого лишь удаляющееся стрекотание мотоцикла в степи, да разлив багрово пылающего солнца по линии горизонта, да на его фоне искупанная, продрогшая отара мериносов.
Корней и Демид, хотя и не были к таким особам сердобольными, но и они через некоторое время с приятным удивлением стали замечать, что дамочка эта понятлива в работе, выполняет поручения с душой и почему-то особенно внимательна к больному, искалеченному ягненку, который и до сих пор прыгал при их отаре. Она за ним нянькой ходила, и, когда ягненок блеял, отстав, она тотчас бросалась к нему, и даже слезы у нее на глаза навертывались при виде того, как ягненок мучится, силясь встать на изуродованные свои ножки. И чем основательней Варя втягивалась в работу, тем лучше к ней относились и чабаны. Особенно Тоня крепко верила в свою «педагогическую поэму», да и чабаны огонь своих насмешек чаще переносили теперь на сектанток, которые были очень упрямы и работы поначалу избегали, а на чабанские насмешки отвечали молчанием либо мрачными цитатами из Библии.
Но вот теперь и они уже работают. Тоня своей бригадирской властью заставила их убирать кошару для овец: там подмажьте, там подметите, там подстелите. Трудятся послушно, видимо, все, что приказывает Тоня, считают делом богоугодным. А может, просто, глядя на целодневную чабанскую работу, они и сами приохотились, душой потянулись к труду. Приготовили замес, взялись обмазывать стены глиной; работают дружно, уверенно — взглянул бы кто со стороны, даже и не подумал бы, что перед ним осужденные люди, лишь отбывающие свою повинность.
После обеда тунеядки и вовсе повеселели, особенно подводница, которой добросердечная жена Корнея даже стопку поднесла, даром что своего мужа все время приструнивает, чтобы не заглядывал в чарку. Теперь уже не сектантки, а Варя хриплым своим голосом цитировала им Библию:
— Суета сует и всяческая суета! Страшный суд, атомный суд — ну и что? Кроме дружинников, никого не боюсь!
Ей было весело, весело было и чабанам, которые с любопытством смотрели, как она, неуклюже прижав к себе древко вил, у всех на виду подкрашивает губы.
Невесело купала овец только Тоня — из дому она вернулась чем-то огорченная, заплаканная. Это не укрылось от Вари-тунеядки, она, кажется, первой заметила, что девушка расстроена.
— Что случилось, Тоня? — спросила она негромко, перед тем как уходить от чабанов, а Тоня лишь отмахнулась: идите, мол, занимайтесь своим делом!
А сама принялась почти со злостью орудовать своей рогулей над пенистой овечьей ванной.
Было о чем задуматься Тоне. Завтра в совхозе станет меньше еще одним выпускником их класса, еще с одним придется распрощаться, и этим одним будет ее Виталик. Уже несколько дней она знала об этом, знала, что разлука неминуемо надвигается, и готовила себя к ней, а сейчас, когда в переданной школьниками записке прочитала, что день отъезда назначен на завтра, не могла удержаться от слез. При детях, при школьниках так и брызнули обильные слезы, а они, двое мальчиков из четвертого «Б», смотрели с испугом на нее, на бывшую свою вожатую, и что-то лепетали Тоне про школьный исторический музей, просили от имени учителя и кружка юных историков дать какие-нибудь старинные чабанские вещи для этого музея. Взяв себя в руки, немного успокоившись, Тоня стала обдумывать, что бы им, в самом деле, дать, ведь к своему школьному музею она была неравнодушна. Герлыгу? Отцовская разукрашенная медью герлыга висела на гвоздике под крышей, ее раскачивал ветер, и мальчонки-историки смотрели на нее с восторгом — она была блестящая, исхлестанная травами, отполированная, как слоновая кость. Но эту вещь Тоня не имела права отдать: герлыга еще будет служить и отцу и ей. Не могла она дать им и эту звонкую тронку, что, снятая на время купания отары, лежала сейчас возле хаты, — у юных историков так и разгорелись глаза, когда они увидели ее.
— Если бы звоночек этот… тронку, — робко просили они. — Это же настоящий чабанский экспонат…
— Нет, тронку не дам, — сказала Тоня. — Без нее ночью никак нельзя.
В конце концов, она передала для музея чабанское деревянное корытце, из которого чабаны тузлук когда-то ели. Теперь тузлук давно уже едят из мисок, а корытце к тому же и рассохлось.
Дети охотно взяли корытце, и Тоня прикинула в уме, где они его поставят в школьной музейной комнате. В создании той комнаты была частица и ее энтузиазма, комната вышла на славу, в ней посетитель видит обыкновеннейшие вещи, которые, попав сюда, сразу становятся необычными, становятся экспонатами. Среди экспонатов уже есть герлыги. И постолы чабанские. И каток да валек деревянный. На стенах яркие рушники да полуистлевшие вышивки с материнских рубашек, раздобытые у здешних матерей и переселенок из западных областей Украины. Есть в этом музейчике также разные подарки, присланные бывшими воспитанниками школы, что разбрелись теперь по всему свету. Один прислал марки вьетнамские, другой — камешки с Урала. От капитана — куклы японские. Но самым интересным экспонатом музея был редкостный любительский снимок, на котором можно было узнать первого советского космонавта сразу же после его приземления. Это был подарок родной школе от одного из ее воспитанников, чья теперешняя служба позволяла видеть космонавта раньше и ближе, чем другим. На снимке космонавт был заросший и еще словно бы измученный полетом, не похожий на того, что смеется со страниц газет. Перед этим снимком Тоня часто останавливалась, и Виталик даже чуть-чуть ревновал.
Маленькие школьники оказались назойливыми, они принялись клянчить, чтобы Тоня дала для музея и свою фотографию:
— Вы ж теперь чабанка, гордость школы, так про вас учитель сказал.
Тоня отказала наотрез — рано, мол, а жена Демида, хозяйничавшая у летней кухни, услышав разговор, крикнула зычно:
— Может, вам и печку эту передать в музей? В других совхозах чабанам уже газовые плиты собираются ставить, а наше начальство и в ус не дует! И окна вон побиты, а стекла кто вставит?
Она кричала на детей, как на взрослых, как на виновников всех ее невзгод, запасы критики были у нее неисчерпаемы, а голос оказался таким, что дети, удаляясь со своими трофеями в степь, еще долго удивленно оглядывались.
…Работает Тоня, купает овец, быстро, споро и как-то даже сердито, будто хочет их своей рогулей потопить; работает, а душа горит, а мысли все о Виталике. Завтра на рассвете, когда она выгонит отару на пастбище, Виталик уже поедет, поедет неведомо куда и насколько. Капитан Дорошенко забирает его с собой. Поговаривали о капитане, что он лучевую болезнь схватил в океане, а он вот выздоровел, едет на кораблестроительный принимать вновь построенное судно, экипаж новый набирать и первым в состав будущего экипажа берет Виталика корабельным радистом. Виталик был на седьмом небе, когда капитан, получив радиограмму, предложил ему новую должность. Примчался он к Тоне в тот день запыхавшийся, расцветший:
— А ты как? Может, ты против?
Пожалуй, она могла бы его удержать, удержать здесь силой своего чувства, своей любви, но Тоня не сделала этого: разве может она приковать его к себе, когда перед ним открывается океан! Сама же одобрила, сама же вместе с ним радовалась, мечтала, а теперь, когда приблизился час разлуки, то и слезу пустила. Даже зло берет на себя за то, что оказалась плаксой. Виталик заедет сегодня прощаться, а она и переодеться не успела — как была с утра, так и после перерыва вышла работать в своей чабанской одежде, пускай видит ее такой, как она есть, в этом ватнике и в сапогах, забрызганных в овечьей купели. Не видел он ее еще такой — так пусть увидит. Пусть знает, что всю зиму эти сапоги будут месить грязь да навоз, лицо обветрится, исхлестанное дождями, руки огрубеют и потрескаются в работе, разнося силос тяжелый да прижимая к груди ягнят пахучих, влажных, когда в кошаре холодно и нужно их согреть своим теплом… А если кто думает, что Тоня, только проводив Виталика, на другой же день побежит в клуб на танцы и к ней можно будет приставать, — ох, очень тот рискует схватить от нее горячую оплеуху! Так влепит, что эхо покатится по всей Центральной! Праздничные блузки, платья и туфли на тонких каблуках — все спрячет: до возвращения Виталика в резине будет ходить, в ватнике, в лохмотьях! Она покажет вам, калеки двадцатого века, что и сейчас люди умеют любить и преданно ждать любимых!
Виталий приехал, примчался на мотоцикле уже под вечер, при заходе солнца и, застав все чабанство еще за работой, пошел прямо к Тоне, улыбаясь ей. Его нисколько не удивила ее чабанская роба, а рогуля, которой Тоня умело орудовала, даже заинтересовала хлопца — он попросил:
— А ну, дай и я попробую.
И хотя был хлопец одет уже по-городскому, в тужурке чистенькой и в новых туфлях, однако, став у рва и орудуя рогулей, принялся весело подталкивать барашков, чтобы ныряли в тот подогретый мутный раствор.
Хлопец еще был здесь, возле кошары, еще стоял над цементированным рвом, откуда разносился запах креолина, еще был он сам частицей этой степи, а Тоня уже видела его где-то на океанских просторах, среди аппаратуры в радиорубке, среди разбушевавшихся волн, что бьют до самой верхней палубы, брызгами стреляют в иллюминатор… В штормовые далекие рейсы пойдет он, а мог бы неотлучно быть здесь, возле нее. Может, сказать: не уезжай? Еще не поздно. Нет, не скажет она этого. Лучше ждать будет, вроде тех збурьевских женщин, что по полгода ждут своих китобоев!
На время купания тронка снята с овечьей шеи, и дети чабанские теперь забавляются ею. И Виталик взял тронку, позвонил, как школьным колокольчиком. Внимательно рассмотрел: медная снарядная гильза сплюснута, согнута вдвое, словно побывала в руках какого-то силача. Смерть таила в себе, а стала нежным степным звоночком…
— Грубая, корявая работа, а звук такой нежный…
Тоня, повеселев, рассказала, как юные историки просили сегодня эту тронку для школьного музея, а она не дала.
— И верно. Чего ей там пылиться? Ей по степи гулять.
— А ты привезешь им что-нибудь? — спросила Тоня.
— Я меч-рыбу им привезу… Золотую макрель. Нет, кита голубого!
— А я им корытце чабанское подарила, — сказала Тоня и добавила с несвойственной ей застенчивостью и смущением: — Фотографию мою тоже просили, зачем она им? Где они меня там поместят?
— Как где? А там, где и космонавт.
— Такое скажешь… Вон мой космос, — кивнула Тоня в открытую бурую степь, и в голосе ее прозвучала грусть.
Виталий смотрел на нее, опечаленную, немного усталую, в одежде рабочей, вспомнил, какой беззаботной была она в степи в тот день, когда чаек поили. Не та уже хохотушка-десятиклассница, другой стала, более серьезной, задумчивой, — новые обязанности словно бы наложили на нее свой отпечаток. Не школьница, а молодая чабанка стоит перед ним, оставленная здесь за старшую, временно заменяющая отца, а может, и не временно.
— Всех выкупала?
— Всех.
— А теперь?
— Овчарню будем утеплять.
Начинается пора ветров, туманов да осенней стужи, коротких дней и длинных ночей. Еще затемно будет выходить с отарой в степь, по глазам печальным, по щекам этим нежным будут сечь холодные дожди.
Тебе открываются океанские дороги, а ей жить здесь, на этих фермах, в степях, где люди в тяжкой работе рано стареют, зато долго живут и растят детей целыми стайками.
— Я буду посылать тебе радиограммы. Отовсюду!
— Хорошо, — тихо отвечает девушка.
Не та, не та сейчас Тоня, не вспыхивает всякий миг, как прежде, весельем — грусть таится в ее орехово-карих глазах, но как он любит ее и такую, любит даже еще крепче! крепче! крепче! «Нигде, никогда я тебя не забуду! Знай, что никто так не ждет своих любимых, как моряки. Всюду ты будешь со мной. Из самых дальних плаваний к тебе вернусь! А чтоб все тут знали, что нас с тобой объединяет, так вот тебе моя клятва, пусть будет она вот какой!..»
Хлопец хватает Тоню и при всех целует, целует самозабвенно, и молча смотрят на их прощание чабаны и чабанки у хаты, и сектантки у кошары, и гнедая тунеядка-подводница платочком вытирает глаза, растроганная чужойлюбовью.
Это, собственно, и было их расставанием. Было после этого лишь удаляющееся стрекотание мотоцикла в степи, да разлив багрово пылающего солнца по линии горизонта, да на его фоне искупанная, продрогшая отара мериносов.
— Хэлло, кептен! Это Гриня Мамайчук кричит из машины во двор Дорошенко. На совхозном «газике» Гриня отвезет капитана и его тонкошеего юнгу в Лиманское, к причалу. Еще темно, еще только пропели петухи, в небе еще не погасли звезды. Юнга уже здесь, ежится у машины, выслушивая последние напутствия матери, с затаенной душевной болью посматривает на металлическую вышку, что устремилась вензелем антенны в небо над бабкиным виноградником: наверно, к тому времени, когда приедет хлопец в отпуск, виноград и по вышке цепко полезет туда, до самого неба, — буйный, широколистый, в молодых гроздьях. — Юноша, ты вступаешь во всемирное племя матросов, — хлопает юнгу по плечу Гриня-неуправляемый. — Ты будешь под Южным Крестом, однако и наш Чумацкий Воз — Большую Медведицу — не забывай… Созвездие ничем не хуже других! Блекнут созвездия, сереет небо. А капитан, оказывается, последним покидает не только палубу корабля, он последним покидает и родной дом. Вот он наконец сходит с веранды, появляется из сумрака двора, рядом с ним шагает старая Дорошенчиха.
 — Ты ж там береги себя, сынок, — слышен голос старухи. — Все можно купить, а здоровья не купишь… Береги!
— Не беспокойтесь, мамо, я чувствую себя совсем здоровым, — отвечает на ходу капитан. — Травки ваши свое дело сделали…
— Не смейся, сынок, над моими травками. Есть в них сила… А к тому же солнце наше, воздух степной — они целебны…
— А я не смеюсь. Чувствую, что любую медкомиссию сейчас пройду.
В голосе и в походке капитана в самом деле чувствуется бодрость, кипение сил, возрожденных, молодых.
— Вручаю тебе, Иван, свое самое дорогое, — говорит ему Лукия у машины и вся трепещет, и голос ее дрожит от волнения.
— Не беспокойся, Лукия. Все будет в порядке, — говорит он, улыбаясь, и, расцеловавшись с матерью и Лукией, садится в «газик», где в уголке в ожидании дороги уже притих и не дышит его будущий судовой радист.
Гриня дает газ, машина скрывается в рассветной мгле, оставляя обеих женщин возле двора, у вкопанной в землю скифской бабы.
Степь еще безмолвная, предутренняя, лишь ветер свистит над дорогой, что пролегла на Лиманское.
— Товарищ капитан! — заводит разговор Мамайчук. — Разрешите спросить?..
— Пожалуйста.
— Правда ли, что судно, которое вам предстоит принимать, строится по специальному заказу Академии наук?
— А почему это вас интересует, молодой человек?
— Да, видите, — замялся Мамайчук, — весьма интересуюсь, что там у нас внутри… Из чего то есть состоит наше ядро, из каких энергий? И если вы в океан, чтоб алмазным буром пробуравить земную кору, чтоб до самого сердца планеты дойти, то прошу в это дело включить и меня: весь к вашим услугам!
— Но вы же, молодой человек, насколько мне известно, Духовной академии отдали предпочтение!
— Ха-ха! Трижды ха-ха! — Мамайчук громко хохочет. — Вы тоже поверили? Да это же был обыкновеннейший розыгрыш, рассчитанный на моего друга Яцубу. Чтоб к бороде моей не цеплялся, чтоб чувство юмора в себе по возможности развивал. Идти в попы — это же архаично, вот планету бурить — совсем другое дело!.. Да и вокруг света поплавать — это тоже занятие подходящее. И уверяю вас, что чем-чем, а уж янтарными мундштуками Мамайчук не стал бы в чужих портах промышлять, как это делают некоторые из ваших морячков!
— Не к лицу мужчине распространять сплетни, — сказал капитан чуть обиженно.
— Почему сплетни? Когда я еще в городе был, у меня у самого были друзья, славные такие модерняги из матросов. У них был обычай: покупают ковер, скажем, где-нибудь в Швеции, а приедут домой — заходят в ресторан, ковер на стол.
— С такими мыслями на мое судно лучше не показываться.
— Ну, зато ваш юнга-радист в этом отношении никакой опасности не представляет. — Мамайчук промолвил это так, будто Виталия у него за спиной вовсе не было, будто безлюдной была темень брезентового шатра. — Это такой моряк, который скорее собственных штанишек лишится, чем заграничным ковриком обогатит родной порт. За это будьте спокойны. Вот только как он в смысле качки да морской болезни? Пожалуй, только судно покачнется, он сразу вам и «SOS» закричит! Терпим бедствие, тонем, спасите!!!
— У него в радиорубке будет на этот случай отдельный передатчик, аварийный, — серьезно объяснил капитан. — В обязательном порядке устанавливаем его согласно международной конвенции. Эта штука включается автоматически. Будем, однако, надеяться, что надобности в ней не возникнет.
— Скажите, рикши еще на свете есть? — спросил Мамайчук так неожиданно, что капитан невольно улыбнулся: так и бросает этого «неуправляемого» от земного ядра до рикш.
— Почему вдруг рикши?..
— Просто не верится, что где-то люди еще ездят на людях. Один двуногий везет на себе другого. И не инвалида, а какого-нибудь паршивого колонизатора…
— Бечак называется такой велосипед, — сказал капитан, и лицо его нахмурилось.
Возможно, вспомнились ему чужие портовые города, стоянки рикш, где эти худые запыленные люди на трехколесных своих велосипедах зорко высматривают пассажиров, с криком бросаются на каждого, за полы хватают…
— На вид такой невинный велосипед с коляской. Но наш советский моряк никогда не сядет в ту коляску.
— Понимаю, — согласился Мамайчук. — Я бы тоже не сел. Но увидите вы там что-нибудь и веселее?
— Увидим еще малолетних грузчиков, что таскают на себе тяжелые корзины с углем в порту. И безработных, роющихся в мусорных ямах. И детей, что, подстелив газету, спят на асфальтах вечерних городов…
— Это уже агитация, кептен.
— Понимай как хочешь.
— Может, там зато хоть бюрократов меньше?
— Не считал. А вот знаю наверняка: очень-очень одиноко, неуютно чувствует себя там человек. Неон чужих витрин не слишком-то греет… Клыкастый, жуткий мир окружает там не одного только рикшу… Пока на ногах — до тех пор ты существуешь. А упадешь — переступят, будто тебя и не было.
— Дух коллективизма — это я признаю, — буркнул Мамайчук. — Это верно, у нас есть. Разрешите употребить ароматическое зелье? — Небрежно бросив на губу сигаретку, он так же небрежно сверкнул перед ней огоньком зажигалки. На правой руке при этом блеснул перстень.
— Женишься? — спросил Дорошенко. Он слышал, будто Гриня тайно уже обручился с Тамарой-зоотехником, которая наконец прогнала своего пьянчугу и живет теперь одна.
— Обязательно, — откликнулся Гриня, — если только скромная моя особа будет признана достойной душевно совершенной женщины. Как, по-вашему, не грех привести поистине прекрасную женщину в хату, где нет холодильника, где по ночам батя-инвалид всхлипывает и скрежещет зубами во сне?
— Веди, — сказал капитан и умолк.
А Гриня вскоре после этого уже перекинулся мыслью на те никогда не виданные им архипелаги, где якобы и ныне люди живут по первобытным законам, не зная испорченности цивилизации, и хоть не имеют холодильников, зато не умеют лгать, лицемерить, убивать, замышлять зло друг против друга.
«К ним, к ним нужно идти человечеству за наукой жизни, — размышлял Мамайчук. — Туда, где под звуки тамтамов наивные дети земли смеются да веселятся и еще не знают, что существует на свете стронций…»
— А ну, стоп!
Это Виталий наклонился к водителю, схватил его за плечо.
И когда Гриня послушно притормозил, Виталий высунулся из машины.
— Что ты?
— Слышите… Тронка где-то звенит.
Гриня был другого мнения:
— Это ветер в траве свистит…
— Нет, тронка.
— Нет, ветер.
— Тронка!
Так и не придя к согласию, они тронулись дальше. А капитан, посмотрев в ту сторону, откуда хлопцу послышался звон тронки, отчетливо увидел в глубине степи на светлеющем горизонте далекую чабанскую фигуру и рельефно-резкие пласты отары у ее ног.
Уже совсем рассвело, когда они прибыли в Лиманское. Остановились у причала, и здесь, при утреннем свете, оказалось, что Гриня начисто выбрит, от бороды и следа не осталось, зато, показывая характер парня, горит на нем стиляжная пурпурная рубашка, из-за которой майору Яцубе еще придется вести баталии.
Всходило солнце, и они смотрели на него.
— Чего приумолк? — Виталий по-дружески обнял Мамайчука. — Может, раскритикуешь и его, это светило?
— Не могу, отроче, не могу. Наоборот, смотрю на это ясное светило и говорю ему: «Свети! Моя критика тебя никогда не коснется… Ибо тут был один такой, все вокруг себя — небесное и земное — раскритиковал, оглянулся: ничего ему не остается».
— Скучно стало? — улыбнулся Дорошенко.
— Да, скучно. Оглянулся — то не так, это не так, а что же так? На Солнце — пятна, на Земле — беспорядки. Что же любить? И возвратился он из пустыни своего маловерия в степной чабанский совхоз — опору для души искать…
— И нашел?
— Когда вокруг трудятся, что-то творят, кого-то любят, то соответствующие биотоки и тебя захватывают, воздействуют и на тебя. А более всего исцеляет, конечно, любовь! В ней — бог! Целебность! Быть может, в этом и разгадка того, что перед вами сегодня здесь не ущербный нытик, не хлюпик жалкий, а Гриня-монолит, Гриня-цельность, человек, готовый выдержать любые перегрузки жизни.
Прибыли с моря со свежим уловом рыбаки, начали выходить на берег в своих зюйдвестках, в тяжелых рыбацких сапогах.
Старшой рыбак — мужчина богатырского роста — не спеша направился к капитану, протянул руку:
— Очковтиратель Сухомлин.
И не смеется. Полнощекий, зарос рыжей щетиной, и только по лукавым искоркам глаз, сверкающих под кустами бровей, Дорошенко узнает своего давнишнего приятеля, неистощимого в выдумках Тимофея Сухомлина. Много лет работал он директором винодельческого совхоза, звезду Героя Социалистического Труда получил, а теперь вот, пожалуйста, в зюйдвестке, в ботфортах рыбацких, увязающих в песке. Рыбой и морем пахнет.
— Бычков, говоришь, полавливаете? — весело щурится Дорошенко, пожимая руку бывшему однокашнику своему.
— Тружусь, — басит Сухомлин. — Честно ловлю рыбку для всех граждан Советского Союза.
— Славные кнуты, — рассматривает Дорошенко крупных бычков свежего улова. — Поохотился бы с вами и я.
— Так за чем остановка? Милости просим!
— В другой раз… Пойду вот — поплаваю еще.
— Недоплавал? А мороз на висках?
— Одно другому не мешает.
— А я бы на твоем месте… Ну куда тебе отсюда: смотри, какая благодать! Лиманы, косы, острова…
— Тихая, безветренная заводь, — иронически бросает Мамайчук, стоящий у машины, скрестив ноги.
— А что ж, если и заводь? — насторожился Сухомлин.
— Для кого заводь, а для кого берег Мирового океана, — поворачивается к Сухомлину спиной Мамайчук, пламенея на весь берег кумачом своей рубашки.
Дорошенко окидывает взором простор лимана, живой блеск воды, ее свежее дыхание. В самом деле, хорошо здесь. И белые пески берегов, и эта неизмеримая тишина, и ласковый степной ветерок. Как в прикосновении женской руки, есть что-то невыразимо нежное для него в этих бризах, освежающих ветерках, что дуют днем с моря, а ночью с суши и словно бы соединяют в вечном круговороте море и степи. Но с чем сравнить те дали, уходящие за горизонт, что так манят к себе и вызывают такой взлет души! Да, это только берег Великого океана, родной причал, откуда слышен зов просторов, странствий, беспокойных дорог, зов, который, кажется, и со смертного одра поднял бы Дорошенко. Еще в океан, еще один рейс, даже если он и окажется твоей лебединой песней…
— Вот так… Сообразим ушицу, — приговаривает Сухомлин, выбирая наилучших бычков-кнутов, лоснящихся в корзинах, уже на битом льду. Затем, отойдя в сторонку, принимается устанавливать треноги, разводить костер.
Пока рыбаки выгружают оставшуюся рыбу, развешивают на кольях мокрые сети, Дорошенко подходит к Сухомлину и, присев, начинает вместе с ним чистить кнутов.
— Ну расскажи, как же это случилось? — спрашивает он Сухомлина. — Как это ты в очковтиратели угодил?
Сухомлин спокойно воспринимает вопрос. Неторопливо скобля рыбину, обстоятельно начинает рассказывать про то, как на автомобильных шинах погорел, на тех шинах, что незаконно закупил было целый контейнер где-то на сибирской новостройке; потом насмешливо, словно бы издеваясь над собой, рассказывает притчу о виноградарском комсомольско-молодежном звене, которым он на совещаниях козырял, хотя это звено состояло в основном из таких комсомолок, у которых уже и внуки были…
— Вот так я жил. Таким был. Только здесь и почувствовал себя человеком, Иван… Ты не можешь себе представить, что это значит — быть директором, да еще винсовхоза. Сколько тех дегустаторов на свете! Едут отсюда, едут оттуда, ведешь их в подвалы, угощаешь, а кое-кто еще и канистру подсовывает — налей, дескать, и домой! А потом на всех активах тебя же еще и дерут как Сидорову козу! Круглый год штурмы, авралы, нагоняи, с каждого совещания возвращаешься в синяках, — бывало, влепят выговор за здорово живешь. И это жизнь?
— Но ведь и Героя все-таки дали?
— Какой из меня герой? За что? Разве за телефонные звонки, что их годами выдерживал? На квартире у меня, как и положено директору, телефон. И все звонки — из бригад ли, из района, милиции или «Заготскота», — все ко мне! Ни днем, ни ночью покоя нет. Подымают, вызывают, накачивают. Дети выросли, я их почти не видел. Книги некогда было прочесть. Вот здесь, в рыбартели, как стал работать сторожем, — только и начитался вдоволь. Летом, пока охранял рыбацкую хату вон там в заливе, целый университет прошел. За столько лет впервые над своей жизнью задумался. «Да неужели же, думаю, это мы, степняки, потомки могучих антов Поднепровья, становимся очковтирателями? А? Неужели ж это ты, товарищ Сухомлин, совесть на медальку променял?» Как пошло разоблачение очковтирателей, повез я медаль в райком, хотел сдать. «Сам, говорю, сдаю, не по совести получена». Не приняли. «Носи, говорят, на здоровье, раз уж дали. Ведь не совсем же она замагарычена — ты все-таки как вол трудился…» Есть очковтиратели злостные, непримиримые, что и сейчас еще злятся, а я, поверь, Иван, искренне сегодня говорю спасибо тем, кто вывел меня на путь праведный. Да разве только меня? Как после градобоя колоски на ниве поднимаются, так нынче поднимаются, отходят душой люди после того, что было. Лишь который уж вовсе сломан, тот так и останется лежать, затоптанный в грязь. Веришь, душою поздоровел. Даже сам теперь удивляюсь: как мог до такого позора, до приписок докатиться. Рядовое винхозяйство, а сколько шуму вокруг него — это же даром не дается… До того дошел было, что в районе по квартирам с бутылкой бегал, в чайной всяких пустобрехов поил да угощал, чтобы только славу добыть. А что в ней, в славе? Как-то в городе в галерее картину видел: старикан вот этакий, как я, только босой, гол-голехонек и с крыльями на спине. Куда-то мчится. Долго прикидывал я, покуда догадался, что это намек, аллегория, что это так намалевано Время. Потому что Время старое и Время летит как на крыльях. Кресты, ордена, медали перед ним кучею на земле, и тот крылатый дед безжалостно топчет, попирает их босой своей ногою: слава для него ничто. Топчет кучу монет, всяких там динариев, потому как и богатство для него тоже ничего не значит. Бережно прижимает к груди лишь книгу, на которой написано: «Истина». Истина — только она, брат, для него дорога! Всего дороже!
Дорошенко слушал и не узнавал прежнего Сухомлина. Несколько лет назад видел его измотанным, очумелым, замороченным множеством хлопот. Даже и поговорить с ним Дорошенко тогда толком не успел, потому что Сухомлин ждал какую-то комиссию, как раз, видно, готовился кого-то задабривать, и вся его лихорадочная деятельность была направлена на то, что сегодня вызывает в нем лишь улыбку. Словно бы возрожденный перед тобою человек, с душой открытой, здоровой, раскрепощенной.
Приведя в порядок рыбу и снасти, подошли к ним рыбаки, начали подшучивать над Сухомлиным — хороши, мол, повара на этом берегу получаются из очковтирателей. Старшой не обижался.
— А вы, значит, снова в рейс? Снова подымаете парус? — обращаются рыбаки к капитану и, узнав, что он забирает с собой еще одного степняка, окружают смущенного Виталия, шутливо дают хлопцу разные советы.
— Ты ж там не осрами нас! Держись петухом!
— Сам знаешь, сколько край наш капитанов дал.
И они поименно называют своих прославленных земляков — капитанов дальнего плавания, китобоев, штурманов, а заодно с ними еще и знатных чабанов да механизаторов, помянули и генерала — дважды Героя Советского Союза, который хотя и не был моряком, зато был родом отсюда, с Лиманского.
— Даем, даем кадры для моря, — присаливая уху, говорил Сухомлин. — Недаром же деды наши на море казачествовали, и самое Черное море тогда называлось Казацким.
— Ну, тебя ж там купать будут на экваторе, — предостерегали Виталика, — этого не бойсь. А вот когда пошлют к боцману попросить кусок ватерлинии — тут сперва подумай.
— Или еще заставят кнехты сдвигать с места, так ты посмотри получше, какая там основа. А то иной, доверчивый, начнет над теми тумбами тужиться, аж глаза на лоб вылазят.
— Было когда-то, было, — в раздумье говорит капитан, — когда мы парнишками вот такими приходили наниматься в матросы. И над кнехтами тужились, и котлы пробовали с места сдвигать. А теперь, экзаменуя таких, как он, — капитан кивнул на Виталика, — будьте сами начеку. Ведь он не после букваря к вам… Уже и электроника, и кибернетика, и тонкости радиотехники — все под той кепочкой есть.
С отцовской нежностью смотрел капитан Дорошенко на хлопца, что до самых глаз надвинул козырек своей кепчонки. В нем, притихшем и немного застенчивом, узнает капитан свою далекую юность, что пришла когда-то босиком на этот причал, пришла с котомкой за плечами, в заплатах батрацких… Со скромным багажом выходила когда-то твоя юность на золотую линию жизни, а эта идет вооруженная знаниями, и хотя многое отличает вас, много между вами непохожего, но разве не объединяет вас самое главное — жажда труда, сила любви, порыв души?
— В какие же рейсы берете вы нашего степняка? — допытывались рыбаки. — Правда ли, что повезете в океан водородную бомбу топить?
Капитан Дорошенко задумался, стоял посуровевший, серьезный. «Друзья мои, — хотелось сказать. — Вы не слыхали звука счетчиков Гейгера, не видели Хиросимы, но мысли ваши о том же, что и мои… Тесной становится планета, а человек великаном стал. Он может разрушить это небо, хотя и не может его создать вновь. В состоянии сжечь облака, что вон лепестками алеют на востоке, но снова не воссоздаст их. Во власти человека отравить воздушную оболочку планеты, отравить воды океанов, хотя потом очистить их он уже никогда не сможет… Но если может человек так много, то под силу же ему и прекратить все это! Стоим на том рубеже, когда планета, этот чудесный корабль человечества, нуждается в защите. Для этого хочу жить. Сколько буду жить, всякое дело мое, каждый шаг будет против бомбы. И когда родина прикажет потопить ее — буду считать это вершиной своей жизни…»
Сухомлин еще не доварил уху, когда к причалу прибыла учебная мотопарусная яхта с кораблестроительного — она пришла за капитаном Дорошенко. На мотопаруснике — будущие мореплаватели в робах, все молодые, веселые хлопцы-практиканты, которые сами эту яхту и построили, сами и вызвались доставить на завод прославленного капитана Дорошенко.
Вскоре капитан со своим юным радистом были уже на борту, среди практикантов; причал тронулся с места и поплыл от них вместе с кряжистой фигурой Сухомлина, с котлом на треногах, с рыбаками в зюйдвестках, с Гриней Мамайчуком в полыхающей рубашке. Хаты и тополя поплыли, и вся степь поплыла… Туго округлились паруса, сильный и ровный ветер легко гонит яхту по воде.
Будет еще после этого простор лимана, и ветер попутный, и белая метель чаек над головой, покуда не возникнет на горизонте залитый солнцем заводской берег и перед глазами капитана не появится судно, что ждет его, ждет океанских просторов.
Издавна знакома ему эта степная верфь. Весь огромный берег в высоких кранах, а в их черном лесу рдеют, подобно красным гигантским кострам, заложенные корабли. Краны, краснопылающие борта сооружаемых судов и зелень тополей! Вся территория завода в пирамидальных стройных тополях, все цехи… Вот он, его красавец, возвышается над тополями, на железобетонном стапеле, грудью к солнцу, к океану! Одни еще на стапелях, а другие, уже спущенные, стоят у строительного пирса, там все кипит сейчас, ведет завершающие работы огромный коллектив кораблестроителей, друзей твоих, знакомых и незнакомых. Размеренным строительным грохотом сейчас полнится эта степная верфь, бурлит трудовая жизнь, звучит скрежетом, ударами, шумом молотов, шипением газовых резцов, бьет ослепительными вспышками и звездопадом электросварки… Каждый творит что-то свое, делает вроде бы малое какое-то дело — тот сваривает швы, тот проверяет их (если нужно — рентгеном), тот столярничает, тот красит, высоко поднявшись и гоняя шариковой щеткой по выпуклости борта, или наносит краску пульверизатором, женщины хлопочут с изоляционным материалом, с той самой синтетической стекловатой, защищаясь от ее острой пыли марлевыми повязками, еще кто-то уже оснащает рубку радиоаппаратурой, устанавливает навигационные приборы, и вот, как вершина, как апофеоз всей их работы, вырастает еще один красавец корабль, который тебе вести сквозь штормы и ураганы.
…На спусковых дорожках вскоре уже будут смазывать полозья салом, не тем салом, которым любили закусывать чумаки, а специальным техническим, которое привозят сюда в бочках и на территории завода перетапливают, — сала требуется огромное количество на каждый спуск.
День спуска становится здесь настоящим праздником труда, тысячи людей напряженно следят за творением рук своих, с волнением слушают, как среди глубокой тишины звучат по радио последние распоряжения спусковой команде, что работает на глазах у всех, работает четко, слаженно, делает свое дело словно бы навечно. Ключами отвинчивают блоки, выбивают молотами клинья, и вся громада корабля, поднятая на высоком стапеле, удерживается лишь двумя курками, и трос, что связывает курки, натягивается струной…
— Руби курки!
И вздрогнет тогда на стапелях молодой океанский великан и плавно, величаво скользнет по смазанным полозьям, навсегда уходя с территории завода навстречу воде, навстречу океану…
— Ты ж там береги себя, сынок, — слышен голос старухи. — Все можно купить, а здоровья не купишь… Береги!
— Не беспокойтесь, мамо, я чувствую себя совсем здоровым, — отвечает на ходу капитан. — Травки ваши свое дело сделали…
— Не смейся, сынок, над моими травками. Есть в них сила… А к тому же солнце наше, воздух степной — они целебны…
— А я не смеюсь. Чувствую, что любую медкомиссию сейчас пройду.
В голосе и в походке капитана в самом деле чувствуется бодрость, кипение сил, возрожденных, молодых.
— Вручаю тебе, Иван, свое самое дорогое, — говорит ему Лукия у машины и вся трепещет, и голос ее дрожит от волнения.
— Не беспокойся, Лукия. Все будет в порядке, — говорит он, улыбаясь, и, расцеловавшись с матерью и Лукией, садится в «газик», где в уголке в ожидании дороги уже притих и не дышит его будущий судовой радист.
Гриня дает газ, машина скрывается в рассветной мгле, оставляя обеих женщин возле двора, у вкопанной в землю скифской бабы.
Степь еще безмолвная, предутренняя, лишь ветер свистит над дорогой, что пролегла на Лиманское.
— Товарищ капитан! — заводит разговор Мамайчук. — Разрешите спросить?..
— Пожалуйста.
— Правда ли, что судно, которое вам предстоит принимать, строится по специальному заказу Академии наук?
— А почему это вас интересует, молодой человек?
— Да, видите, — замялся Мамайчук, — весьма интересуюсь, что там у нас внутри… Из чего то есть состоит наше ядро, из каких энергий? И если вы в океан, чтоб алмазным буром пробуравить земную кору, чтоб до самого сердца планеты дойти, то прошу в это дело включить и меня: весь к вашим услугам!
— Но вы же, молодой человек, насколько мне известно, Духовной академии отдали предпочтение!
— Ха-ха! Трижды ха-ха! — Мамайчук громко хохочет. — Вы тоже поверили? Да это же был обыкновеннейший розыгрыш, рассчитанный на моего друга Яцубу. Чтоб к бороде моей не цеплялся, чтоб чувство юмора в себе по возможности развивал. Идти в попы — это же архаично, вот планету бурить — совсем другое дело!.. Да и вокруг света поплавать — это тоже занятие подходящее. И уверяю вас, что чем-чем, а уж янтарными мундштуками Мамайчук не стал бы в чужих портах промышлять, как это делают некоторые из ваших морячков!
— Не к лицу мужчине распространять сплетни, — сказал капитан чуть обиженно.
— Почему сплетни? Когда я еще в городе был, у меня у самого были друзья, славные такие модерняги из матросов. У них был обычай: покупают ковер, скажем, где-нибудь в Швеции, а приедут домой — заходят в ресторан, ковер на стол.
— С такими мыслями на мое судно лучше не показываться.
— Ну, зато ваш юнга-радист в этом отношении никакой опасности не представляет. — Мамайчук промолвил это так, будто Виталия у него за спиной вовсе не было, будто безлюдной была темень брезентового шатра. — Это такой моряк, который скорее собственных штанишек лишится, чем заграничным ковриком обогатит родной порт. За это будьте спокойны. Вот только как он в смысле качки да морской болезни? Пожалуй, только судно покачнется, он сразу вам и «SOS» закричит! Терпим бедствие, тонем, спасите!!!
— У него в радиорубке будет на этот случай отдельный передатчик, аварийный, — серьезно объяснил капитан. — В обязательном порядке устанавливаем его согласно международной конвенции. Эта штука включается автоматически. Будем, однако, надеяться, что надобности в ней не возникнет.
— Скажите, рикши еще на свете есть? — спросил Мамайчук так неожиданно, что капитан невольно улыбнулся: так и бросает этого «неуправляемого» от земного ядра до рикш.
— Почему вдруг рикши?..
— Просто не верится, что где-то люди еще ездят на людях. Один двуногий везет на себе другого. И не инвалида, а какого-нибудь паршивого колонизатора…
— Бечак называется такой велосипед, — сказал капитан, и лицо его нахмурилось.
Возможно, вспомнились ему чужие портовые города, стоянки рикш, где эти худые запыленные люди на трехколесных своих велосипедах зорко высматривают пассажиров, с криком бросаются на каждого, за полы хватают…
— На вид такой невинный велосипед с коляской. Но наш советский моряк никогда не сядет в ту коляску.
— Понимаю, — согласился Мамайчук. — Я бы тоже не сел. Но увидите вы там что-нибудь и веселее?
— Увидим еще малолетних грузчиков, что таскают на себе тяжелые корзины с углем в порту. И безработных, роющихся в мусорных ямах. И детей, что, подстелив газету, спят на асфальтах вечерних городов…
— Это уже агитация, кептен.
— Понимай как хочешь.
— Может, там зато хоть бюрократов меньше?
— Не считал. А вот знаю наверняка: очень-очень одиноко, неуютно чувствует себя там человек. Неон чужих витрин не слишком-то греет… Клыкастый, жуткий мир окружает там не одного только рикшу… Пока на ногах — до тех пор ты существуешь. А упадешь — переступят, будто тебя и не было.
— Дух коллективизма — это я признаю, — буркнул Мамайчук. — Это верно, у нас есть. Разрешите употребить ароматическое зелье? — Небрежно бросив на губу сигаретку, он так же небрежно сверкнул перед ней огоньком зажигалки. На правой руке при этом блеснул перстень.
— Женишься? — спросил Дорошенко. Он слышал, будто Гриня тайно уже обручился с Тамарой-зоотехником, которая наконец прогнала своего пьянчугу и живет теперь одна.
— Обязательно, — откликнулся Гриня, — если только скромная моя особа будет признана достойной душевно совершенной женщины. Как, по-вашему, не грех привести поистине прекрасную женщину в хату, где нет холодильника, где по ночам батя-инвалид всхлипывает и скрежещет зубами во сне?
— Веди, — сказал капитан и умолк.
А Гриня вскоре после этого уже перекинулся мыслью на те никогда не виданные им архипелаги, где якобы и ныне люди живут по первобытным законам, не зная испорченности цивилизации, и хоть не имеют холодильников, зато не умеют лгать, лицемерить, убивать, замышлять зло друг против друга.
«К ним, к ним нужно идти человечеству за наукой жизни, — размышлял Мамайчук. — Туда, где под звуки тамтамов наивные дети земли смеются да веселятся и еще не знают, что существует на свете стронций…»
— А ну, стоп!
Это Виталий наклонился к водителю, схватил его за плечо.
И когда Гриня послушно притормозил, Виталий высунулся из машины.
— Что ты?
— Слышите… Тронка где-то звенит.
Гриня был другого мнения:
— Это ветер в траве свистит…
— Нет, тронка.
— Нет, ветер.
— Тронка!
Так и не придя к согласию, они тронулись дальше. А капитан, посмотрев в ту сторону, откуда хлопцу послышался звон тронки, отчетливо увидел в глубине степи на светлеющем горизонте далекую чабанскую фигуру и рельефно-резкие пласты отары у ее ног.
Уже совсем рассвело, когда они прибыли в Лиманское. Остановились у причала, и здесь, при утреннем свете, оказалось, что Гриня начисто выбрит, от бороды и следа не осталось, зато, показывая характер парня, горит на нем стиляжная пурпурная рубашка, из-за которой майору Яцубе еще придется вести баталии.
Всходило солнце, и они смотрели на него.
— Чего приумолк? — Виталий по-дружески обнял Мамайчука. — Может, раскритикуешь и его, это светило?
— Не могу, отроче, не могу. Наоборот, смотрю на это ясное светило и говорю ему: «Свети! Моя критика тебя никогда не коснется… Ибо тут был один такой, все вокруг себя — небесное и земное — раскритиковал, оглянулся: ничего ему не остается».
— Скучно стало? — улыбнулся Дорошенко.
— Да, скучно. Оглянулся — то не так, это не так, а что же так? На Солнце — пятна, на Земле — беспорядки. Что же любить? И возвратился он из пустыни своего маловерия в степной чабанский совхоз — опору для души искать…
— И нашел?
— Когда вокруг трудятся, что-то творят, кого-то любят, то соответствующие биотоки и тебя захватывают, воздействуют и на тебя. А более всего исцеляет, конечно, любовь! В ней — бог! Целебность! Быть может, в этом и разгадка того, что перед вами сегодня здесь не ущербный нытик, не хлюпик жалкий, а Гриня-монолит, Гриня-цельность, человек, готовый выдержать любые перегрузки жизни.
Прибыли с моря со свежим уловом рыбаки, начали выходить на берег в своих зюйдвестках, в тяжелых рыбацких сапогах.
Старшой рыбак — мужчина богатырского роста — не спеша направился к капитану, протянул руку:
— Очковтиратель Сухомлин.
И не смеется. Полнощекий, зарос рыжей щетиной, и только по лукавым искоркам глаз, сверкающих под кустами бровей, Дорошенко узнает своего давнишнего приятеля, неистощимого в выдумках Тимофея Сухомлина. Много лет работал он директором винодельческого совхоза, звезду Героя Социалистического Труда получил, а теперь вот, пожалуйста, в зюйдвестке, в ботфортах рыбацких, увязающих в песке. Рыбой и морем пахнет.
— Бычков, говоришь, полавливаете? — весело щурится Дорошенко, пожимая руку бывшему однокашнику своему.
— Тружусь, — басит Сухомлин. — Честно ловлю рыбку для всех граждан Советского Союза.
— Славные кнуты, — рассматривает Дорошенко крупных бычков свежего улова. — Поохотился бы с вами и я.
— Так за чем остановка? Милости просим!
— В другой раз… Пойду вот — поплаваю еще.
— Недоплавал? А мороз на висках?
— Одно другому не мешает.
— А я бы на твоем месте… Ну куда тебе отсюда: смотри, какая благодать! Лиманы, косы, острова…
— Тихая, безветренная заводь, — иронически бросает Мамайчук, стоящий у машины, скрестив ноги.
— А что ж, если и заводь? — насторожился Сухомлин.
— Для кого заводь, а для кого берег Мирового океана, — поворачивается к Сухомлину спиной Мамайчук, пламенея на весь берег кумачом своей рубашки.
Дорошенко окидывает взором простор лимана, живой блеск воды, ее свежее дыхание. В самом деле, хорошо здесь. И белые пески берегов, и эта неизмеримая тишина, и ласковый степной ветерок. Как в прикосновении женской руки, есть что-то невыразимо нежное для него в этих бризах, освежающих ветерках, что дуют днем с моря, а ночью с суши и словно бы соединяют в вечном круговороте море и степи. Но с чем сравнить те дали, уходящие за горизонт, что так манят к себе и вызывают такой взлет души! Да, это только берег Великого океана, родной причал, откуда слышен зов просторов, странствий, беспокойных дорог, зов, который, кажется, и со смертного одра поднял бы Дорошенко. Еще в океан, еще один рейс, даже если он и окажется твоей лебединой песней…
— Вот так… Сообразим ушицу, — приговаривает Сухомлин, выбирая наилучших бычков-кнутов, лоснящихся в корзинах, уже на битом льду. Затем, отойдя в сторонку, принимается устанавливать треноги, разводить костер.
Пока рыбаки выгружают оставшуюся рыбу, развешивают на кольях мокрые сети, Дорошенко подходит к Сухомлину и, присев, начинает вместе с ним чистить кнутов.
— Ну расскажи, как же это случилось? — спрашивает он Сухомлина. — Как это ты в очковтиратели угодил?
Сухомлин спокойно воспринимает вопрос. Неторопливо скобля рыбину, обстоятельно начинает рассказывать про то, как на автомобильных шинах погорел, на тех шинах, что незаконно закупил было целый контейнер где-то на сибирской новостройке; потом насмешливо, словно бы издеваясь над собой, рассказывает притчу о виноградарском комсомольско-молодежном звене, которым он на совещаниях козырял, хотя это звено состояло в основном из таких комсомолок, у которых уже и внуки были…
— Вот так я жил. Таким был. Только здесь и почувствовал себя человеком, Иван… Ты не можешь себе представить, что это значит — быть директором, да еще винсовхоза. Сколько тех дегустаторов на свете! Едут отсюда, едут оттуда, ведешь их в подвалы, угощаешь, а кое-кто еще и канистру подсовывает — налей, дескать, и домой! А потом на всех активах тебя же еще и дерут как Сидорову козу! Круглый год штурмы, авралы, нагоняи, с каждого совещания возвращаешься в синяках, — бывало, влепят выговор за здорово живешь. И это жизнь?
— Но ведь и Героя все-таки дали?
— Какой из меня герой? За что? Разве за телефонные звонки, что их годами выдерживал? На квартире у меня, как и положено директору, телефон. И все звонки — из бригад ли, из района, милиции или «Заготскота», — все ко мне! Ни днем, ни ночью покоя нет. Подымают, вызывают, накачивают. Дети выросли, я их почти не видел. Книги некогда было прочесть. Вот здесь, в рыбартели, как стал работать сторожем, — только и начитался вдоволь. Летом, пока охранял рыбацкую хату вон там в заливе, целый университет прошел. За столько лет впервые над своей жизнью задумался. «Да неужели же, думаю, это мы, степняки, потомки могучих антов Поднепровья, становимся очковтирателями? А? Неужели ж это ты, товарищ Сухомлин, совесть на медальку променял?» Как пошло разоблачение очковтирателей, повез я медаль в райком, хотел сдать. «Сам, говорю, сдаю, не по совести получена». Не приняли. «Носи, говорят, на здоровье, раз уж дали. Ведь не совсем же она замагарычена — ты все-таки как вол трудился…» Есть очковтиратели злостные, непримиримые, что и сейчас еще злятся, а я, поверь, Иван, искренне сегодня говорю спасибо тем, кто вывел меня на путь праведный. Да разве только меня? Как после градобоя колоски на ниве поднимаются, так нынче поднимаются, отходят душой люди после того, что было. Лишь который уж вовсе сломан, тот так и останется лежать, затоптанный в грязь. Веришь, душою поздоровел. Даже сам теперь удивляюсь: как мог до такого позора, до приписок докатиться. Рядовое винхозяйство, а сколько шуму вокруг него — это же даром не дается… До того дошел было, что в районе по квартирам с бутылкой бегал, в чайной всяких пустобрехов поил да угощал, чтобы только славу добыть. А что в ней, в славе? Как-то в городе в галерее картину видел: старикан вот этакий, как я, только босой, гол-голехонек и с крыльями на спине. Куда-то мчится. Долго прикидывал я, покуда догадался, что это намек, аллегория, что это так намалевано Время. Потому что Время старое и Время летит как на крыльях. Кресты, ордена, медали перед ним кучею на земле, и тот крылатый дед безжалостно топчет, попирает их босой своей ногою: слава для него ничто. Топчет кучу монет, всяких там динариев, потому как и богатство для него тоже ничего не значит. Бережно прижимает к груди лишь книгу, на которой написано: «Истина». Истина — только она, брат, для него дорога! Всего дороже!
Дорошенко слушал и не узнавал прежнего Сухомлина. Несколько лет назад видел его измотанным, очумелым, замороченным множеством хлопот. Даже и поговорить с ним Дорошенко тогда толком не успел, потому что Сухомлин ждал какую-то комиссию, как раз, видно, готовился кого-то задабривать, и вся его лихорадочная деятельность была направлена на то, что сегодня вызывает в нем лишь улыбку. Словно бы возрожденный перед тобою человек, с душой открытой, здоровой, раскрепощенной.
Приведя в порядок рыбу и снасти, подошли к ним рыбаки, начали подшучивать над Сухомлиным — хороши, мол, повара на этом берегу получаются из очковтирателей. Старшой не обижался.
— А вы, значит, снова в рейс? Снова подымаете парус? — обращаются рыбаки к капитану и, узнав, что он забирает с собой еще одного степняка, окружают смущенного Виталия, шутливо дают хлопцу разные советы.
— Ты ж там не осрами нас! Держись петухом!
— Сам знаешь, сколько край наш капитанов дал.
И они поименно называют своих прославленных земляков — капитанов дальнего плавания, китобоев, штурманов, а заодно с ними еще и знатных чабанов да механизаторов, помянули и генерала — дважды Героя Советского Союза, который хотя и не был моряком, зато был родом отсюда, с Лиманского.
— Даем, даем кадры для моря, — присаливая уху, говорил Сухомлин. — Недаром же деды наши на море казачествовали, и самое Черное море тогда называлось Казацким.
— Ну, тебя ж там купать будут на экваторе, — предостерегали Виталика, — этого не бойсь. А вот когда пошлют к боцману попросить кусок ватерлинии — тут сперва подумай.
— Или еще заставят кнехты сдвигать с места, так ты посмотри получше, какая там основа. А то иной, доверчивый, начнет над теми тумбами тужиться, аж глаза на лоб вылазят.
— Было когда-то, было, — в раздумье говорит капитан, — когда мы парнишками вот такими приходили наниматься в матросы. И над кнехтами тужились, и котлы пробовали с места сдвигать. А теперь, экзаменуя таких, как он, — капитан кивнул на Виталика, — будьте сами начеку. Ведь он не после букваря к вам… Уже и электроника, и кибернетика, и тонкости радиотехники — все под той кепочкой есть.
С отцовской нежностью смотрел капитан Дорошенко на хлопца, что до самых глаз надвинул козырек своей кепчонки. В нем, притихшем и немного застенчивом, узнает капитан свою далекую юность, что пришла когда-то босиком на этот причал, пришла с котомкой за плечами, в заплатах батрацких… Со скромным багажом выходила когда-то твоя юность на золотую линию жизни, а эта идет вооруженная знаниями, и хотя многое отличает вас, много между вами непохожего, но разве не объединяет вас самое главное — жажда труда, сила любви, порыв души?
— В какие же рейсы берете вы нашего степняка? — допытывались рыбаки. — Правда ли, что повезете в океан водородную бомбу топить?
Капитан Дорошенко задумался, стоял посуровевший, серьезный. «Друзья мои, — хотелось сказать. — Вы не слыхали звука счетчиков Гейгера, не видели Хиросимы, но мысли ваши о том же, что и мои… Тесной становится планета, а человек великаном стал. Он может разрушить это небо, хотя и не может его создать вновь. В состоянии сжечь облака, что вон лепестками алеют на востоке, но снова не воссоздаст их. Во власти человека отравить воздушную оболочку планеты, отравить воды океанов, хотя потом очистить их он уже никогда не сможет… Но если может человек так много, то под силу же ему и прекратить все это! Стоим на том рубеже, когда планета, этот чудесный корабль человечества, нуждается в защите. Для этого хочу жить. Сколько буду жить, всякое дело мое, каждый шаг будет против бомбы. И когда родина прикажет потопить ее — буду считать это вершиной своей жизни…»
Сухомлин еще не доварил уху, когда к причалу прибыла учебная мотопарусная яхта с кораблестроительного — она пришла за капитаном Дорошенко. На мотопаруснике — будущие мореплаватели в робах, все молодые, веселые хлопцы-практиканты, которые сами эту яхту и построили, сами и вызвались доставить на завод прославленного капитана Дорошенко.
Вскоре капитан со своим юным радистом были уже на борту, среди практикантов; причал тронулся с места и поплыл от них вместе с кряжистой фигурой Сухомлина, с котлом на треногах, с рыбаками в зюйдвестках, с Гриней Мамайчуком в полыхающей рубашке. Хаты и тополя поплыли, и вся степь поплыла… Туго округлились паруса, сильный и ровный ветер легко гонит яхту по воде.
Будет еще после этого простор лимана, и ветер попутный, и белая метель чаек над головой, покуда не возникнет на горизонте залитый солнцем заводской берег и перед глазами капитана не появится судно, что ждет его, ждет океанских просторов.
Издавна знакома ему эта степная верфь. Весь огромный берег в высоких кранах, а в их черном лесу рдеют, подобно красным гигантским кострам, заложенные корабли. Краны, краснопылающие борта сооружаемых судов и зелень тополей! Вся территория завода в пирамидальных стройных тополях, все цехи… Вот он, его красавец, возвышается над тополями, на железобетонном стапеле, грудью к солнцу, к океану! Одни еще на стапелях, а другие, уже спущенные, стоят у строительного пирса, там все кипит сейчас, ведет завершающие работы огромный коллектив кораблестроителей, друзей твоих, знакомых и незнакомых. Размеренным строительным грохотом сейчас полнится эта степная верфь, бурлит трудовая жизнь, звучит скрежетом, ударами, шумом молотов, шипением газовых резцов, бьет ослепительными вспышками и звездопадом электросварки… Каждый творит что-то свое, делает вроде бы малое какое-то дело — тот сваривает швы, тот проверяет их (если нужно — рентгеном), тот столярничает, тот красит, высоко поднявшись и гоняя шариковой щеткой по выпуклости борта, или наносит краску пульверизатором, женщины хлопочут с изоляционным материалом, с той самой синтетической стекловатой, защищаясь от ее острой пыли марлевыми повязками, еще кто-то уже оснащает рубку радиоаппаратурой, устанавливает навигационные приборы, и вот, как вершина, как апофеоз всей их работы, вырастает еще один красавец корабль, который тебе вести сквозь штормы и ураганы.
…На спусковых дорожках вскоре уже будут смазывать полозья салом, не тем салом, которым любили закусывать чумаки, а специальным техническим, которое привозят сюда в бочках и на территории завода перетапливают, — сала требуется огромное количество на каждый спуск.
День спуска становится здесь настоящим праздником труда, тысячи людей напряженно следят за творением рук своих, с волнением слушают, как среди глубокой тишины звучат по радио последние распоряжения спусковой команде, что работает на глазах у всех, работает четко, слаженно, делает свое дело словно бы навечно. Ключами отвинчивают блоки, выбивают молотами клинья, и вся громада корабля, поднятая на высоком стапеле, удерживается лишь двумя курками, и трос, что связывает курки, натягивается струной…
— Руби курки!
И вздрогнет тогда на стапелях молодой океанский великан и плавно, величаво скользнет по смазанным полозьям, навсегда уходя с территории завода навстречу воде, навстречу океану…
 Впервые видит Виталий эту огромную мастерскую кораблей. Всем самым сокровенным, самой душой открывается ему завод, не может глаз отвести хлопец от новопостроенного красавца корабля, который, приближаясь, быстро растет, уже в полнеба вырастает перед ним на стапелях. Словно не водяной, а какой-нибудь космический гигант нацелился грудью стальной в небо для старта. Где же побывает на нем Виталий? С каких океанов, с каких широт будет посылать в эфир свои вести? Но знает — где бы он ни был, под какими бы созвездиями ни проходил, всюду, как позывная мелодия родных степей, нежно и печально будет звенеть ему тронка.
1960–1962
Впервые видит Виталий эту огромную мастерскую кораблей. Всем самым сокровенным, самой душой открывается ему завод, не может глаз отвести хлопец от новопостроенного красавца корабля, который, приближаясь, быстро растет, уже в полнеба вырастает перед ним на стапелях. Словно не водяной, а какой-нибудь космический гигант нацелился грудью стальной в небо для старта. Где же побывает на нем Виталий? С каких океанов, с каких широт будет посылать в эфир свои вести? Но знает — где бы он ни был, под какими бы созвездиями ни проходил, всюду, как позывная мелодия родных степей, нежно и печально будет звенеть ему тронка.
1960–1962

Сказание о времени и людях
Когда задумываешься над тем, каков главный секрет поэтичности нового романа Олеся Гончара «Тронка», в чем суть его звенящей лирической красоты, в чем главная тема его раздумий, вспоминаешь сквозной мотив, проходящий через все произведение, — мотив времени. «Который теперь час? Скоро ли начнет светать? — думает Тоня, молодая героиня „Тронки“, и смотрит вверх, где ночная, звездная раскинулась степь. — Там, вверху, Большая Медведица повернулась, повисла. Гроздь Стожар висит непривычно высоко и непривычно блестяще — не ночь ли степная яркости придает? А через все небо… пролег звездный Чумацкий Шлях…» И, вглядываясь в эту ночь, героиня думает: «Все видел он, что было, и все увидит, что будет…» Что было… Что есть… Что будет… Это — лейтмотив романа Гончара о людях степи. Роман «Тронка» — чудесная поэма, высокое раздумье о жизни народной, сказание о времени и людях, чертами которых обозначено минувшее, сегодняшнее и грядущее. Это произведение преисполнено образной емкости истинной поэзии. Поэзия — в кристаллах человеческих многогранных характеров. Поэзия — в самом мировидении художника, в многоцветье красок, в многосложности человеческих отношений, развивающихся в разных планах, переплетающихся в романе. Поэзия — в языке писателя. Гончар — живописец слова. Его стиль сродни народным песням, он певуч и щедр на краски. Богатство народной речи вобрано в художественную ткань «Тронки» — это чувствуешь и в афористическом языке, и в самих характерах героев. Лоно степи, где развертывается действие романа Гончара, где живут и работают его герои, — предмет горячей влюбленности автора. Он любит степь, любит эту родную землю, таящую в себе память великой героической истории народа. Он видит степь как нечто живое, вечное, многообразно меняющееся. Видит он диких коней, несущихся по степи, видит далекие эпохи… Видит чумацкие мажары, тяжело груженные крымской белой солью и медленно движущиеся через степь… Он видит и недавнюю войну, прошедшую огнем по степи. Курганы изрыты рвами, а рвы уже позарастали травой — это, видно, были солдатские окопы да траншеи… Степь в таких местах таит в себе мины, а то и бомбы, начиненные смертоносной взрывчаткой… Степи перекопские! Наверное, нет другого места на планете, где тело земли было бы так густо начинено металлом войны, где стрелки компасов так танцевали бы от искусственных аномалий… А теперь — ведут магистральный канал через старую степь, и впереди строителей идут саперы, вынимая из земли проржавевшие мины, тяжелые авиабомбы и целые свалки артиллерийских снарядов, что, как гадюки в гадючнике, дремали в этой земле, скрытые бурьянами. А теперь — вдруг проплывает над ночной степью светлячок и движется, поблескивая, и кто-то кричит на всю улицу: «Спутник! Вон он!..» Звук новых разрывов плывет из евпаторийских южных степей, где в карьерах добывают строительный камень-ракушечник. Встают над степью желто-бурые облака, но это не атомные облака! После того как взрывы раскидают верхнюю часть грунта, откроются под ним пласты морского золотистого камня — остаток доисторических морей. Олесь Гончар — поэт степи. Он читает ее страницы как страницы вековой истории. Степь Гончара — не просто пейзаж. Она вмещает целый мир чувств и переживаний. Это не фон действия — это субъект исторического процесса: степь, земля, живущие на ней люди. От этого чувства времени, от чувства земли, помнящей прошлое и чающей будущего — гармонический дар художника, поднимающего конкретные детали пейзажа до значения широкого всеохватывающего символа. Вспомним замечательный эпизод, когда остановился, заглох в степи «москвич», в котором ехала Лина, и она в тени раскаленной под южным солнцем машины ожидала подмоги, за которой отправился к каналостроителям ее отец. «Отец долго не возвращается: нелегко, видно, было столковаться там в эту горячую рабочую пору. Наконец оттуда тронулась подмога. Степью, напрямик, со страшным грохотом взрывая землю, вздымая тучу пыли, шла та подмога. Лина сначала даже не могла понять, что за чудовище ползет, бешено скрежещет навстречу. Глазам своим не поверила: танк! Настоящего танка она никогда не видела, только по кинофильмам и знала, а сейчас это, несомненно, он надвигался, окутанный пылью, огромный, яростный, безглазый, с загребущими гусеницами, с военным еще номером на грязно-зеленом борту. Только вместо башни на нем ребристо поднимается что-то похожее на кран… кто-то смекалистый, приспосабливая танк к мирной жизни, сбросив башню, действительно установил на танке обыкновенный рабочий кран, которым во время ремонта можно поднимать самые тяжелые двигатели. Танк с лязгом развернулся перед „москвичом“, водитель лихо подцепил малыша стальным тросом и легко поволок в сторону канала…» Этот эпизод — проходной, и деталь эта — танк — тоже проходная. Но она остается у вас в памяти как символ. Мелькнула частность — но вы чувствуете, что этот «гражданский» мирный танк, принявший на свои плечи подъемный кран и спасающий в степи заглохший легковичок, — деталь чрезвычайно емкая по смыслу, это синтез раздумий художника о войне и мире. Олесь Гончар не признает нейтралитета художника перед природой материального мира. Писатель — активный преобразователь действительности. Поэзия его активна, она служит средством познания жизни с позиций народа. Роман «Тронка» полемичен. Он направлен против тех, кто проповедует безответственность художника перед обществом, кто хотел бы стащить наше искусство в болото бездушного объективизма. Напряженное, яркое, полное широких раздумий о времени, произведение Олеся Гончара есть образная полемика, полемика средствами искусства против равнодушия в искусстве. Через весь роман проходит тема нерушимой связи поколений. Встречей отца с сыном открывается он. Старый чабан Горпищенко, степняк, встречает прибывшего на побывку сына, летчика. С достоинством стоит старый чабан, ожидая должной почтительности от сына, опираясь на свою герлыгу… Вот стоят они вдвоем посреди степи: один всю жизнь ходит по земле пешком, а другой полжизни проводит в небе, один с герлыгой, другой — с крылатой эмблемой на фуражке… Отец чувствует гордость за сына, и сын чувствует себя прочно на этой земле. Олесь Гончар развивает в своей стилистике лучшие традиции нашей литературы. Он реалист в высоком смысле этого слова, — реалист, видящий не просто вещи, но суть вещей, ход времени. Он — реалист высокого, романтического плана. В его стилистике чувствуется восприятие лучших традиций классиков, следование великому Гоголю, автору «Тараса Бульбы». Вместе с тем «Тронка» — произведение новаторское и по форме своей, и по пафосу. Перед нами роман в новеллах. Каждая новелла завершена сюжетно и стилистически, каждая есть законченное произведение. Но совокупность новелл составляет единое многосложное целое, обнимающее собой протяженную полосу исторического движения жизни народа. Перед нами широкая панорама человеческих характеров и судеб. И вместе с тем каждый высвечен, ярко и целостно схвачен в самом своем главном. Путь Гончара — путь концентрированной, сосредоточенной типизации образов. В каждой новелле Гончар безоглядно уходит в данный характер, он сосредоточивается на одном… «С комсомольских времен сохранилась в ней бурная горячность и острое, бескомпромиссное отношение к людям, сохранилась чистая вера ее молодости — вера, что жизнь, которую она строит, которую со всей страстью утверждает, эта жизнь может и должна быть совершенной, дающей человеку радость и полное счастье. И какую же вызывает досаду, как возмущает ее всякий беспорядок, что еще так часто встречается!.. Хоть бы и канал, это стойбище, куда люди с чудесною новейшей техникой выведены, брошены и забыты. В годы война она сама была трактористкой, знает, что такое высидеть смену за рулем… И вот негде умыться, отдохнуть, похлебать горячей пищи. Разговаривая с рабочими, Лукия внешне спокойна, скупа на обещания, но внутри у нее все клокочет. Такое строительство, самый большой в Европе канал, в газетах о нем пишут, и такое безразличие к этим поистине героическим людям!.. Она уже прикидывает, куда нужно обратиться, с кем говорить, чтобы были здесь кухня, жилые вагончики, газеты, радио, уже зреют в ней те горячие слова, которые она скажет где следует». Таков портрет Лукии, председательницы рабочкома. В этом портрете — и судьба человеческая, и знак времени: война, забравшая молодость, и нынешние непрестанные заботы. И еще есть одно в каждом из нарисованных Гончаром характеров: ощущение безмерной ценности того, что созидаем все мы, что созидает наш народ, — безмерной ценности людей. Люди есть цель и мерило исторического развития нашего общества. В политике нашей партии, в деятельности нашего общества, в работе нашего народа, строящего коммунизм, воплощаются самые благородные идеалы человечества. Наши задачи состоят в борьбе за счастье людей, за расцвет всех способностей и дарований человека. Наш народ, партия ставят перед собой всемирно-историческую цель — построение самого справедливого, самого человечного строя на земле, воспитание человека будущего, развитие всех духовных потенций человека, гармоническое развитие личности. А если высшим достижением исторического развития советского общества являются люди, в духовном мире которых выражены идеалы общества, то вполне закономерны цели искусства, ищущего художественные средства для изображения той главной исторической цели, которую поставил перед собой народ. Раскрытие духовного мира нашего современника, советского человека, — это и есть главная сфера исканий Олеся Гончара — художника. Восхищенное изумление перед духовной красотой человека — вот что является нервом нравственной концепции романа, предметом писательской одержимости Гончара, его художнической страсти. В чем же суть взгляда Гончара на человека? В утверждении дерзновенной мечты его. В утверждении прочной связи его с матерью-землей, на которой трудится он, с родиной его. Герои Гончара — дети своей степи. Летчик Горпищенко размышляет о них: «И с самой большой высоты вижу я ваши руки загрубевшие и ваши лица, опаленные ветрами, вижу вас в пыли черных бурь и в холодной измороси осенью… Сызмала знаю ваш труд. Знаю, что работа чабанская совсем не такая, как кое-кто ее себе представляет. Быть чабаном — это не просто прогуливаться с герлыгой в степи да кашу чабанскую есть. Чабан — это тот, кто всю жизнь на ногах, кого зной продубливает, осенние ненастья пронизывают до костей. И когда другие еще спят, вы уже с отарами выходите из кошар в мокрую степь, на свои целодневные вахты…» Через весь роман проходит мысль о труде этих людей: их жизнь, их нравственный облик вызывает у автора уважение и восхищение. Стремительные будни наших людей, их работа по преображению степи, все невероятные скорости нашего времени исходят все из того же начала — из кровной связи людей с родной землей. Три поколения Горпищенко символизируют три эпохи: прошлое, настоящее и будущее, связанные крепчайшей преемственной связью. Вот старый Горпищенко, труженик и родоначальник, получивший в наследство от дедов-чабанов непростое чабанское искусство. Вот сын его — летчик. Иное время, иные скорости… Расстояние, которое когда-то его предки-чумаки проходили за целое лето, он пролетает теперь за один рейс… И все же он глубоко гордится своими предками, мужественными людьми, которые через чуму, через безводье, через степные пожары прокладывали дорогу на крымские озера, несли сюда жизнь… А вот и третье поколение. Маленький Мишутка, которого дед Горпищенко спросил, будет ли он чабаном, отвечает: «— Я летчиком буду… Как Петро ваш…» И полетит он выше и дальше, чем Петро. «— Летать, всем летать, — размышляет вслух Горпищенко. — Само не знает, что ему нужно на той Луне, а уже замахнулось… Уже что-то его тянет туда, куда-то оно порывается…» Так возникает в романе Гончара тема будущего, тема порыва в грядущее, тема ответственности за это будущее. В этом — суть гуманистического звучания романа «Тронка». Строгий реалист, Гончар всегда остается верен правде жизни, он влюбленно пишет хорошо известные ему подробности и детали жизни своих героев, своим трудом делающих жизнь лучше. Труженики и борцы, они предстают перед нами в своей нравственной и идейной красоте и цельности. Это и председатель рабочкома Лукия Рясная, и капитан Дорошенко, и начальник полигона Уралов, и его жена Галя, это Мамайчуки, Брага, Виталий, Лина Яцуба… Это герои, живущие на земле, но живущие всеми заботами большого мира, это люди, окрыленные красотой мира, красотой труда. Гончар показывает нам быт и жизнь современных тружеников степи. Но в романе все время, постоянно, каждую минуту ощущается большой мир, сложный, полный драматизма и борьбы, — суровый двадцатый век с его проблемами. Покорение космоса и угроза термоядерной войны, великие скорости и великие планы, великая опасность и великая надежда — вот круг раздумий героев «Тронки» и ее автора. Гончар пишет о буднях людей, их каждодневном труде. Но в этом каждодневном труде просвечивает будущее, просвечивают очертания подвига, Гончар пишет так, что ощущение героичности, стремления вперед, ощущение грядущего не покидает вас. О чем бы он ни писал — это остается. В пылающих громадах туч на закате видятся ему сверкающие дирижабли. Возникают там, словно на гигантских стапелях, очертания строящихся кораблей, гигантских ракет, а солнце кует в своей мастерской все новые и новые корабли, и они уже плывут по горизонту, празднично чистые, сверкающие, стартово нацеленные в неземные просторы… В каждом элементе художественной ткани романа Гончара присутствует наше время во всем его драматизме, в мировом противостоянии сил, в боренье старого и нового, бесчеловечного и человеческого. Гончар описывает разные поколения советских людей. Но общее, что связывает всех героев Гончара, свойственно представителям разных поколений, свойственно всем советским людям: война противна человеческому естеству, и ее можно предотвратить, уничтожить, изгнать из жизни и из сознания, победить созидательным трудом. Эта оптимистическая нота определяет звучание всей симфонии романа. Прекрасно выражена вера советских людей в непобедимость созидательных сил человечества словами маршала, приехавшего в степь на запуск ракеты: «Даже если у меня есть самые наилучшие ракеты, даже если есть сила весь мир завоевать, не хочу я этого. Не нужны мне континенты-пепелища. Я хочу их видеть в зелени и в цвету, хочу под всеми звездами слышать шепот влюбленных…» Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к роману: Я хочу их видеть в зелени и в цвету! В прочной вере в созидательную силу человеческого труда — секрет неиссякающего оптимизма, наполняющего новеллы «Тронки». Роман напоен ощущением солнца, воздуха, неба, полета. Океан — степь, над ним океан — небо, — вот палитра Гончара. Здесь, на земле, в сложных конфликтах раскрываются человеческие характеры, здесь трудятся люди, здесь когда-то было море, здесь скоро опять будет море, не море — канал, созданный руками человека, преображающего землю. А там, вверху, светлеет небо, волнуя людей своим величием. Там, высоко-высоко, в далекой голубизне проносятся реактивные самолеты, небо от них так и звенит, и хоть солнца еще нет, но его уже чувствуешь, и его уже видят там, вверху, в первых утренних лучах, от которых зарделся белый летящий металл… В этом — весь Олесь Гончар, поэт, романтик, певец светлого начала жизни, и вместе с тем трезвый, внимательный реалист, хорошо знающий жизнь своих героев. Олесь Гончар давно уже получил широкое признание читателей. Мы помним его «Знаменосцев», роман о войне, роман напряженных нравственных раздумий и поисков, роман героического звучания. Со «Знаменосцев» началась всесоюзная известность Гончара-писателя, после «Знаменосцев» мы стали ждать выхода его новых книг. Потом последовали «Таврия», «Перекоп», «Человек и оружие». Гончар обратился к истории, затем снова к войне — уже тоже как истории. В его книгах тема человека и времени звучала все обобщеннее, все эпичнее. «Тронка» — новый шаг в творчестве писателя. Это книга о современности, осмысленной с точки зрения величественного движения времени, с точки зрения всемирно-исторической работы наших людей. Роман «Тронка» эпичен в самом лучшем смысле этого слова: в нем есть ощущение времени, ощущение движения истории, ощущение единства личности и общества. Все это делает роман «Тронка», за который автор удостоен Ленинской премии 1964 года, закономерным шагом вперед в развитии всей нашей многонациональной советской литературы.Вадим Кожевников
Последние комментарии
35 минут 44 секунд назад
52 минут 48 секунд назад
1 час 13 минут назад
3 часов 55 минут назад
11 часов 18 минут назад
17 часов 2 минут назад