Библейский зоопарк [Линор Горалик] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Линор Горалик Библейский зоопарк
Посвящается Давиду Розенсону, коллеге и другу, придумавшему этот проект и сделавшему его осуществление возможным
Для начала
Когда я сказала моей живущей в Беер-Шеве маме, что приезжаю в Израиль по делу почти на полтора месяца, мама очень обрадовалась: «Детка, — сказала она, — это замечательно! А главное твой противогаз у нас, и он в полном порядке!..» Таким образом, совершенно ничего не мешало мне провести в Израиле вторую половину августа и весь сентябрь 2011 года по приглашению фонда Ави Хай, с которым я давно работаю и дружу. Ехала я затем, чтобы в течение полутора месяцев вести на Booknik.ru блог, который впоследствии стал этой книжкой. Мне захотелось взяться за этот проект сразу, как только Давид Розенсон предложил саму идею. Мне самой было совершенно понятно, о чем я хотела бы писать в Израиле; выяснилось, тем не менее, что объяснить это другим людям не так-то просто. Каждый раз я начинала довольно бодро: «Вот когда меня кто-нибудь спрашивает, что в Израиле надо обязательно посмотреть… Или куда сходить… Или что съесть…» На этом месте я скисала, потому что принцип «что в Израиле должен обязательно сделать приезжий» немедленно порождал тоскливый склад очевидностей (я, конечно, люблю, чтобы все и всегда делали именно то, что я скажу, но не настолько). Тогда я пробовала заходить с другой стороны — и опять довольно бодро начинала: «Вот если учесть, что в последние двенадцать лет я бывала в Израиле наездами, четыре-пять раз в год… И, значится, через призму… э… постоянных перемен…» Тут мне самой становилось так скучно, что я добровольно затыкалась (редкая ситуация; предыдущий случай не может вспомнить даже мой стоматолог). И тогда я придумала некую удобную формулировку: я стала говорить, что буду писать про всякое хорошее. Ну, про какое именно хорошее? Про всякое. Про всякое хорошее. В результате в моем договоре с «Ави Хай» фигурирует такая фраза: «Цель поездки: вести блог про всякое хорошее». За полтора месяца было, конечно, совершенно невозможно написать про всё хорошее (тем более, что я человек мрачный, мною и небольшая порция хорошего трудно, можно сказать, усваивается), но про всякое хорошее — можно. За те полтора месяца, когда «Библейский зоопарк» публиковался на Booknik.ru в качестве блога, разные люди периодически упрекали меня в том, что: (1) я все время ворчу на эту прекрасную страну; (2) я все время хвалю эту ужасную страну. Эти замечания придавали моей работе некоторую особо занятную перспективу. Израиль — не райская страна, и жизнь в ней не течет молоком и медом; проблем и недостатков у Израиля хватает. Но и тех, кто умеет (и стремится) говорить об этих проблемах, хватает тоже. Мне же очень хотелось попытаться говорить о том, что не отражается ни в политических репортажах, ни в обличительной социальной риторике: о живых мелочах, которые делают повседневное существование в этой очень сложной стране не просто выносимым, но — довольно часто — прекрасным. Результат оказался, конечно, неполным и недостаточным — хотя бы потому, что всякого хорошего гораздо больше, чем мне по силам заметить, не говоря уже — описать (а описанное и замеченное было несколько подпорченно вечным ворчанием автора). Но я надеюсь, что человек, обративший внимание на «Библейский зоопарк», сумеет почувствовать то, что постоянно чувствую я: в Израиле есть что любить. Даже если при этом ворчать не переставая.Духовные кролики
И создал Бог животное земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее (по) земле по виду его. И видел Бог, что хорошо.Квартиру в Израиле на полтора месяца ищешь для начала через Интернет; отбираешь первичные варианты. В Интернете большинство квартир, рассчитанных на краткосрочную сдачу, имеют одну характеристику: «близко к пляжу». Человеку, который боится песка, яркого света и дельфинов, приходится иметь дело с намеками, полунамеками, фотографиями, снятыми с удивительных ракурсов (по большинству снимков нетрудно догадаться, что фотограф старается сделать свою работу, не вставая с дивана; маячащая на всех снимках тень — это тень жены, пропилившей ему мозг необходимостью повесить объявление в Интернет, потому что уезжать уже через неделю, послезавтра, через час, «такси же уже внизу же!»). Я живу в Израиле наездами уже десять лет, у родителей или, если по работе, — в гостинице; не искала квартиру, соответственно, лет двенадцать. Зато я, как все экспаты, отношусь к родине одновременно агрессивно и сентиментально. Я всё люблю, и меня всё не устраивает. Это значит, что я всегда хочу квартиру в очаровательном районе, бойком, тихом, пустом, людном, прямо у моря, подальше от пляжа, необычной планировки, попроще, в очень интересном месте, прямо над супермаркетом, рядом с хорошим рестораном, поближе к простым фалафельным — и так далее. Телевизор тем временем постоянно сообщает миру, что с квартирами в Израиле — тихий ужас, жить негде, цены адские, все дела. В панике начинаешь советоваться с друзьями. Друг X., только что продавший в Тель-Авиве одну квартиру и купивший другую, говорит: «Дикий, не ссы. Просто будет очень дорого, но все получится. В крайнем случае, поживешь в палатке, сейчас это модно, палаточные протесты против высоких цен на квартиры, уже два месяца люди живут в палатках, мы к ним ходим траву курить». Я роюсь в объявлениях в Интернете. Обнаруживается на удивление много сообщений с потрясающими квартирами за какие-то смешные деньги. Я перекидываю X. ссылки. «Не знаю, — настороженно говорит X., — может, это бордели?» В бордель меня не возьмут, я уже старенький. Передо мной начинает маячить призрак палатки; снаружи плюс 32, я столько не выкурю. Приезжаю, оставляю чемодан у родителей и еду смотреть квартиры. Мама настаивает, чтобы я взяла с собой противогаз. Я смекаю, что если жить в палатке прямо посреди бульвара Ротшильда, то противогаз, может, и неплохая идея. Прелестная, уютная, светлая квартира в Рамат-Авиве, одном из самых пафосных районов Тель-Авива. Хозяева уезжают в дипломатическую миссию в Швецию, сдают очень дешево — у них уже есть деньги, деньги им не нужны, им нужен культурный постоялец с любовью к хромым кроликам. Кролика зовут Эрлих, по фамилии первой жены хозяина квартиры, — бешеный аппетит, только дай — обчистит человека до нитки. Эрлих жрет всё: ковер, фарфоровую статуэтку времен расцвета баухауса[1], ножку от стула. Вселенная с ее перверсивным чувством юмора распоряжается так, что именно лак на античной ножке от стула что-то такое делает с нервной системой кролика, отчего у него отнимается задняя правая нога. Кролик волочит ее с видом лорда Честерфилда, гордо демонстрирующего миру свою аристократическую подагру, заработанную избыточным употреблением рейнского и токайского. За кроликом надо ухаживать — и это расплата за изумительную квартиру в изумительном районе, с изумительным джакузи, изумительными признаками баухауса, телевизором изумительной ширины. Хозяева сами не верят, что тебе так повезло, — ухаживать за потрясающим подагрическим кроликом. Подмывать пару раз в день, чаще не надо; уколы шесть раз в день — у него недостаток витаминов; он ест только свежее, и не давайте ему артишоки, он от них писает и какает. Кролик смотрит на тебя мрачными алыми глазами, слегка задрав верхнюю губу. Страшные длинные зубы сверкают в отблесках изумительного торшера Тиффани. Кролик дает тебе понять, что ты еще не представляешь себе даже, чем и как он писает и какает. Но представишь. Ты с тоской просишь еще раз посмотреть на джакузи — просто так; как на прекрасную женщину, которой тебе никогда не суждено будет коснуться, или музейную статую в городе, из которого тебя выгоняют за пририсовывание пениса их гордому гербу на центральной площади. С изумительными хозяевами жалко расставаться до слез. Эрлих волочется за тобой до двери. Он четко дал тебе понять, кто тут живет, а кто нет.(Быт. 1:26)
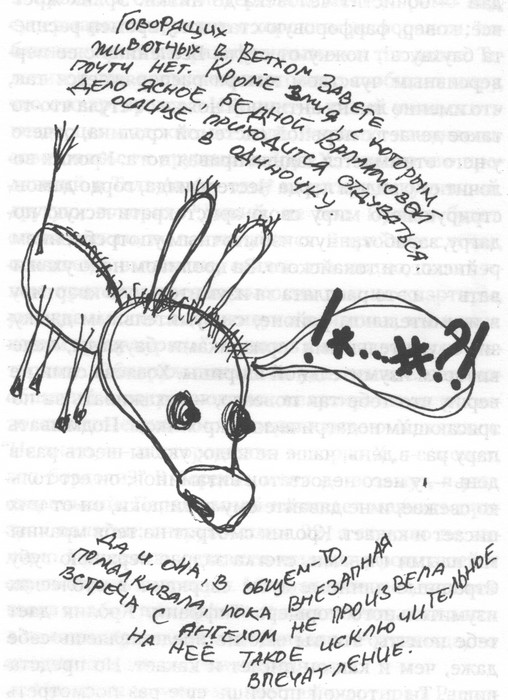 Говорящих животных в Ветхом Завете почти нет. Кроме змия, с которым дело ясное, бедной Валаамовой ослице приходится отдуваться в одиночку. Да и она, в общем-то, помалкивала, пока внезапная встреча с ангелом не произвела на неё такое исключительное впечатление.
Говорящих животных в Ветхом Завете почти нет. Кроме змия, с которым дело ясное, бедной Валаамовой ослице приходится отдуваться в одиночку. Да и она, в общем-то, помалкивала, пока внезапная встреча с ангелом не произвела на неё такое исключительное впечатление.
Мухоловка обнаруживается в квартире номер два. Рамат-Ган, прекрасный тихий переулок, черный ход низко расположенной квартиры ведет в прелестный сад. Хозяйка — пожилая женщина с коротко стриженными ярко-красными волосами, нежно звенят браслеты, пахнет благовониями, сильная женщина, вырастила троих сыновей, все офицеры, один — канадский. В Канаду эта прекрасная женщина едет навестить внуков. Изумительный домик сдается за копейки, деньги хозяйку не интересуют, денег у нее никогда не было и не будет, это, говорит она, неважно. Важен сад. В саду восемьдесят два наименования растений, включая артишоки. Толстая тетрадь с режимами прополки, поливки, удобрения. Ты-то полагаешь, что надо просто переселить в сад Эрлиха и познакомить его с артишоками, но помалкиваешь. Тебя подводят к мухоловке. В ее липких челюстях конвульсивно вздрагивает отчаявшийся, отрешившийся уже от всего земного таракан. Их полное ведро, кормить раз в двое суток, выбирать крупных, мелкие ее расстраивают. Ты чувствуешь, что мухоловке и Эрлиху было бы, о чем поговорить, но сам ты как-то слабоват для всего этого. Но проводишь с красноволосой женщиной сорок минут за кофе. Она бывший военный врач, хотите, щас вам станет гораздо легче дышать? — Хрясь тебя по спине боковиной сковородки. В спине что-то интересно хрустит, дышать действительно становится гораздо легче, расставаться жалко до слез. Челюсти мухоловки уже сомкнулись окончательно, тебе вчуже делается спокойней от того, что в момент вашего знакомства она была сыта. Потрясающая квартира в Гиватаим, целиком обтянутая черной кожей; щуплого длинноволосого хозяина с тремя серьгами в нижней губе сажают как раз на полтора месяца за нападение на охранника кинотеатра, потребовавшего сдать на время пребывания в помещении двухметровый хлыст со свинчатой рукояткой. Деньги его не интересуют, ему хочется пустить в квартиру человека, который не будет «разводить тут бордель». Полуторачасовой разговор об особенностях современного эротического костюма (под диктофон, для статьи в «Теорию моды»). Хозяин квартиры рвется примерить противогаз. Я говорю, что мне мама не велела. Жалко расставаться, но за хозяином пришли судебные приставы. Волшебный двухэтажный лофт в Кфар-Сабе с одним минусом: каждый четверг в нем собирается общество любителей украинских народных песен; у вас есть голос? Маленькая, чистенькая, спокойная квартира на Шенкин, в артистическом, богемном районе Тель-Авива, третий этаж. На секунду поманившее счастье — дверь открывает просто девушка, внутри просто студенческая мебель, просто холодильник, просто кошка о четырех подвижных ногах, умеренное количество цветов, работающая стиральная машина, девушка уезжает на осень чему-то там учиться по обмену. В спальне нет пола. Просто нет — он разобран. Снизу, со второго этажа, тебе весело машет приятный человек в очках. Пол разобрали, отсюда теперь опускается занавес, стропы, всякое такое. Нельзя подчиняться системе, если театр — это твоя жизнь; надо создавать его самому — в себе, вокруг себя. Прекрасная, аккуратно застеленная кровать крепко прибита болтами к стене от греха подальше. Деньги девушку не интересуют, деньги — мусор, важен духовный подъем и вот этот улыбчивый человек в очках. Деньги в нашей стране вообще никого не интересуют, патриотизм — это не про деньги, а про любовь; не надо деньги. Надо просто эмоционально включиться в эту любовь, больше ничего не надо; живи! Подмывай своего кролика, корми себе мухоловку, пой украинские песни хоть до потери голоса, качайся на стропах, главное — не разводи тут бордель. Хозяин кожаной квартиры был возмущен, когда при предыдущей его отсидке друзья устраивали тут хрен знает что, по тридцать человек собирались, позор и безвкусица. Израильскую квартиру нельзя спутать ни с какой квартирой в мире — в ней живут не по выбору, а по любви; ее полюбливают от отсутствия выбора и делают прекрасной от чистой нежности к пристанищу, пустившему тебя пожить со всеми твоими закидонами, духовными метаниями, хромыми кроликами, мухоловками. Я звоню X. и говорю ему, что деньги — говно, мусор. Деньги ничего не покупают, понимаешь? Надо просто подмывать кроликов. В себе, вокруг себя. Не поддаваться системе, понимаешь? Поставил палатку, надел противогаз, прибил себя болтиками к кровати, чтобы никакие суки тебя с нее не согнали, — и живешь дальше по любви. X. говорит: «Слушай, Дикий, я тут зашел прямо на улице по объявлению в одну квартиру. Потрясающая квартира, бывший арабский дом в старом Яффо, древний, мозаики, потолки пять метров, сад, все дела. Хозяева польские евреи, давно тут живут, обожают свой дом, не дом — шкатулочка, прекрасные люди, деньги их не интересуют, они только хотят убедиться, что ты — как сказать? — с чувством будешь к этому дому. Со всем сердцем, как к своему. Ты с ними познакомишься — тебе будет жалко расставаться». Я спрашиваю, в чем минусы этой волшебной квартиры. В ванне лежит тигр? Вместо плиты языческое кострище? Хозяйская собака оборачивается в полнолуние местным барменом? Я, как все экспаты, готова всё, всё в Израиле любить. Мне просто хочется как-то морально подготовиться и начать любить это всё прямо сейчас, то есть заранее. «Э-э-э-э-э, — осторожно говорит X. — Это не то чтобы минус… Это специфика. Тут, понимаешь, арабский район. Кругом арабы. Справа, слева — везде арабы. Соседи арабы. Мечеть на первом этаже — в смысле, арабская. Но знаешь, — поспешно добавляет X., — они очень милые. Тихие такие арабы, улыбаются. Мне кажется, они смирились». «Точно смирились?» — осторожно спрашиваю я. «Э-э-э-э-э, — говорит X. — Что сейчас судить? Вот скоро у нас будет Палестинское государство — тогда и посмотрим». Оказались очень милые арабы. Чемодан поднесли, травы предложили. Собачка тут у них ласковая. К району относятся с большой любовью, на деревьях фонарики в честь Рамадана, кусты поливают каждый день. Ну, и вообще, вот скоро у нас будет Палестинское государство, — тогда и посмотрим.
Несгибаемые собачки
…Живущий же на небесах Бог да благоустроит путь ваш, и Ангел Его да сопутствует вам! И отправились оба, и собака юноши с ними.Самое омерзительное, что есть в Израиле, — это экспаты вроде меня, приехавшие посетить Родину этак на пару недель. У них отпуск, они полны благодушия, они приехали из этой ужасной Москвы, ужасного Нью-Йорка, Пекина, Берлина в свою прекрасную маленькую страну, текущую молоком и медом. Они, гады, патриоты до мозга костей, а главное — это же дом родной, родимая сторонка, они же тут все знают, понимают ход глубинных процессов, им же понятно, что надо сделать, чтобы страна немедленно стала лучше. Экспат, заскочивший на родину поцеловать маму и похавать хумуса, прискорбно отличается от туриста тем, что турист просто умиляется всему кругом и радуется новому опыту; экспат же радуется и умиляется в контексте. И ему все время хочется поговорить про этот контекст. Он полон тонких мыслей, у него богатый опыт жизни в большом мире, ему есть, с чем сравнить, и остро необходимо своими сравнениями поделиться. У собаки на лице такое выражение, какое, вероятно, было на самой заре государства у первых поселенцев, прорвавшихся на утлых суденышках к обетованной земле: отступать некуда, это мой дом, здесь я и умру. А тебе надо отвести младенца в бассейн. Но твоя собака с утра съела огрызок соседской паштиды из мусорника и теперь даже не меняет позу перед очередным приступом поноса: просто переползает от предыдущей лужи на полметра вперед; по всей квартире идет интересный орнамент из луж, сделанный как бы Поллоком, но при помощи какой-то удивительно поганого качества охры, комковатой и водянистой. Так вот, младенец, мать его (то есть жену твою), хочет в бассейн! Ты уже сказал ему слово «бассейн», отступать некуда, потому что младенец поет, как больной, «ква-ква-ква, цфардеа ерука!» и делает плавательные движения, и пока инструктор по плаванию не двинет его поролоновым веслом по голове, младенец не сочтет гештальт закрытым и не заткнется. Экспату не приходит в голову запихнуть младенца в коляску, вывести собаку удобрять во дворе артишоки, подать тебе сумку с шестьюдесятью восемью предметами, без которых израильский отец не выйдет из дома. Зато экспату приходит в голову побеседовать с тобой о важном: а что, младенцы в бассейне — это теперь тренд? И что, всегда отцы водят? А в какой пропорции отцы и матери — отцов процентов шестьдесят? Вау! Как интересно все-таки идет симбиоз архаичного восточного уклада и традиционной еврейской гиперопеки по отношению к детям. И он, экспат, должен сказать, что в этом есть что-то фантастически израильское — «собака отравилась паштидой». В самых разных контекстах. Душераздирающе трогательное. Он должен это записать. Он в Нью-Йорке обязательно расскажет это своим коллегам по кафедре компаративной культурологии, их это тоже умилит. Израиль всех всегда умиляет. Особенно тех, кто здесь не живет. Отдельное занятие — накормить экспата. Обожемой. Вечер субботы, ты всю неделю питался крекерами с хумусом, мучительно пытаясь загнать хумусную банку в угол между фотографией ребенка и принтером, потому что в одной руке у тебя крекер, а другой ты наяриваешь по клавиатуре. Все, чего тебе хочется, — это белая скатерть, запотевший винный бокал и ризотто, потому что его даже жевать не нужно. Экспат, в отличие от тебя, полон энергии и патриотического умиления. Он хочет в старый Яффо — есть хумус с харисой, какой подают только в «Али Караван». Надо брать порцию и есть на улице стоя. Колорит! Сентименты! Родина дорогая! Килограммовая банка с хумусом его не устраивает — разве это хумус? Это, извините, полухумус. Экспат же настоящий израильтянин, его не обманешь. После «Али Караван» надо тащиться с ним в торговый центр за омерзительными копеечными желейными конфетами в форме яичницы. У продавца этой гадости глаза на лоб лезут: яичницу не покупают даже нищие бедуины и городские сумасшедшие, она присыпана пылью, как черным перцем. Но экспат когда-то ел эту погань в школе! Чудесные школьные годы! Чудесные киббуцные коровы, которых он один раз видел на школьной экскурсии! У них были такие же припорошенные пылью бока. Это хорошая метафора, надо записать, у нас на кафедре компаративной культурологии такое любят. Экспат пытается дать кусок резиновой сладкой дряни твоему младенцу: кушай, детка, у тебя тоже будет такой трогательный сентимент к родине, когда ты будешь жить в Лос-Анджелесе. Ребенок, к счастью, не дурак и немножко срыгивает на американского дядю. Лучший момент вечера.(Тов. 5:17)
 По какой-то причине репутацию собак в библии хорошей не назовешь.
По какой-то причине репутацию собак в библии хорошей не назовешь.
Левантийский покой тоже вызывает у экспата нежность. Он же в отпуске, в отличие от тебя, ему некуда спешить; все это так интересно, совсем другая логика бытия — там, в Бонне, от нее совершенно отвыкаешь. От ее медлительного обаяния. Тебе надо дойти до офиса телефонной компании и дать там кому-нибудь в глаз, потому что тебе постоянно приходят счета соседа, а ему — твои. Это потому, что вас обоих зовут Алекс, а бабка, которая занимается в телефонной компании счетами, не любит смотреть на фамилии, это кажется ей каким-то бездушным подходом (да, да, запиши, козел, запиши, не мешай только машину вести!). В офисе телефонной компании работает ровно один человек, перед ним сидит другой человек, они по очереди берут с демонстрационного стеллажа каждую, каждую модель телефона, и покупатель спрашивает продавца: «А в нем есть меню на иврите?» — «Есть, есть!» — «А в этом есть меню на иврите?» — «Я же сказал тебе, во всех есть!» — «И в предыдущем есть?» — «Есть, ты что, идиот, ты что, иврита не понимаешь?» Экспат умилен до потери контроля над собственной мимикой, у него уже пальцы от записывания свело, но ему же, в отличие от тебя, некуда спешить, он же хочет поучаствовать в настоящей левантийской беседе: «Вы же знаете, ребята, как это у нас в стране: написано, что есть меню на иврите, а дальше как бог пошлет. Бе-эзрат ха-Шем. Йом хаса, йом баса. Рак ше-нийе бриим» — и так далее, все присказки, которые есть в иврите. Экспат в этот момент испытывает единение с корнями. Ты в этот момент испытываешь смертную тоску и какое-то ощущение богооставленности — тем более что от экспатской реплики продавец и покупатель забыли, на каком аппарате остановились. Им приходится начать все сначала. У тебя десять минут назад закончился обеденный перерыв. «Так, значит, в этом вот телефоне есть меню на иврите?» — «Да во всех есть! Да чем же ты слушаешь, болван! Во всех есть меню на иврите!» — «И в синем тоже есть?» — «А-а-а-а-а, маму твою туда, и сюда, и так и сяк!..» — не выдерживает продавец. Покупатель белеет лицом: «Как ты можешь такое говорить? Как тебе не стыдно такое говорить? Это же не только моя мама, это же и твоя мама! Как тебе не стыдно такое говорить про нашу маму?!» Записать! Записать скорее!
 Когда египетские казни были позади, жабы не то чтобы исчезли из домов, постелей, хлевов и тарелок бесследно. Египтяне, конечно, досталось. Но и жабам, если честно, тоже не повезло.
Когда египетские казни были позади, жабы не то чтобы исчезли из домов, постелей, хлевов и тарелок бесследно. Египтяне, конечно, досталось. Но и жабам, если честно, тоже не повезло.
Единственный способ утихомирить экспата и привести его в нормальное человеческое состояние — сделать так, чтобы он приехал на родину не в отпуск, а по работе. Чтобы ему тоже понадобилось что-нибудь аккуратно, срочно, разумно сделать. Не просто по любви, а как-то по-человечески. Чтобы ему, например, понадобилась таблетка от головной боли. «Извините, в вашей аптеке есть такая-то таблетка?» — «А что у вас болит?» — «Голова». — «А где?» — «Вот тут». — «Разлитая боль или острая?» — «Разлитая, а вот тут в середине вроде как острая». — «Хм… А внезапно началось или медленно подступало?» — «Вроде медленно… Простите, мне бы таблетку, а то очень много работы и уже пора…» — «Да мы не аптека, мы только витаминами торгуем. Я просто очень вам сочувствую». Пусть у экспата будет ремонт, обеденный перерыв, ребенок, орущий про «цфардеа» и норовящий стукнуть смиренную, настроенную терпеть реальность такой, какая она есть, поносную собаку поролоновым веслом по голове, стоит вам отвернуться; банк, в котором все ему говорят: «Ой, здравствуйте, Ицик! Как ваши дела? Как ваша тетя, выписалась из больницы?» — хотя его зовут Алекс и они потеряли его номер счета. Пусть-ка поживет на родине — посмотрим, как долго он будет все записывать. Небось быстро перестанет. Небось научится, поганец, родину любить — не как гость, а как положено нормальным людям: со страстью, с преданностью, с ненавистью, с отвращением.
Ответственные суслики
Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных <…> И не буду больше поражать всего живущего.С чувством опасности в Израиле особые отношения: оно не то чтобы притуплено — на него просто сил нет. Силы уходят на то, чтобы убедить родственников за тебя не волноваться. Родственников много, пока всех убедишь — глядь, и война прошла. Как прекрасно говорит один городской сумасшедший, обитающий в Иерусалиме возле автобусной станции, делая три-четыре шага вслед случайному прохожему: «Ой, я за вас, уважаемый, совершенно не волнуюсь! По вам видно, что вы такой человек, за которого не надо волноваться!» И тут же другому прохожему: «Вы ж мой хороший! Вот за вас я ну совершенно не волнуюсь! Вы ж явно такой человек, за которого и волноваться нечего!..» Очень напоминает типичный разговор израильтянина с заграничным родственником после очередного взрыва, теракта, ракетного обстрела, военного демарша: «Ниночка! Ну перестань за нас волноваться! Тебе же нельзя волноваться! Если ты за нас волнуешься, то мы за тебя волнуемся, а у нас тут и без тебя хватает поводов волноваться! То есть, я хотела сказать, за нас совершенно нет поводов волноваться! Ниночка! Ниночка, перестань волноваться! Ниночка! Нет, я же слышу, что ты волнуешься, — когда ты волнуешься, у тебя зубной протез в трубку щелкает!» Приезжаешь к родителям на пару дней отдохнуть. Родители живут в Беэр-Шеве, самом, как мне кажется, еврейском городе мира: университет плюс больница плюс 4000 сотрудников муниципалитета. Лежишь в пижаме посреди гостиной, вокруг красиво расставлена мамина еда: богатая палитра, крупные мазки — рыбы заливной килограмма три, борща небольшое ведро, поднос жареных кабачков, торт домашний средней пушистости. Два пульта от телевизора — чтобы деточке не наклоняться, если она вдруг один уронит. Вдруг сирена: бомбят, значит, ракетами. По квартире проносится тихий вой: никому не хочется идти в защищенную комнату[2] — отрываться от компьютера, книжки, в случае некоторых — от творожной запеканки, там еще как минимум полтора кило недоеденных. Но все друг другу демонстрируют, что ответственные люди и вообще, — встают, идут. Сирена воет. В защищенной комнате прохладно, все садятся на табуреточки. — Деточка, ты водички хочешь? Водички стоит запас года на три. Еще шоколад, крекеры, консервы, противогазы, ведро, чтобы в него это самое. Нашли время бомбить, суки, — оторвали ребенка от обеда. Вообще-то мы в ЗК бегать привыкли — при Шамире бегали, при Рабине бегали, при Бараке бегали. При Ольмерте тоже бегали. Очень надоело бегать, но все ответственные же люди — приплелись, сели на табуреточки. Сидим, как смирные суслики. Сирена стихла или не стихла? Папа, включи радио! Радио почему-то настроено не на новости, а на волну со сказками и песнями для самых маленьких. Все с интересом смотрят на папу. Предлагают принести ему сюда матрас и бутылочку, пусть засыпает тут каждую ночь, нам не жалко, только если будут бомбить — мы его случайно затопчем. Папа делает вид, что радио переключилось само, и торопливо крутит ручки. Вдруг ба-бах — музыка из «Терминатора». Всем смешно. Но главное — на стенке приклеена специальная бумажка: кому после отмены тревоги надо позвонить, чтобы не волновались. Двадцать одно имя, в шести странах мира. Всем надо сказать разное, у всех больное сердце, все нас любят. Обзвон — часа на два. Зато у нас тут много консервов! Интересно, а консервный ключ у нас тут есть? Консервного ключа нет. От общего хохота радио падает на пол и настраивается на новости. Тревогу пока не отменили. — Ребята, а давайте пописаем в ведро? Двадцать лет бегаем в ЗК — и никогда не писали в ведро…. К сожалению, тревогу отменяют, ведру опять не повезло. — Деточка, ты хочешь мороженого? — Не-е-е-ет. — Боря, все твой дурацкий аварийный шоколад. Ребенок наелся в ЗК шоколаду и не хочет мороженого. Вот же.(Быт. 8:15-8:21)
 Перед Потопом нравы на Земле были так плохи, что даже животные разных видов спаривались между собой. Если бы не печальные последствия, следовало бы признать, что вечеринка удалась.
Перед Потопом нравы на Земле были так плохи, что даже животные разных видов спаривались между собой. Если бы не печальные последствия, следовало бы признать, что вечеринка удалась.
На следующий день ты возвращаешься в Тель-Авив. В дороге слушаешь новости. Среди прочего: забастовка врачей подходит к концу, новорожденный барханный котенок в зоопарке чувствует себя прекрасно, в Иерусалиме запустили трамвай, Беэр-Шеву бомбят. Ну, то есть, весь юг бомбят, но для меня это, конечно, значит, что Беэр-Шеву бомбят. Ты, мягко говоря, волнуешься. Звонишь родителям. — Мам, ну будьте вы людьми, ну переедьте вы ко мне на несколько дней! — Деточка, ну что ты в самом деле! И вообще, это же все глупости, ничего такого не происходит, ты же знаешь, у нас везде бомбоубежища. — Ну хоть не ходите из дому никуда! — Так мы же не ходим! Я вот пришла к парикмахеру и сижу, никуда не иду! — Мама!!! — А чего? Тут такая же ЗК, как у нас! Даже ведро такое же, как у нас… Звонишь Хаюту, говоришь: «Хают, ну если они продолжат бомбить, я обратно поеду, быть с родителями». — Давай-давай, — говорит Хают. — Так им и скажи; их инфаркт хватит вне всякого бомбоубежища. — Хают, — говорю, — ну я так не могу, я за них нервничаю. — А ты надень противогаз, запрись в шкафу, сядь на ведро и нервничай, — предлагает Хают. — Сопереживай. Share the experience! Хают черствый, он с соседским младенцем играл в «Железный купол»[3]: «Полетели-полетели-полетели — и промахнулись по вражеской ракете!.. Полетели-полетели-полетели — и промахнулись по вражеской ракете!..» Страшный человек. — Пап, ну серьезно, приезжайте вы! — Детка, ну мы же ответственные суслики, мы же, если что… Что-то делаешь, куда-то ходишь, то, се. Лезешь в новости. Среди прочего: молодой израильский дизайнер покоряет американские подиумы, в Ришоне начинается гастрономический фестиваль «Мир вкуса», актриса Хиам Аббас выступит в качестве режиссера. Беэр-Шеву бомбят. «Деревню Гадюкино смыло». Звонишь родителям. — Мама же! Ну же!!! — Детка, ну прекрати, это же все чепуха, тут все прекрасно. А вот я была у Миры на работе, там одна женщина сегодня такой пирог вишневый принесла, обалдеть. Мы его в бомбоубежище ели, я тебе такой сделаю, это пять минут. У них там каждый день кто-нибудь приносит пирог и прямо с утра в бомбоубежище относит, чтобы под сирену съесть. — Мам, а как насчет не ходить на работу пару дней? — Детка, ну вот же мы сейчас дома, мы тут подготовленные, это же все чепуха. Я отнесла в ЗК всего Пушкина, а папа надел трусы. А то я в прошлую сирену как дура бегала, искала, какую с собой книжку взять, и всё не то попадалось. Нет, папа трусы не искал, трусы у него всегда под рукой. Мы даже собрали все деньги и документы, я ему говорю: «Боря, собери деньги и документы!», а он ржет, а я ему говорю: «Чего ты ржешь?» (Голос отца на заднем плане: «Папа еще в жопу их себе засунет, чтобы было, как нас опознать и на что похоронить!») — Мам, дай ему от меня в глаз? Быстрый топот убегающего отца. — Деточка, ты лучше скажи мне, как ты себя чувствуешь. Хочешь, мы тебе в пятницу привезем такой шоколад, как ты у нас в ЗК ела? Он тебе понравился? — Мам, вы лучше останьтесь у меня в пятницу. — Детка, ну перестань волноваться. Мы же ответственные суслики, ты же знаешь, если бы было надо, мы бы остались. — А по-моему, вы козлы, а не суслики. — Вот так, значит, с родителями, да? А сама ты тогда кто, если родители у тебя козлы? Напоследок мама жалуется, что это свинство с их стороны — бомбить людей во время сериала «Друзья». Испоганили вечер. Утром просыпаешься, лезешь в новости, чего уж там. Ну понятно, то, се. Израильская сборная по баскетболу отлично выступила в Европе, в клубе «Барби» сыграет Maghreb Orchestra, вышел новый роман Эшколя Нево. Беэр-Шева со вчерашнего вечера в своем репертуаре. Звонишь родителям. «Набегались небось, да?» Набегались, но ко мне не переедут. Вкрадчиво: «Детка, если ты не перестанешь волноваться, мы все бросим и переедем к тебе в Москву, ты этого хочешь?» — «Переходим, значит, на шантаж и угрозы?!» — «Ты первая начала!» Долгие попытки выбрать между пирогом слоеным с вишнями и пирогом сдобным с яблоками; что-то подсказывает мне, что в пятницу мне доставят оба. «Мам, вы хоть поспали?» — «Ну конечно! Я положила рядом с собой лифчик и противогаз, мне очень удобно — встал и пошел. А еще тут наши сбили в воздухе два ГРАДа, это была такая красота! Дядя Марик просто в восторге, он тебе найдет видео в Интернете». — Мама, ты что, выходила смотреть?! — С ума сошла, деточка, мы же ответственные су… (Голос отца, язвительно: «Ответственные-ответственные, а кто творог в ванной забыл?..») — Ой, деточка, мы тут делали для тебя домашний творог и из-за бомбежек забыли его снять на ночь с отвески, так он получился еще в два раза лучше, чем предыдущий. Так что видишь, как у нас все хорошо? У нас все в два раза лучше, чем до бомбежек!
Приедут в пятницу, с борщом, творогом, пирогами, с видео ГРАДов из Интернета, бог знает с чем еще. Непременно проверят (тайком, конечно), в порядке ли мой противогаз, засунутый в ванной под ведро с половыми тряпками, послушают новости и вечером уедут обратно в Беэр-Шеву. Сесть в шкафу на ведро, сунуть в рот шоколадку, сидеть в темноте и думать: что за поразительные люди? Тоже мне — ответственные суслики. Слов нет. Как будто не понимают, что ты за них волнуешься. Вот же. И ведь дочь у них — рассудительная, осторожная женщина. Не самовольная, не упрямая. Как получилось? В кого пошла?
Изобретательные камелопарды
Ты поставил землю, и она стоит.Израильская изобретательность — это еврейская изобретательность минус необходимость судорожно выкручиваться. То есть израильская изобретательность — это еврейская изобретательность со всей ее безжалостной самоиронией и абсолютной непредсказуемостью, но лишенная всякой нервозности. Это неспешная изобретательность, задача которой — показать реальности дулю, причем сделать это ради чистой красоты жеста. Ошеломленная реальность иногда в ответ брыкается и суетится, но чаще всего изумленно садится на задние лапки и дает сделать с собой примерно что угодно. Вот молодая семья, живущая в Рамат-Гане. Их дети, пяти и семи лет от роду, до безумия любят ездить по торговому центру «Азриэли» на педальном жирафе. То есть предполагается, что это жираф, но для вящей честности его следует называть камелопардом, потому что на самом деле один Бог знает, кто это такой[4]. У камелопарда в спине дырка: бросаешь монетку, крутишь педали и спокойно едешь по ногам остальных посетителей со скоростью полтора километра в час — то есть по каждой ноге проезжаешь медленно[5]. Это очень приятно, я попробовала. Так вот, дети до дрожи любят этого пахнущего застарелым мороженым камелопарда, зовут его Беней; родители, не будь идиоты, быстро понимают, что пятишекелевые монеты, которые надо кидать Бене в позвоночный свищ, — это всемогущая валюта, великий объект вожделения. Всё начинает стоить пять шекелей: убрать игрушки — пять шекелей, поцеловать на семейном торжестве сумасшедшую бабушку Мири, которая в ответ кусает тебя за ухо, — пять шекелей, разрешить папе взять с собой в ванну твою резиновую уточку — пять шекелей. Проблема одна: так и разориться недолго. Израильская изобретательность приносит родителям гениальное решение: они покупают Беню. Ну, не Беню, но — говорят они детям — родного брата Бени, Даню. И теперь педальный камелопард есть у нас дома! Писец коту, но зато всем остальным счастье. Однако поездка на нем стоит сколько? Десять шекелей. Десять шекелей стоит поездка на Дане, педальном брате нашего Бени, потому что Беню кормят же питами в торговом центре, а Даню же надо кормить самим. А десять шекелей — это в два раза больше, чем пять шекелей. Так что бабушке Мири теперь достается два поцелуя, а у детей симметрично горят оба уха — гораздо красивее, и гости не задают осторожных вопросов, а просто полагают, что они у нас такие застенчивые ребята. Но самое-то главное — в процедуре всегда участвуют одни и те же десять шекелей! Дети, что вы тут делаете? Вы же уже легли! В течение нескольких секунд застуканный отец чувствует себя неловко, потому что его рука явно шурует где-то в области Даниных гениталий. Но дети, кажется, ничего такого не замечают, и неразменная монетка опять возвращается в родительский кошелек. Дети, если вы заснете в течение следующих пяти минут, вы получите что? Десять шекелей. Дети с визгом несутся в спальню. В опустевшей гостиной злые родители тихо катаются на Дане и сдавленно хохочут.(Пс. 118:90)
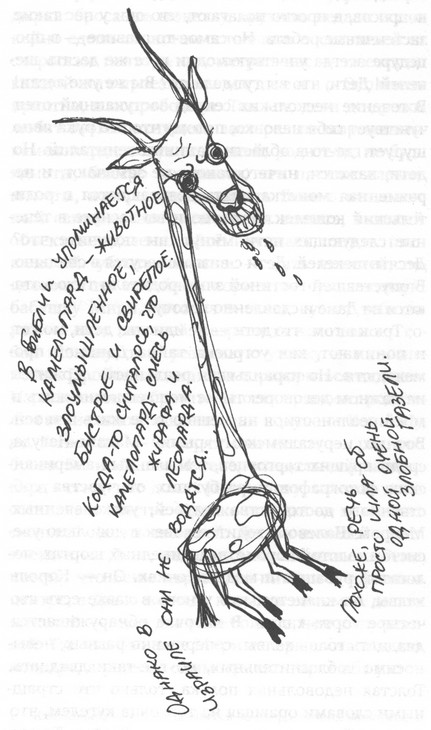 В Библии упоминается камелопард — животное злоумышленное, быстрое и свирепое. Когда-то считалось, что камелопард — смесь жирафа и леопарда. Однако, в Израиле они не водятся. Похоже, речь шла об одной очень злобной газели.
В Библии упоминается камелопард — животное злоумышленное, быстрое и свирепое. Когда-то считалось, что камелопард — смесь жирафа и леопарда. Однако, в Израиле они не водятся. Похоже, речь шла об одной очень злобной газели.
Трюк в том, что дети — не идиоты; дети, может, и понимают, как устроена тайна Даниной промежности. Но израильская реальность держится на важном договоре: ты не мешаешь мне жить в моей реальности, я не мешаю тебе жить в твоей. Вот по иерусалимскому рынку Махане-Йегуда, среди орущих торговцев, взмыленных американских фотографов и разбухших от чувства собственного достоинства голубей, увековеченных Меиром Шалевом, ходит человек в довольно увесистой золотой короне, велосипедных шортах, полосатой рубашке и модных очках. Он — Король халвы, он клянется, что у него в лавке есть сто четыре сорта халвы. В лавочке обнаруживается двадцать голов халвы: совершенно разных, невыносимо соблазнительных, но все-таки двадцать. Толстая недовольная полька, только что страшными словами оравшая на торговца кугелем, что это такой же кугель, как она — Юлиан Тувим, теперь требует от Короля халвы объяснить ей, где тут сто четыре сорта. «Маменька, — говорит Король халвы, — так ведь она же кубиками — одна халва, крошкой — другая халва, с куска кусать — третья халва». «Это шестьдесят», — строго подсчитывает пожилая полька, в реальности (в какой-то реальности) профессор филологии на кафедре истории идиша в Иерусалимском университете. «С медом — четыре, с шоколадным соусом — пять», — невозмутимо говорит Король халвы. «Это только сто», — недовольно возражает профессорша. «А четыре я лично для себя берегу», — с достоинством подытоживает Король халвы. Хлоп! — тема закрыта, вопросов нет. И правильно — израильтянину ничего нельзя доказать, если он сам этого не захочет: у него израильская изобретательность, и в его личной реальности причинно-следственные связи могут быть устроены совсем не так, как в твоей. Вот в Тель-Авиве на богемной улице Шенкин крошечного роста рыжеволосая красавица на крайних сроках беременности выбирает себе свадебное платье. Вокруг нее бегают мама, сестра, лучшая подруга и продавщица уникальной разновидности, встречающейся только в Израиле: она не камелопард Даня, деньги для нее — тьфу, она хочет, чтобы покупателю было счастье. Особенно, понятно, чтобы было счастье невесте на сносях. Ей все хотят счастья, этой невесте, потому что с ее интересным характером счастье бы ей очень, очень пригодилось. Невеста рыдает, отбрасывая платья одно за другим. Платья падают на пол с каменным стуком. «Я в этом толстая! — кричит невеста. — Я в этом толстая!..» При этом никакая изобретательность в мире не умеет эксплуатировать реальность так, как это делает израильская изобретательность. Каждый гвоздь идет в дело, каждое лыко — в строку. Приходишь на ежегодный фестиваль в Хуцот а-йоцер — уникальное иерусалимское пространство, заполненное художественными магазинами и мастерскими. Каждый год ты на этот фестиваль приходишь, и каждый год там стоит у самого входа чувак, торгующий хлипкими деревянными дудочками. Дудочки умеют издавать довольно невзрачное чириканье. Каждый год ты приходишь, и каждый год там есть эти дудочки, и каждый год они стоят три шекеля. И в этом году приходишь — есть дудочки! И табличка: «Twitter — 15 shekels». И толпа стоит, заводит себе твиттер. Или, скажем, ездит вечерами по Кфар-Сабе мужик с отличным таким велосипедом, явно собранным из трупов других велосипедов и одушевленным этого самого мужика горячим любящим дыханьем. Вместо руля — еще одна пара педалей. Сначала ты думаешь, что это для красоты. А потом мужик доезжает до фонаря — и видишь, что на этом руле черная собачка сидит и тоже лапками педали крутит. И не знаешь даже, что сказать. И думаешь: «Где-то у мужика в спине точно есть дырка, куда собачка пять шекелей бросает перед выходом из дома. Или десять». Или, например, видишь на блошином рынке в старом Яффо группу рачительных американских туристов, осторожно заглядывающих в сложенную из фанеры лавочку, тускло поблескивающую чьими-то заблудившимися сокровищами. «У нас потрясающие цены, потрясающие! — с нажимом клянется зазывала. — Знаете, какие у нас цены? От одного шекеля!» «От одного шекеля?» — ахают туристы. «Да, от одного шекеля!» — «А что есть за шекель?» — «За шекель все кончилось». Не думала же ты, реальность, что сможешь укусить израильского изобретателя за язык? Нет, она не думала. Она уже давно не знает, что думать. Она смирилась. Если бы не израильская изобретательность, израильские отношения с реальностью очень походили бы на русское «авось». Израильтяне привыкли быть готовыми ко всему и по мелочам не парятся. Однако русское «авось» предполагает, что кривая сама как-нибудь вывезет тебя из очередной переделки, а израильское «авось» — деятельное: оно не ищет решений, зато ищет способ расцветить эту самую кривую. Украсить ее каким-нибудь бантиком. Вот через шоссе у больницы «Левинсон» в Раанане переезжают две инвалидные коляски, в каждой сидит огромный суровый человек начальственного вида. На обоих начальственных людях веселенькие больничные ночные рубашки, завязанные на спине веревочками. Кроме рубашек — носки и кроссовки. Больше ничего. Весело болтаются из стороны в сторону притороченные к креслам капельницы. Под полное эмоций бибиканье водителей непреклонные пациенты в колясках продолжают свой путь: они едут на другую сторону шоссе за шоколадками. Следом за ними, лавируя среди машин, несутся длинными прыжками три санитара: «Йони! Эли! Йони, №;%;%!» Переглянувшись, оба колясочника останавливаются. Оба они — генералы ВВС, они не привыкли, чтобы младшие по званию так себя вели. Они дают санитарам сократить дистанцию. Один генерал берет за руку белого от ужаса и сияющего от пота санитара и ласково говорит ему: «Орен, не надо так быстро бегать. Тебе вредно так быстро бегать. У меня же вот тут (легонько хлопает себя по левой стороне груди) кардиостимулятор. Ты купи себе какой-нибудь пульт от старого телевизора и принеси мне, у меня племянник в MAMPAМе[6], он тебе его за две минуты перепаяет. Если я тебе нужен, ты только кнопку нажми — и у меня вот здесь сразу тук-тук-тук, тук-тук-тук. Не бегай по жаре, Орен, — ты еще, чего доброго, в больницу попадешь». После этого генералы разворачиваются и продолжают свой непреклонный путь к шоколадкам. Сияет солнце, гудят автомобили, и если Орен продолжит вот так стоять посреди трассы с разинутым ртом, он попадет в больницу гораздо раньше, чем генералы вернутся. Но одна из главных вещей, которую обеспечивает жителям Израиля их отдельная, ни на что не похожая изобретательность, — это постоянное чувство изумления результатом; изумления реальностью, которую эта изобретательность в конце концов создает. В одной оченьизвестной маленькой лавочке на улице Бен-Йегуда в Иерусалиме продаются копии старых израильских плакатов, в том числе — совсем старых, послевоенных. В качестве рекурсивной рекламы всего заведения на двери висит плакат конца пятидесятых годов, ласково зазывающий туриста посетить Эрец-Исраэль: все ее удивительные города, молоко и мед, горы и пустыни, красавицы с винтовками, пальмы с финиками, верблюды с такими настороженными мордами, как будто к ним только что подступались, размахивая десятью шекелями, особенно страстные дети. Словом, богатая израильская фауна. На переднем плане — крупный гордый израильский еврей в профиль указывает длинным пальцем бывшего варшавского пианиста, а ныне вольного киббуцника, на большую карту Ближнего Востока. И вот в жесте и взгляде этого еврея есть, хоть убей, что-то совершенно ошеломленное. Что-то такое, отчего зрителю сразу становится понятно: стоит он перед этой картой, недоверчиво дотрагивается пальцем до того места, где уже десять лет как существует молодое ивритоязычное государство, и тихо, потрясенно шепчет: «№;%;№;!..» И немедленно вспоминаешь сумасшедшего гениального программиста, с которым тебе довелось работать в далекой юности, когда трава была зеленее, самооценка выше, а парсеры изящнее. В четыре часа утра, в лаборатории, заваленной огрызками пиццы, этот программист смотрел на работающий кусок кода и шептал: «Это сделал я!.. Это сделал я!..» Говорят, позже он служил в МАМРАМе, а еще позже женился на очень красивой рыжей девочке, а сейчас работает в каком-то загадочном военном ящике и пишет научную фантастику.
Памятливые страусы
Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов.— Ах, — говорит тебе изумительная семидесятилетняя старушка уникальной израильской породы (из тех старушек, которые в молодости служили в «Пальмахе»[7], а теперь являются главной аудиторией неброских, чудовищно дорогих бутиков в Рамат-Авиве[8]). — Ах, это я, я во всем виновата! Он был такой красавец, такой красавец, даром что небольшого роста. Он был весь как из дерева выточен, с такой полированной кожей! Я знала, конечно, только немецкий, я приехала в Эрец-Исраэль совсем одна, вы же понимаете, мне было шестнадцать лет, это был сорок восьмой год, самое начало декабря. Я ради него выучила арабский. Я говорила на арабском лучше, чем на иврите, потому что это же любовь, вы же знаете, как это бывает. Но при этом у нас в киббуце под Тель-Авивом был такой молодой человек, еврей. На десять лет меня старше, он казался мне таким взрослым! Я разрывалась! И вот настал день, когда я сказала: «Махмуд, мое сердце не с тобою». Он посмотрел на меня — долго смотрел! — и ушел. А ночью мой друг, еврей, разбудил в палатке меня и мою подругу и сказал: «Девочки, берите винтовки, напали на район Ха-Тиква!»[9]. И мой Махмуд был во главе этого нападения, понимаете? Он мне мстил, он ненавидел меня. Это я во всем виновата! — вздыхает старушка, нежно покачивая точеной головкой.(Пс. 104:8)
 Три раза в год царю Соломону привозили павлинов. За сорок лет правления у него должна была скопиться неплохая коллекция.
Три раза в год царю Соломону привозили павлинов. За сорок лет правления у него должна была скопиться неплохая коллекция.
У тебя нет ни малейшего желания возражать — и не потому, что тебе не хочется расстраивать романтичную старушку. Просто у израильтян отношения с историей вообще носят совершенно персональный характер. Дело не то в плотности здешней истории, не то в размерах страны, не то в еврейском умении поддерживать семейные и дружеские связи; так или иначе, история — десяти-, пятидесяти-, четырехсот-, пятитысячелетней давности — не заканчивается в Израиле никогда и всегда касается лично твоего собеседника. Его дядя строил в Хайфе первую больницу, его тетя охотилась на Эйхмана, его троюродный брат проектировал «Суситу»[10], его бабушка была любимой наложницей царя Соломона, пока не явилась эта сунамитская похабница. «Ашкеназы жааа-а-а-а-адины! Ашкеназы жаааа-дины!» — издевательски вопит молодой йеменец, торгующий бобами на рынке «Кармель», не забывая при этом старательно демонстрировать белоснежные зубы вспотевшему от восхищения американскому фотографу. Щуплый бледнолицый хипстер из породы прогрессивных любителей готовить дома только что потребовал у торговца выдать ему недостающие тридцать агорот сдачи. — Ашкеназы жа-а-а-адины! Ашкеназы жа-а-а-дины! — Ашкеназы эту страну основали! — покраснев, огрызается нервный хипстер. — Ма-а-а-аленькую страну! Маленькую-ма-а-а-аленькую страну! Потому что жа-а-а-адины! Ашкеназы жа-а-а-а-адины!.. Тель-авивский таксист рассказывает тебе про участие его троюродного дедушки в восстании маранов в 1485 году: «…а мой дедушка вышел навстречу инквизитору и говорит: молодой человек, как вам не стыдно — мы же кушаем!..» Ты пытаешься мягко указать таксисту на некоторые, скажем так, неувязки. Таксист тебя просто не понимает. Он говорит не о цифрах и фактах — он говорит о персональном восприятии прошлого, о личном переживании. Срока давности это переживание не имеет и тем самым создает совершенно уникальные отношения со смертью, свойственные только израильтянам. На рынке, который еженедельно проходит в маленьком иерусалимском переулке возле «Дома художника», пожилая дама по имени Рути торгует фотооткрытками собственного производства: герань в окошке, пальма в электрических фонариках, закат над Синаем, рассвет на Голанах, все милое, четкое, чистое, яркое. Внезапно одна черно-белая фотокарточка — как рентгеновский снимок: что-то хрупкое, тонкое, асимметричное, витое. Рути нашла на чердаке иерусалимского дома, в котором семья ее мужа, профессора музыкологии, живет уже больше ста лет, коробку, в которую бабушка-покойница всю жизнь складывала всякую девичью дребедень — ну, ниточки, тряпочки, ленточки, моточки. Это — ошметки столетнего кружева; бабушке, скончавшейся шестнадцать лет назад, это кружево служило воротничком, когда та ходила в гимназию в Белостоке. — Рути, сфотографируй все эти вещи и сделай выставку, это же потрясающе! — Не могу, милая, муж говорит: бабушка этого не любит. Рути полностью в своем уме — просто бабушка этого не любит. Это трудно объяснить, но очень легко понять. В синагоге при больнице «Хадасса» семья израильских «американцев» рассматривает потрясающие витражные окна работы Шагала. Дедушка в колясочке, мама, папа, бывшая жена папы, новый сын папы, двое старших сыновей папы и дочка одного из старших сыновей папы на руках у его бойфренда. Кроме дедушки, все очень устали и хотят домой. Дедушка, как свойственно израильским пенсионерам, бодр, свеж и полон сил. — Деточки, вот теперь я готов немедленно умереть счастливым! — Дедушка, ты уже утром после завтрака в «Зуни» был готов немедленно умереть счастливым. — Ты, папа, еще в кино готов был немедленно умереть счастливым. — Да, папа, ты еще вчера в сафари после страусов был готов немедленно умереть счастливым. Как это, интересно, у тебя устроено? — Деточки, я немедленно готов пойти к проституткам. Вы уверены, что хотите и дальше выяснять, как у меня что устроено? — Ну-у-у, дедушка, если ты после этого будешь готов немедленно умереть счастливым… В кафешке на Флорентине матерый длинноволосый красавец в расстегнутой клетчатой рубашке с обрезанными рукавами поудобнее укладывает на своем по-сунамитски загорелом животе довольно беспокойного французского бульдога. Бульдог роняет слюни в меню и смотрит на хозяина выпученными, как старые автомобильные фары, глазами. — Как его зовут? — Моисей. — Почему Моисей?! — Так он и есть Моисей. — В смысле, тот самый Моисей? — Да, тот самый Моисей. — Почему ты так думаешь? — А он умеет на прогулке так изгваздаться, что перед ним вода в ванне от ужаса расступается. К беседе с удовольствием подключается бармен: «А ты не можешь попросить Моисея прийти ко мне домой и забрать мою дочь в какое-нибудь путешествие по пустыне лет на тридцать-сорок?» Дочь, красотка лет пятнадцати, подрабатывающая у папы в кафе во время каникул, снисходительно хмыкает. — Что ты хмыкаешь? У тебя восемь бойфрендов, они сидят тут с утра до ночи и жрут мои бесплатные оливки! Хотел бы я жить во времена Моисея — ты б давно была замужем, а у меня во дворе паслись бы пятнадцать верблюдов! — Папа, ты боишься даже хомяков! Что бы ты делал с пятнадцатью верблюдами? — Продал бы их кому-нибудь и выкупил бы тебя обратно, моя лапочка, моя деточка. Деточка ласково лягает отца длинной молодой ногой. Пятнадцати верблюдов могло бы и не хватить. …Есть такой израильский художник — Эран Решеф, гиперреалист, с душераздирающей точностью воспроизводящий элементы израильской уходящей натуры: старые настенные аптечки, белые рычажки, которыми когда-то почти во всех израильских квартирах включался свет, почти отступившие на чердак детские эмалированные ванночки — прошлое, которое исчезает из сферы видимого и цепляется только за мелкие вещи, случайно завалившиеся в щели времени. А есть еще один израильский художник — Йоава Эфрати, примитивист, автор минималистских карандашных рисунков: их подчеркнутая сиюминутность, их почти детская напряженность как будто бы вообще не выстраивает никаких отношений между жизнью и временем, между нами и прошлым. Можно поставить слепой эксперимент: зайти в магазин при Музее современного искусства в Тель-Авиве, взять оба каталога, веером перемешать края страниц, как края двух колод карт, и смотреть работы Решефа и Эфрати в том порядке, в котором они легли: вперемешку, как получится. Вот тогда отношения Израиля с собственным прошлым становятся, что ли, немного яснее. Это очень трудно объяснить, но очень легко понять.
Самодостаточные антилопы
Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?Израильтяне привыкли делать сами абсолютно все. Так уж исторически сложилось. Может, из-за того, что государство маленькое и рассчитывать, кроме себя, не на кого. Может, из-за того, что обстоятельства жизни у этого государства сложные — ну, понятно. Но проще всего предположить, что дело тут в другом: народ, с которым Бог пять тысяч лет разговаривает напрямую, по-свойски, и при этом все время пристает то с одним поручением, то с другим (туда пойди, это принеси, того роди, этого завоюй), как-то привыкает, что — всё сам, всё сам. И не просто «всё сам», а еще и в любой момент всё сам. Сидишь ты, например, такой весь сам по себе в кафе «Какао» на улице Ротшильда. Сидишь, облаченный в белоснежную футболочку с надписью I’m Too Cool to Write Anything on My T-Shirt («Я слишком крутой, чтоб носить майку с надписью»); пьешь латте, шуршишь страницами айпада. И вдруг откуда-то из-под люстры — Глас: — Мужик, подкинь вверх сахарницу! — …Господи, это ты?! — Ну. — …Господи, это ты мне или, скажем, пророку Иеремии говоришь?.. — Тебе, рас#$%#$%, — сосредоточься! И понимаешь: да, кроме тебя, некому Господу на старости лет сахарницу подать. Не говоря уже об исполнении других поручений. Так что, рас#$%#$%, сосредоточься. Всё сам, всё сам.(4 Цар. 6:15)
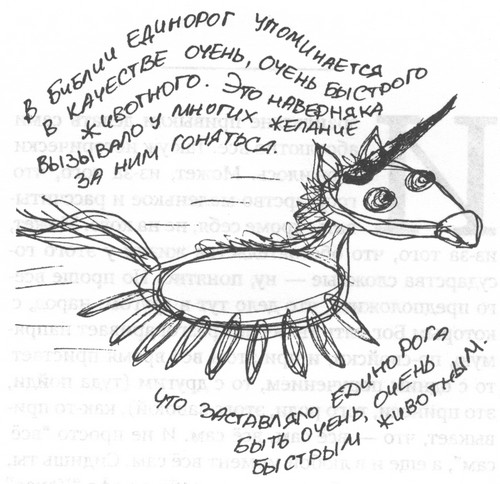 В Библии единорог упоминается в качестве очень, очень быстрого животного. Это наверняка вызывало у многих желание за ним гоняться. Что заставляло единорога быть очень, очень быстрым животным.
В Библии единорог упоминается в качестве очень, очень быстрого животного. Это наверняка вызывало у многих желание за ним гоняться. Что заставляло единорога быть очень, очень быстрым животным.
У такого расклада немало плюсов, но есть и несколько существенных минусов. Израильтянин — он же еще и еврей в большинстве своем; а еврей — он на генетическом уровне уверен, что делает любое конкретное дело лучше всех. Соответственно, израильтяне уверены, что они делают лучше всех абсолютно всё. Чтобы признать обратное, нужны чрезвычайные обстоятельства. Вот по рынку Кармель идет молодая мать удивительной, совсем недавно появившейся породы. Больше всего она похожа на уверенную в себе антилопу. Одета эта молодая мать по всем требованиям умеренного иудаизма, но при этом у нее роскошные дреды, собранные кверху ярким африканским платком; под закрывающей колени узкой джинсовой юбкой — в африканских же узорах леггинсы, на ногах — высоченные «платформы». Крупные звенящие серьги, идеальный макияж с длинными стрелками, сумка из этнической коллекции Proenza Schouler. За холеной молодой матерью идут пятеро ее детей, причем систему их передвижения (самостоятельно этой матерью, кстати, изобретенную) стоило бы запатентовать: у самой матери в руке зажата одна ручка пакета с яблоками, у старшей дочки — другая; во второй руке у той же девочки — одна ручка пакета с грушами, у ее брата поменьше — другая, — и так далее. Жарко, шумно, маленькие антилопчики уже получили по пите, по порции мороженого, по браслетику из конфет, напоминающих вкусом «аскорбинки» из нашего детства. Они переполнены впечатлениями, устали, ноют, роняют пакеты, старательно наступают друг другу на пятки, но матери удается кое-как сохранять боевой порядок. Паровозик подходит к благоуханному, открыточно яркому прилавку со специями, останавливается — и тут же рассыпается. Дети начинают яростно спорить о том, кем является слоняющийся по лавочке кот — мальчиком или девочкой. Молодая мать начинает присматриваться к специям. — Это что? — спрашивает она у лавочника, указывая на миску с ярко-алой смесью ярко-алым ноготком. — Это приправа для курицы. Продавец подает молодой матери приправу для курицы на кончике пластмассовой ложечки. Дети, тем временем, не могут прийти к консенсусу касательно кота и решают проверить все выдвинутые теории органолептически. Молодая мать острым язычком пробует приправу и неодобрительно качает головой. — Приправу для курицы я делаю лучше. А это что? — Приправа для рыбы. Ложечка, язычок, недовольное покачивание головой на фоне тихих повизгиваний изловленного кота. — Приправу для рыбы я делаю лучше. А это что?.. — Я буду рад помочь госпоже, если она заранее скажет мне, что она делает плохо, — сообщает продавец сахарным голосом. Утробный вой несчастного кота. Молодая мать наклоняется к продавцу и тихо, доверчиво говорит: — Детей?.. При этом слова «нету» израильтяне практически не понимают; нету — значит, придется самим сделать так, чтобы было. Это касается атомных электростанций, космических кораблей, рэпа на арамейском языке. Вот на собачьей площадке в Герцлии несколько айтишных начальников переходного возраста — то есть лет тридцати пяти — обсуждают здоровье своих такс. Сами начальники привыкли много работать, принимать решения, нести ответственность, смотреть в будущее — ну, понятно. Всё сами, всё сами. Поэтому таксы у них — ленивые, раскормленные, капризные маленькие негодяйки. Таксы не делают сами ничего, им куриное суфле надо в пасть заносить. Это у их хозяев такой компенсаторный механизм. Таксы нехорошо смотрят друг на друга красными налитыми глазами и отказываются срать друг с другом на одной площадке. Здоровье такс очень беспокоит айтишных начальников. — В Лос-Анджелесе есть водная йога для собак. Мой двоюродный брат работает в «Гугле», у них все водят собак на водную йогу для собак! При слове «Гугл» израильтяне обычно вздрагивают. Они не понимают, как это так вышло, что «Гугл» сделали не израильтяне. — У нас тоже есть йога для собак. В Тель-Авиве есть йога для собак. Посмотрим, как твоя Миранда будет ходить на йогу для собак! Миранда в этот момент пытается перетащить брюхо через лежащую в траве оливковую ветвь. — У нас просто йога для собак, а там водная йога для собак! У нас нет водной йоги для собак!.. На следующий день на собачью площадку выносятся четыре детских надувных бассейна. Айтишные начальники переходного возраста вчера скачали через торренты мануал, под джинсами у них плавки. Хозяин одной рукой пытается поднести к близоруким от вечного сидения за компьютером глазам мокрый многостраничный мануал, а другой рукой держит Миранду за жирные задние лапы. Миранда пытается прикинуться мертвой. — Греби передними, лапочка, греби передними!.. Миранда не на помойке себя нашла, чтобы грести чем бы то ни было. По воде надувного бассейна идут пузыри. Хозяин Миранды еще пять минут назад утопил мануал и теперь не знает, пора уже спасать свою любимицу — или это такая асана с полным погружением и глубокой задержкой дыхания. Другие таксы, наблюдающие за процессом на берегу, все понимают, но молчат. Зато теперь в Израиле есть водная йога для собак.
 В Библии козла постоянно норовят принести в жертву по тому или иному поводу. Неудивительно, что израильские козлы выработали некоторые защитные привычки.
В Библии козла постоянно норовят принести в жертву по тому или иному поводу. Неудивительно, что израильские козлы выработали некоторые защитные привычки.
Израильтяне совершенно не считают, что делать самим надо только революционные вещи. Любое самостоятельное производство однозначно поощряется. Что вы растите? Не пытайтесь отшутиться, сказав «бороду» или «детей», — это немодно. У вас свои мини-тыквы? У нас свои мини-кабачки, мини-арбузы и мини-редиски. Последние такие мелкие, что мы их даже не выкапываем — важен не результат, важен принцип. Зато их ботву можно засунуть в домашний компостер. Это не запах от него идет, это от него идет здоровый дух. Приходите к нам на компостер-пати! — Нет, это вы приходите к нам на компостер-пати! На компостер-пати приходят со своими объедками. Никто не хочет отдавать свои объедки, все хотят заполучить чужие объедки. Модная интеллигенция, растящая у себя в гостиной органический чеснок и органические помидоры, пытается договориться о ежедневной закупке объедков с продавцом ближайшей фалафельной. Хозяин фалафельной из чистого удовольствия вломить этим снобам выдвигает космические цены. Модная интеллигенция уходит домой плакать, использованный бумажный платок идет в компостер. По четвергам модная интеллигенция готовит из своих мини-цукини салатик и несет продавать его на «Рынок домашней еды» в Дизенгоф-центр[11]. Все, кто пожелает, могут получить санитарную лицензию и продавать здесь по четвергам самостоятельно скрученные роллы, самостоятельно сваренный таджин[12], самостоятельно слепленные пельмени и самостоятельно сквашенную капусту. Бойкий студент кулинарного вуза, будущий шеф-повар, торгует самостоятельно сделанным шоколадом. Шоколад идет плохо — самодельным шоколадом в Израиле никого не удивишь, здесь все творческие люди непременно делают дома шоколад. Так что продавцов шоколада на этом рынке — штук пять. Все они в обычное время работают адвокатами, профессорами консерватории, тренерами по водной йоге для собак — скучные занятия. А вот вечер четверга — это преображение, пожар души, парад страстей. Все рассказывают друг другу, с чем они делают шоколад. Разговор нервный, потому что он не о шоколаде, конечно, а о творческой состоятельности каждого из участников. — Мы делаем шоколад с красным перцем и цукатами манго! (Ба-баааах! Получи, фашист, гранату!..) А вы? — А мы делаем шоколад с карамелизированной куриной грудкой и грейпфрутовой цедрой! (Ба-баааах! Ха-ха-ха! Пленных не берем!..) А вы, неожиданно спокойные люди, слушающие нас с нежной улыбкой? — А мы делаем шоколад с валерьянкой… Правильно: всё надо делать самим, всё надо делать по-своему, и всё надо делать, в первую очередь, для своих, но при этом обязательно — как для себя. Кстати, если часто ловить такси где-нибудь в центре Рамат-Гана, то рано или поздно вам попадется пожилой таксист в старомодных очках, который сразу спросит вас, готовы ли вы ехать без кондиционера. У него прямо в машине, в хорошо закрепленных пластиковых бутылочках растут мята, базилик, укроп, кинза и острый красный перец. Обстановка тепличная, кондиционер включать нельзя. Про этого таксиста рассказывают, что раньше он был просто таксист, но, когда ему вырезали грыжу и он лежал под наркозом, с ним заговорил Бог — лично, напрямую. Спросил, нет ли у него с собой свежего схуга[13].
Доброжелательные медведи
…питал тебя в пустыне манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро.Весь Израиль хочет сделать тебе хорошо. Это очень важно понять и учесть хотя бы из соображений собственной безопасности, поэтому я повторю еще раз: весь Израиль хочет сделать тебе хорошо. Даже если для этого тебя придется повалить, связать и сесть сверху.(Втор. 8:3)
Мы тут открытые, добрые люди. У нас развиты поразительная чуткость и уникальная способность к сопереживанию. Нам не все равно, что происходит с нашим ближним. Мы умеем радоваться жизни и готовы костьми лечь, чтобы другие люди тоже как следует ей порадовались. Поэтому весь Израиль хочет сделать тебе хорошо. Весь Израиль хочет сделать тебе хорошо, дружок; весь Израиль хочет сделать тебе хорошо, бубале, хабиби, скотина ты эдакая. Поэтому, если ты заметил, что Израиль собрался сделать тебе хорошо, — лучше сдавайся сразу. Твоя задача — не победить, а выжить. Вот ты, скажем, бредешь по Тель-Авиву после Традиционного Израильского Завтрака. Традиционный Израильский Завтрак — это не просто завтрак; это поле боя. Израиль в лице Традиционного Израильского Завтрака твердо намерен сделать тебе хорошо, хоть кровь из носу (твоего). Каждый из вас готовится к этой войне заранее. Ты с утра смотришь в зеркало на свой рельефный профиль, красиво обтекающий резинку от трусов, и страстно клянешься себе, что нынче утром твоя трапеза будет состоять из обезжиренного йогурта и чашки кофе без сахара. Ты слышал, что, когда в иерусалимском зоопарке у медведей появился такой же красивый профиль, их две недели кормили обезжиренным йогуртом, и медведи от этого не то чтобы похудели, но как-то смирились с жизнью. Видно, поняли, что им хотят сделать хорошо. Ты лично видел этих медведей и должен признать, что даже вот в этих вот полосатых трусах они выглядели бы лучше, чем ты. Это признание дается тебе очень тяжело, но в результате ты твердо намерен вступить в адскую борьбу с Традиционным Израильским Завтраком. Но Традиционный Израильский Завтрак тоже не дурак — он уверен, что от обезжиренного йогурта и чашки кофе без сахара тебе не будет хорошо. А от него — будет. Поэтому он планирует предстать перед тобой в составе: трех яиц, приготовленных по твоему усмотрению; халы домашней выпечки (и корзинки с пятью булочками, потому что хала, по мнению Традиционного Израильского Завтрака, в общем-то, небольшая); миски с овощным салатом; плошки с салатом из тунца; плошки с салатом из кукурузы; плошки с тхиной; плошки с хумусом; плошки с зерненым творогом; плошки с козьим творогом; плошки с кубиками голландского сыра; плошки с оливками; плошки с сушеными помидорами; плошки с домашним вареньем; плошки с медом; плошки со сливочным маслом; плошки с шоколадной пастой; поллитрового стакана со свежевыжатым апельсиновым соком; чашки кофе, чаю или какао. Последний пункт следует считать милостивой уступкой со стороны врага: не чашки кофе, чашки чаю и чашки какао — нет, только чего-либо одного, на выбор. Традиционный Израильский Завтрак, видимо, не считает, что от всех трех чашек сразу тебе будет хорошо. Удивительное дело. Ты приходишь, садишься за столик кафе — и битва начинается. Тебе приносят специальный красивый лист, в котором перечисляются составляющие Традиционного Израильского Завтрака. Ты бледнеешь. Враг зыркает на тебя из кухни блестящими блюдцами и сдавленно хохочет. Ты (мужественно отшвыривая красивый лист): Я хочу просто обезжиренный йогурт с чашкой кофе! Традиционный Израильский Завтрак (ласково): Отлично! Вот тут как раз описан вариант завтрака из обезжиренного йогурта с чашкой кофе! Мы подаем к йогурту и кофе домашнюю халу, пять-шесть булочек, миску с овощным салатом, плошку с салатом из тунца, плошку с салатом из кукурузы, плошку с тхиной, плошку с хумусом, плошку с… Ты (судорожно ища выход): Нет, я… я… Вот что: я не хочу за все это платить! Я решил сокращать расходы! Традиционный Израильский Завтрак (ласково): А мы подаем все это по цене обезжиренного йогурта с чашкой кофе! Ты: Но я не хочу есть все… Все вот это! Традиционный Израильский Завтрак (ласково): Да кто ж вас заставляет? Мы вам, значит, все это принесем, а вы, значит, всего этого не ешьте… Израиль в лице Традиционного Израильского Завтрака хочет сделать тебе хорошо. Сдайся, дружок. Это вопрос твоей психической безопасности. Смотри — ты уже разговариваешь с завтраком. Не надо так. Лучше поговори завтра утром с резинкой от трусов: чего это она, зараза, такая напряженная? Пусть расслабится. Резинка постоянно видит тебя с худшей стороны, у нее нет ни малейшего желания сделать тебе хорошо, можешь не сомневаться. А сейчас ешь. Разрежь халу вдоль, намажь ее своим поганым обезжиренным йогуртом, если он тебе так уж сдался, сверху положь тхины, хумуса, салата из тунца. Меду положь, шоколадной пасты, домашнего варенья тоже, козьего творога положь тоже. Посыпь сыром, тунцом, сушеными помидорами. Булками посыпь, полей соком апельсиновым и жуй. Ты увидишь, от Традиционного Израильского Завтрака тебе и правда станет хорошо. Человеку на последней стадии асфиксии свойственно впадать в эйфорическое состояние.
 Библия велит отдавать четырех овец за каждую украденную овцу. Украденная овца должна чувствовать себя очень польщённой.
Библия велит отдавать четырех овец за каждую украденную овцу. Украденная овца должна чувствовать себя очень польщённой.
Так вот: бредешь ты в состоянии эйфорической асфиксии по художественному рынку, каждую пятницу располагающемуся вдоль тель-авивской улицы Нахлат-Биньямин. Тут ювелиры, керамисты, стеклодувы, мессии, вязальщицы, продавцы благовонных палочек, многообещающие ученики Миншара[14], непонятые советские художники, винтажные девушки, торгующие винтажными израильскими открытками, на которых стройные медведи в полосатых трусах рекламируют обезжиренный йогурт. И вдруг — табуретка! Благословенная табуретка! Она стоит перед гадалкой, и ты падаешь на эту табуретку в надежде послушать какую-нибудь милую болтовню про несметное богатство и восемнадцать будущих детей. Это опасная ошибка, потому что можно не сомневаться: Израиль в лице этой гадалки немедленно захочет сделать тебе хорошо. Израиль (в лице гадалки): Сразу предупреждаю: я здесь не для того, чтобы говорить вам приятное. Я здесь для вашей пользы. Тебе всегда казалось, что это примерно одно и то же. Ты до сих пор не понимаешь, почему твоя первая жена не разделяла этого мнения, но отлично помнишь, чем заканчиваются подобные разговоры. Ты пытаешься отдать гадалке пятьдесят шекелей и вскочить. Традиционный Израильский Завтрак: Сидеть!.. Ты со стоном падаешь обратно на табуретку. Израиль (в лице гадалки): Сколько вам лет? Ты: Тридцать шесть… Израиль (в лице гадалки): Всего?! Ну у вас и вид… (Разглядывая вашу ладонь) Это ваша ладонь?.. Не протез, нет? Странно, выглядит такой многообещающей… Вы уж извините, но говорить правду — моя главная методика; единственный, знаете ли, способ действительно принести человеку пользу. Вот у вас в линиях прямо написано, что иногда вам пытаются принести пользу, а вы сопротивляетесь. Вырываетесь, табуретку вот опрокинули. Сядьте, я вам добра желаю, не надо рыпаться. Смотрите, какая у вас линия жизни длинная, а вы меня сердите… Не надо меня сердить, я пять лет по Ливану с автоматом бегала… Вот эти полосочки — это про успех: вам надо подготовиться. Нет, не к успеху подготовиться — я имею в виду, вам надо соотнести свои ожидания с реальностью. Поверьте, это очень вам поможет, причем довольно скоро. Дальше: вот здесь треугольник, видите? Вам следует перестать думать о том, что вас никто не любит. Начните думать о чем-нибудь другом, например о мелодии звонка в вашем телефоне. О чем-нибудь, что вы можете изменить. Вы увидите, вам сразу станет легче. Теперь о вашем здоровье. Знаете, насколько легче будет переносить алкогольный цирроз, если смириться с ним заранее?.. Вечером ты жалуешься родственникам на то, что Израиль все время пытается сделать тебе хорошо насильственными методами. Родственники возмущены: обидели их деточку! И неправда, что надо сдаваться, — не надо сдаваться! Надо отвечать добром на добро! Пусть знают! Вот когда еще в 1964 году один человек собрался делать твоей тете предложение, он повел ее в очень тогда известный ресторан с традиционной еврейской кухней — специально, чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений. А твоя будущая тетя не хотела за этого человека замуж. Но когда они пришли в ресторан и съели первое, этот человек начал делать твоей будущей тете предложение. И так он хорошо делал ей предложение, что твоя будущая тетя даже заслушалась и думает: «Вон, значит, как любит меня человек… Пойди еще найди другого такого человека…» Словом, лед тронулся. И тут подходит из-за соседнего столика какой-то юноша и говорит: «Вы меня, молодой человек, извините, но только вы своей девушке на второе заказали мацебрай, и вот этот мацебрай[15] ей уже принесли, а вы все говорите и говорите! А мацебрай, между прочим, надо есть горячим! Вы уж меня извините, но только я вам добра желаю!» И тут твоя тетя начала смеяться, а человек, который делал ей предложение, разозлился и говорит: «Ах так? Ну так я вам тоже добра желаю: ешьте, пожалуйста, с этой веселой девушкой ваш горячий мацебрай!» И так твоя тетя познакомилась с твоим дядей. И пусть твой бедный дядя тебе расскажет, каково это: когда тебе платят добром за добро. Так что и ты не стесняйся так делать, деточка.
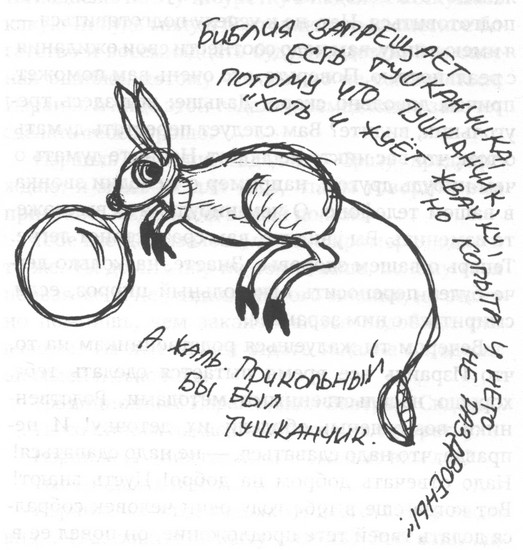 Библия запрещает есть тушканчика, потому что тушканчик, «хоть и жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоенные». А жаль. Прикольный был бы тушканчик.
Библия запрещает есть тушканчика, потому что тушканчик, «хоть и жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоенные». А жаль. Прикольный был бы тушканчик.
Но ты твердо знаешь, что у тебя кишка тонка — платить Израилю добром за добро. Ты просто недостаточно добрый человек для этого. Вот приходишь ты на просмотр интеллектуального фильма об интеллектуальной жизни йеменских евреев-интеллектуалов в интеллектуальный кинотеатр при иерусалимской «Синематеке». Садишься перед сеансом выпить кофе в тамошнем знаменитом интеллектуальном кафе «Белый» («Красный» тоже есть, «Синий» вроде планируется). И вот сидит за соседним столиком интеллектуальная молодая компания, тоже, значит, ждет сеанса. И тут один молодой человек смущенно признается друзьям, что забыл дома очки. И друзья тут же возмущенно награждают этого молодого человека мощнейшим подзатыльником со словами: «Скотина, ты же не получишь удовольствия!» Нет, у тебя просто не хватит доброты с этим тягаться. Как не хватит доброты тягаться с охранником при кинотеатре, который так старается поудобнее расположить твою сумку для досмотра, что из сумки вываливается все содержимое. «№?*(:*(№;!!!» — говоришь ты. «Вот! — говорит охранник с некоторой обидой. Вот! Я стараюсь сделать тебе хорошо, а ты реагируешь на это ровно так же, как моя девушка!» Как не хватит у тебя доброты тягаться с пекарем, который отказывается продать тебе багет, потому что «я же вижу — вы не багетный человек. Я заверну вам два бублика, потому что вы бубличный человек. Не верите — уходите и идите к кому-нибудь, кто не желает вам добра». Мы бы, может, и пошли; мы только боимся, что ближайший такой человек находится в Сирии. Но если нам удается смириться, открывается удивительный факт: попытки Израиля сделать тебе хорошо насильственными методами срабатывают. Не очень понятно, почему срабатывают, — но тебе и вправду становится довольно-таки хорошо. Это устроено, как с кокаином или, скажем, с клизмой: процесс — так себе, а результат — ничо. Наверное, в противном случае данной страны давно бы тут не стояло. Да, то хорошо, которое ты получаешь, — это совсем не то хорошо, которого ты ждал. Это, возможно, даже не то хорошо, которое тебе нужно. И это уж точно не то хорошо, которое ты планировал. При других обстоятельствах ты бы, возможно, вообще усомнился, что это хорошо. Но, как ни странно, это хорошо. По вторникам это, может быть, даже дважды хорошо[16].
Самоосознанные верблюды
…и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим.Пока все кругом ведут сложные философские разговоры про израильскую идентичность — все эти Восток/Запад, инновация/архаика, религиозное/светское, пятое/десятое, — израильтяне отлично живут с этой своей идентичностью. Метод довольно прост, очень эффективен, и лучше всего его демонстрирует мальчик Дани из Петах-Тиквы, сын известного израильского поэта. Дани растет в типичной израильской семье: папа у него из Украины, мама — «марокканка», мамина мама — из польской семьи, а бойфренд папиной мамы — австралиец, до Израиля двадцать лет проработавший в Штатах. В результате у мальчика Дани четыре бабушки: украинская, польская, австралийская и сестра австралийской, которая считает себя сефардской еврейкой (из-за чего ее периодически лечат антипсихотиками и нейролептиками). Поэтому, если умного мальчика Дани растрясти среди ночи и спросить: «Даничка, что ты будешь кушать?», Даничка в ужасе подскакивает на кровати и быстро говорит: «Все понемножку! Все понемножку! Честное слово, я попробую все понемножку!..»(Ис. 66:20)
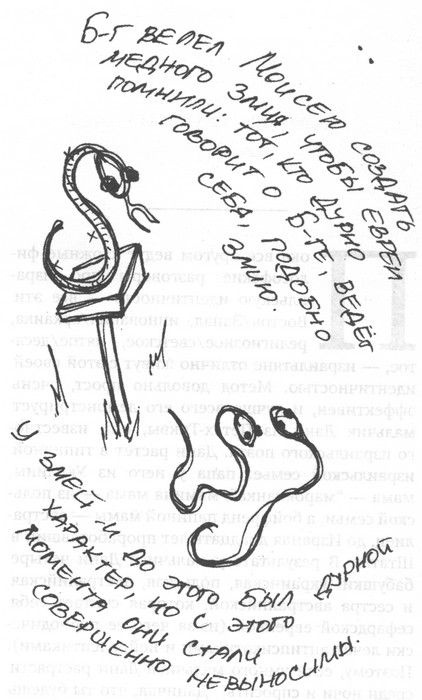 Б-г велел Моисею создать медного змия, чтобы евреи помнили: тот, кто дурно говорит о боге, ведёт себя, подобно змию. У змей и до этого был дурной характер, но с этого момента они стали совершенно невыносимы.
Б-г велел Моисею создать медного змия, чтобы евреи помнили: тот, кто дурно говорит о боге, ведёт себя, подобно змию. У змей и до этого был дурной характер, но с этого момента они стали совершенно невыносимы.
Вот, скажем, приходишь ты в гости к важному израильскому арт-критику после открытия очередной выставки в Музее библейских земель. Квартира критика на бульваре Ротшильда[17] — это даже не типичный нью-йоркский лофт, а эйдос типичного нью-йоркского лофта: ледяное белое пространство, в котором не то что жить — даже почесаться страшно. Можно только замереть у окна в высокодуховной позе и думать о чем-нибудь платоновском. О несоответствии Идей чаяниям, например. Из всех напитков в этой квартире есть только водка с лимоном и вода со льдом — от всего прочего бывают пятна. «Таким совершенно европейским людям, как мы с вами, надо научиться уважать Восток. Левантийские, например, отношения со временем очень многому тебя учат; или, скажем, левантийская манера коммуникации — это же бесценно. Но при этом совершенно, я считаю, не стыдно себе признаться: да, да, на повседневном уровне это бывает очень трудно. Это несоблюдение личного пространства, эти модальности речи, эти бесконечные бытовые суеверия…» — «А зачем у вас хамса[18] к унитазу приклеена?» — «От запора». На лысой голове арт-критика с Божьей помощью удерживается аккуратная кипа. На кипе вышит Гомер Симпсон, пытающийся удушить сына своего Барта. Спасительного ангела нигде не видать. Или: у высокой, по-эшеровски неоднозначной железной лестницы, ведущей в иерусалимское кафе «Тмоль-шильшом»[19], паркуется велокиска. Велокиска — это такая порода израильских девочек, возникшая в последние два-три года: обязательная широкая юбка или платье в стиле шестидесятых, черные ретро-стрелки на веках, каблучки, сильно начесанные и высоко собранные волосы, ярко-красная помада — и велосипед. Главное, что отличает велокиску от обычной кокетливой девочки на велосипеде, — это посадка: велокиска глядит строго перед собой, не мигает, а резко подскакивая на камушках — трогательно сглатывает и притворяется, что ничего не заметила, потому что на нее же все смотрят. В «Тмоль-шильшом» велокиски приезжают интересно сидеть (глядя строго перед собой) среди полок со старыми книгами, брошюр, приглашающих посетителей на лекции о гематрических особенностях «Капитала» Маркса, и начитанных рок-музыкантов, по вечерам поющих тут отрывки из романов Шая Агнона[20], аккомпанируя себе на терменвоксе. Велокиски дружат с рок-музыкантами, изучают политологию в Иерусалимском университете и едят только сладкое. Паркующаяся у лестницы велокиска цокает наверх, укладывается в кресло и беседует за куском торта с маракуйей с официантом в рамках того самого левантийского поведения, которое многому нас учит: официант некоторое время просто игнорирует остальных посетителей, а когда очередное «Извините, пожалуйста!» совсем его достает, он просто снимает фартук и садится за столик к велокиске, показав залу спину. Между ним и велокиской происходит изумительный разговор, который можно услышать только в Израиле и только в те моменты, когда молодая интеллигенция беседует друг с другом о высоком. В частности — об идентичности. Поэт Леонид Шваб как-то утверждал, что на современном иврите можно объясняться, пользуясь всего одним словом — «мам-м-маш![21]»; все остальное — интонации. Но молодая израильская интеллигенция придерживается совершенно иного мнения: их сложная духовная жизнь не вмещается в одно слово, в десять тысяч слов, в целый язык. Особенно — если разговор идет об идентичности. Это же совершенно европейские люди, им нужны европейские слова. Поэтому для понимания этого разговора иврит не нужен вообще. Велокиска объясняет, что ее характер вообще-то «интеграли», этакая «констелляция урбанистит» с элементами «фаталистика депрессивит». Официант не согласен. Он отказывается признавать в такой удивительной девушке цинизм агрессиви, он считает, что девушка очень даже спиритуалистит аутентит, просто не хочет себе в этом признаваться. Если вы еще не плюнули на свое желание перекусить, можете кинуть в них салфетницей: в конце концов, вы не европейский человек и даже не понимаете слова «констелляция», вы просто жрать хотите. Салфетки красиво оседают на соседние столики, одна из них ложится на высокий начес велокиски элегантной кружевной наколкой. В ответ слово «Мам-м-м-маш!» используется ею по крайней мере шесть раз, по крайней мере с четырьмя разными интонациями. Всего понемножку, Даничка, всего понемножку.
 Бегемот в Ветхом Завете — это какое-то очень большое животное. У него, возможно, есть витые рога. Или нет. И, кажется, он ест траву. Или нет. Его хвост напоминает кедр. Или нет. Предполагается, что он может выпить реку. Но без гарантий. Словом, «бегемот» — это, судя по всему, самое настоящее Б-г знает что.
Бегемот в Ветхом Завете — это какое-то очень большое животное. У него, возможно, есть витые рога. Или нет. И, кажется, он ест траву. Или нет. Его хвост напоминает кедр. Или нет. Предполагается, что он может выпить реку. Но без гарантий. Словом, «бегемот» — это, судя по всему, самое настоящее Б-г знает что.
Если у вас, в свою очередь, есть проблемы с идентичностью — израильтяне помогут вам определиться. Им лучше знать, кто вы, зачем вы тут и как с вами надлежит обращаться. Скажем, в Рехавии как-то завелся кот, живущий на заборе. Спит, мурлычет, ест принесенную местными жителями еду, с забора не сходит. Дети повесили табличку: «Здесь живет кот Сим-Сим». Толстый такой кот Сим-Сим, и с каждым днем все толще и толще. По Рехавии гуляет прекрасный музыкант Рафи Т., большой патриот своего района. Показывает хайфским гостям каждый кустик, где тут совы жили, а теперь чего-то улетели, где чуть ли не единственное во всем Израиле бутылочное дерево растет. А вот это наш кот Сим-Сим, живет на заборе. «Рафи, это кошка». — «Да ладно вам, посмотрите на его морду, это кот». — «Рафи, я ветеринар, я тебе клянусь, это кошка!» — «А я тут живу и клянусь тебе, что это кот!» — «Рафи, ну зайди ты со стороны хвоста! Ну это правда кошка!» — «Вот вы приперлись и рассказываете мне, понимаешь… Кот, кот». От хохота хайфских гостей последняя сова с возмущенным воплем «Мамм-м-м-маш!» взмывает в воздух и покидает Рехавию. «Рафи, эта кошка беременна!» — «Это кот, козлы!» — «Ребята, кажется, она рожает!» — «Вот! Вот! Это вы ее своими воплями довели!» Впрочем, в ответ на попытку рассказать израильтянину, кем именно он должен себя считать, можно огрести в глаз салфетницей — или еще как. Вот мальчик Даничка в составе небольшой семейной констелляции: мама, папа, американский дедушка — приходит в книжный магазин. При наличии четырех бабушек дедушке нечасто достается Даничка, поэтому Даничка может из дедушки печень вынуть — дедушка будет только счастлив. Дедушка хочет подарить Даничке книжек, Даничка бежит к полке с «Сумерками» и начинает вокруг них скакать. Дедушка листает черные кровавые томики; он не готов высказываться вслух по поводу Даничкиного выбора, но один вопрос все-таки очень его мучает. «Почему ты хочешь их на иврите? — недовольно спрашивает дедушка. — Совсем небольшое усилие — и ты мог бы прочитать оригиналы на английском». Даничка делает невинное лицо и произносит с интонацией хорошего ребеночка, способного в своей душевной чистоте говорить только правду: «Because I grew up a lazy little Moroccan!» «Лапочка моя! — говорит Даничкина смуглая красавица мама с интонацией хорошего ребеночка, способного в своей душевной чистоте говорить только правду. — Кисочка моя!» Какими именно израильтянками считают себя двухметровые эфиопские красотки, охраняющие вход в центральную автобусную станцию Хайфы и изумленно спрашивающие у каждого, кто протягивает им сумку для досмотра: «Ой! Кто это там шевелится?!», чтобы насладиться изумлением пассажира. Каким именно израильтянином считает себя один из ведущих израильских кинопродюсеров, с интересом оглядывающий Иерусалим в районе торгового центра «Мамилла» и замечающий: «Какое стало милое место! Почти как Тель-Авив!»? Какой именно израильтянкой полагает себя очень веселая и очень бойкая русская девочка в длинном бедуинском платье, с огромными звенящими серебряными серьгами, готовящая лафы с лабане и заатаром[22] в популярном бедуинском ресторане под открытым небом недалеко от Беэр-Шевы? Вот в галерее наивного искусства Gili есть куратор, который с удовольствием объясняет посетителям, что именно хотел сказать тот или иной наивный художник. И, в частности, почему у любовно выписанного израильским художником Ф. верблюда шея, как у жирафа: «Это верблюд поставлен перед выбором. Он может быть просто верблюдом, а может высоко поднять голову и стать лучшим верблюдом. Он может преобразоваться в осознающего себя верблюда». И действительно: обычно козы, скажем, едят листву с нижних веток, верблюды — со средних веток, а жирафы — с верхних веток. В то время как осознающий себя верблюд может, конечно, есть все понемножку.
Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена.Очень известный французский фокусник, звезда магической сцены, человек, привыкший примерно к любым реакциям публики на его работу, рассказывает о своем израильском турне, захлебываясь от восторга: израильтяне сумели его удивить. Он вел номер, все шло отлично, публика принимала его ласково и живо, — словом, «контакт». — Назовите мне любое случайное число! — выкрикнул фокусник со сцены. Ничего не произошло. — Любое случайное число! — повторил изумленный фокусник. И тогда голос из публики осторожно спросил: — А вам зачем?.. История дала израильтянам много поводов быть осмотрительными, а израильская осмотрительность, в свою очередь, стала основой двух уникальных свойств местного характера: израильской тревожности и израильского оптимизма. Вот у архитектора Б., построившего в Израиле половину юга и преподающего в Тель-Авиве историю баухауса[1], котик Лотреамон выпал из окна седьмого этажа. Котика зовут Лотреамон, потому что он нигилист: он твердо уверен, что всё бессмысленно, а что небессмысленно — то глупо, а что не глупо — тому надо яростно противостоять. Архитектор Б. и его жена терпят Лотреамона за то, что он возвращает им вкус к жизни: по сравнению с его взглядами на мир они чувствуют себя позитивистами и оптимистами. Естественно, Лотреамон отрицал ценность мира за пределами квартиры и ни разу не почтил собою подоконник — ровно до тех пор, пока тревожный архитектор Б. не затянул окна сетками на случай, если котику все-таки захочется упасть с седьмого этажа. В тот же вечер котик, конечно, прогрыз сетки и упал с седьмого этажа. Поседевший за полчаса архитектор Б. нашел котика на веранде соседнего кафе: Лотреамон презрительно отворачивался от миски с тунцом. Да и в целом создавалось впечатление, что на Лотреамоне падение не сказалось: по крайней мере, в лучшую сторону он не изменился, а хуже, по глубокому убеждению друзей и знакомых архитектора Б., этот кот стать не мог. Однако тревожный архитектор Б., конечно, вызвал ветеринарную «скорую». «Скорая» приехала через девять минут. Навстречу тревожному израильскому архитектору Б. вышел тревожный израильский ветеринар и сразу сказал: — Ловите же скорее пациента! Я не могу его ловить, я боюсь навредить ему в процессе. На что тревожный израильский архитектор растревожился еще сильнее и спросил: — А чем ему можно навредить в процессе? — Ой, — сказал тревожный израильский фельдшер, — есть столько вариантов! Сместить позвонок можно. Ногу ему сломать. Неловко ухватить за шею и придушить случайно. Или, скажем, надавить на аппендикс неудачно. Столько всего может быть плохого. Поэтому я никогда не ловлю пациента. Сами ловите пациента. — Я не могу при таких обстоятельствах ловить пациента! — затрепетал тревожный израильский архитектор. — Я нервничаю! — А я, по-вашему, не нервничаю? — занервничал тревожный израильский ветеринар. — Я тут уже пять минут и еще не видел пациента! Я нервничаю! — Ну так и ловите его! — Не могу! Пока я не начал осмотр, за пациента отвечаете вы! Идите и ловите его! — Я не могу, я нервничаю! — Вот же ужасный человек! Зачем только такие люди заводят пациентов! Все это время Лотреамон лежал в палисаднике моего дома и с наслаждением грыз трехногий садовый стул, — облюбовав его, видимо, за особо вопиющую несъедобность. Я не люблю нигилистов и люблю этот лишенный одной конечности стул: он напоминает мне о том, что бедность — не порок. Кроме того, я не знала, что Лотреамон — пациент; он выглядел обычной наглой тварью, обижающей бедного деревянного инвалида. Поэтому я взяла Лотреамона и отнесла его домой, к тревожному архитектору. — Ну вот, — печально сказал после осмотра тревожный израильский ветеринар. — С пациентом все хорошо, зачем вы заставили меня беспокоиться? — Потому что мне тоже показалось, что с пациентом все хорошо, — сказал тревожный израильский архитектор. — Не может же все быть хорошо? И тут эти достойные люди, кажется, впервые посмотрели друг на друга с пониманием. — Да, — сказал ветеринар, — в таких обстоятельствах я бы тоже вызвал «скорую». Ладно, идите, ловите пациента еще раз, я ему рецепт напишу. — Да зачем же его для этого ловить-то?! — возмутился архитектор. — Не знаю, — сказал ветеринар. — Вдруг с тех пор что-нибудь изменилось к худшему? Я нервничаю.(Иов 28:20–21)
 Все время, пока Ноева голубка спасала человечество, её «+1» торчал на ковчеге как дурак.
Все время, пока Ноева голубка спасала человечество, её «+1» торчал на ковчеге как дурак.
Израильская тревожность — это тревожность совершенно особого свойства: ее цель — с облегчением убеждаться, что все хорошо. Так израильская тревожность становится основой израильского оптимизма. Этот прекрасный, уникальный оптимизм проистекает из невозможности париться столько, сколько Израиль предлагает тебе париться. Поэтому попарься-попарься и переставай, нечего. «Почему этот охранник меня не досматривает? Почему он всех досматривает, а меня не досматривает?!» — «Эли, иди вперед, музей закроется!» — «Но он же даже не знает, есть ли у меня с собой оружие!» — «Эли, у тебя на носу очки минус восемь, какое оружие? Консервный нож?» — «Я не пойду в музей, где такие небрежные охранники! Почему он меня не досматривает?!» — «Потому что по тебе видно, что ты ни на что не способен!..» Внезапно Эли успокаивается. И правда, по нему видно, он в курсе. Ну, слава Богу, — страна в безопасности. Или, скажем, в прекрасной, совершенно развращающей посетителя модной шоколаднице Макса Бреннера два представителя израильской научной интеллигенции изучают меню десертов. Оба — микробиологи и хорошо знают, что именно (особенно — учитывая израильский размер порций) делают с телом человека три шоколадных десерта на двоих. — Мне завтра надо сдавать анализы. У меня будут плохие анализы. Мой доктор сказал, что, если у меня будут плохие анализы, он велит мне заниматься спортом. Мне нельзя это есть, у меня будут плохие анализы. — У тебя по-любому будут плохие анализы, Амир. — Почему?.. — Потому что ты старый толстый микробиолог, двадцать лет просидевший за микроскопом. Ты на Пурим съел все конфеты, которые твоим детям подарили. Ты купил для телевизора 216 программ. Твоя жена сделала из руля твоего велосипеда кашпо. У тебя по-любому будут плохие анализы. — Я не дам тебе моих профитролей. — А я не дам тебе моих вафель с карамелью, а шоколадное фондю мы съедим пополам. Израильская тревожность в сочетании с израильским оптимизмом создают совершенно особую схему светского разговора. Нормальный светский разговор построен по схеме «сейчас все хорошо, а будет еще лучше». Израильский светский разговор построен по схеме «сейчас все плохо, потом станет хуже, потом еще хуже, и в результате все будет отлично». На бульваре перед кафе уличные музыканты, для удобства которых мэрия специально врыла в газон маленькую зеленую железную сцену с маленьким зеленым железным стулом наверху, разговаривают о важных вещах с известным городским сумасшедшим (говорят, что это ему принадлежит стоящий на одной из маленьких улиц в Яффо дом номер 14, к которому из конспиративных соображений прибита табличка «13–99») «Сначала я заболею, потом умру, потом попаду в ад, а потом все станет отлично», — радостно сообщает музыкантам городской сумасшедший. «Почему?» — удивляются музыканты. «У меня там протекция», — важно говорит городской сумасшедший. Сначала будет потоп, потом морская болезнь, потом какие-то глупые птицы, все время прилетающие обратно, потом все будет отлично. Сначала будет рабство, потом неприятная история с младенцами, потом долгие препирательства с фараоном, потом сорок лет в очень непростой обстановке, потом все будет отлично. Сначала будет один Храм, потом второй Храм, потом две тысячи лет скитаний, потом все будет отлично. Это, если подумать, очень утешающая тенденция. Но самое прекрасное в этой четырехходовке — возможность начать отсчет примерно с любого момента. С такого момента, чтобы «отлично» приходилось уже на какое-то обозримое время. Скажем, вот за окном вашей кухни кот Лотреамон, балансируя на спинке трехногого стула, оскорбляет жестом довольно увесистого голубя, обдиравшего клювом листья с оливкового дерева. Голубь улетает с таким видом, что на его возвращение рассчитывать не приходится. Если смотреть на ситуацию с израильским оптимизмом, то более или менее «отлично» может оказаться уже завтра.
Субботние динозавры
И [Моисей] сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра.У молодой матери Адины (профессия — банкир) самое любимое животное — тиранозавр. У ее мужа Итая (банкира опять-таки) — тоже, вы удивитесь, тиранозавр. Не потому, что эти солидные, серьезные, много работающие люди ненавидят всё живое (профессия такая; насмотришься), а потому, что тиранозавр — личный враг их трехлетней дочери Лии. Больше всего Адина и Итай любят смотреть, как тиранозавры умирают. Хотя в четверг вечером им кажется, что тиранозавры умирают слишком медленно. Им уже и головушку отпилили, и ножки оторвали, и хвостик откусили — а они, твари, все еще здесь. Но судьба их, конечно, предрешена. Вообще-то Лиечка кушает не очень хорошо, однако тиранозавра искренне ненавидит. Готова уничтожить подонка любой ценой. Разрывает в клочья, давится, но ест. И очень устает, и сразу, прямо за столом, засыпает. Это бессовестная манипуляция со стороны Лиечкиных родителей-банкиров, но четверг есть четверг, и им даже не стыдно. В Израиле умеют поставить ребенка в тупиковое положение: если тебе покажут нежный куриный шницель в форме тиранозавра и спросят: «Хочешь, деточка?», ты, как последний лох, сразу завопишь: «Да, да!» Какой нормальный человек не хочет тиранозавра? «Сколько, Лиечка, — одного или двух?» — «Всех! Всех!» В пачке двадцать мороженых тиранозавров, способных держать в ужасе поголовье из четырехсот мороженых стегозавров, анкилозавров, нодозавров и сцелидозавров, а также множества свежеохлажденных диплодоков. Но только не одного израильского ребенка. Лиечка ненавидит тиранозавров. Родители, чтобы Лиечка не зажралась и не охладела к бою, дают ей тиранозавров только в четверг вечером. Зато двух сразу. На последствия стоит взглянуть: вы сразу переметнетесь от креационизма к эволюционизму, потому что не мог Господь всеблагой допустить такого ужаса. Лиечка засыпает прямо за столом, в сжатом кулаке — нога поверженного гиганта, изо рта печально торчит твердый хвост его товарища, охваченный rigor mortis. Лиечку быстро пакуют в кровать, бабушке суют бэби-рацию, и бай-бай: у родителей Лиечки (у этих солидных, серьезных, много работающих людей), как и у всего Израиля, наступает наконец вечер четверга. А значит, мама Лиечки уже через час будет танцевать на столе в одном из баров на улице Лилиенблюм[23], а папа Лиечки будет принимать ставки на то, с какой скоростью мама Лиечки способна опрокинуть пять стопок текилы. Потому что четверг есть четверг.(Исх. 16:23)
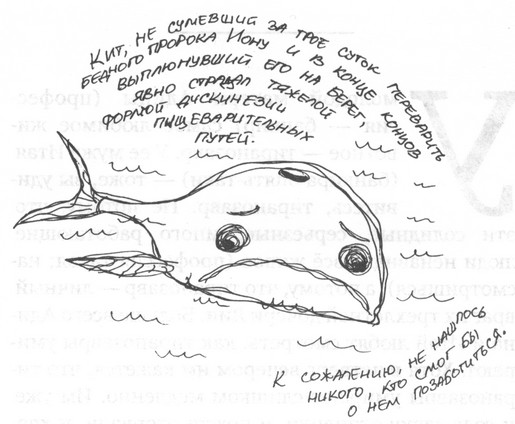 Кит, не сумевший за трое суток переварить бедного пророка Иону и в конце концов выплюнувший его на берег, явно страдал тяжелой формой дискинезии пищеварительных путей. К сожалению, не нашлось никого, кто смог бы о нем позаботиться.
Кит, не сумевший за трое суток переварить бедного пророка Иону и в конце концов выплюнувший его на берег, явно страдал тяжелой формой дискинезии пищеварительных путей. К сожалению, не нашлось никого, кто смог бы о нем позаботиться.
В Израиле суббота[24] начинается в четверг. Выходные здесь — не суббота и воскресенье, а пятница и суббота, поэтому четверг в Израиле — это как пятница в любом другом месте, но помноженная на сознание того, что у всего мира — еще четверг, а у нас— уже четверг. У нас уже четверг, и это распространяется не только на банкиров — это распространяется на обалдевших от шума и света малолетних туристов у входа в оперу; на двух раввинов и их жен, пытающихся приманить кусочком бейгеля сытого ленивого кота; на официантов в армянской таверне, белеющих лицом, когда американский турист просит у них «кофе по-турецки». На балкончике кафе «Грег», повисшем над торговой улицей Мамилла, пара брачующихся в полной сбруе пытается, глядя в объектив фотографа, придать своим лицам свадебное выражение. «Вечер четверга! — кричит фотограф. — Немножко расслабиться надо, немножко оживиться надо, ребята!» Внезапно невеста одним движением стаскивает с ноги белую кружевную подвязку и бросает ее в воздух. Подвязка взлетает, подхваченная слабым вечерним иерусалимским ветром. «Есть кадр! — кричит фотограф. — Есть кадр!» На веранде дорогого, элегантного хайфского ресторана две элегантные старушки в хрестоматийных жемчугах пьют коньяк и закусывают его печеньками «финансьер». «С тысяча девятьсот сорок пятого года, — дребезжит жемчужная старушка постарше, — я мечтала о возможности вот так, тихим вечером четверга, сидеть на веранде и тихонько пить коньяк…» — «Каждый вечер четверга с тысяча девятьсот сорок пятого года ты напиваешься и говоришь одно и то же», — перебивает ее жемчужная старушка помладше. «Тебе было шесть лет! — возмущается первая. — Что ты можешь помнить?!» — «Я помню, как вечером четверга папа с мамой уходили танцевать, а кое-кто воровал из шкафа коньяк!..» В старом еврейском квартале, на спуске к Стене плача, группа из пятерых бодрых людей средних лет вечером четверга бодро играет на барабанах. Каждый раз, когда кто-нибудь из проходящих мимо бросает им в шапку монету, они перестают играть и начинают очень громко благодарить доброго человека за щедрость, с наслаждением доводя его до пунцовой неловкости. У витрины книжного магазина два толстых строгих мальчика из ортодоксальных семей пририсовывают тиранозавру с рекламного плаката усы, крылья, бластер и кипу. Вечер четверга есть вечер четверга, и это не совсем то же самое, что вечер пятницы во всех остальных местах. Здесь слишком хорошо понимают, как устроен ход времени; и понимают, что радость нельзя откладывать, потому что позже для нее может не быть сил, не быть места, не быть повода, не быть лет. И понимают, что праздник должен быть каждую неделю, и этот праздник — суббота. А суббота начинается в четверг. Вечер четверга происходит со всеми и везде. С голубями на площади Рабина, успевающими за этот вечер так обожраться пиццей и печеньками, что утром пятницы один вид торговца фалафелем заставляет их прятать голову под крыло. С ешиботииками, пытающимися гонять мяч в изгибе кривой узкой улочки Старого города при тщательно сдерживаемом раздражении гуляющей толпы, пока из окна ешивы серьезный пожилой человек в шляпе и талесе не говорит им на строгом русском языке: «Мальчики, побойтесь Бога». С лежачими больными тоже происходит вечер четверга. Последних медсестры отделения восстановительной терапии при одной из израильских больниц застукали в четверг вечером за совершенно бессовестным развлечением. Родственники сообщали им с воли номера телефонов, написанных на заднем стекле автобусов или корпоративных автомобилей рядом со словами: «Хорошо ли я вожу?». Эти надписи делаются, понятно, для того, чтобы в случае нарушения водителем правил дорожного движения добрые граждане звонили, куда положено, и оставляли на автоответчике свои гражданские жалобы. Но вечер четверга — это вечер четверга, и даже лежачим больным восстановительного отделения положена радость. Поэтому они звонят по вышеописанным номерам и оставляют пространные сообщения: «…Какой прекрасный водитель у автобуса АМ2342! Я еще никогда не сталкивался на дороге с таким ответственным человеком!..» Дальше идут похвалы водителю автобуса АМ2342 как другу, гражданину, хозяину собаки, мужу — и так до интимных подробностей. Но вечер четверга есть вечер четверга и для дежурных медсестер тоже. Медсестры звонят пациентам: «Здравствуйте! Мы — центр гражданского контроля за дорожным движением. Вы оказались нашим миллионным контролером — и выиграли осла. Да, осла. Ну что вы нервничаете? Нормального осла. Нет, вы не можете от него отказаться». Вечером четверга ни от чего нельзя отказаться, потому что еврейское время — это очень непростое время, в такое непростое время праздновать надо все, что можно, сразу, как только можно; непременно каждую неделю, но лучше бы, конечно, каждый день. По крайней мере, суббота у нас начинается в четверг. …К утру на пляже Гордон погасят и уберут с песка маленькие электрические пальмы, и наступит хлопотное, шумное утро пятницы, когда надо успеть сделать все, что надо, до наступления субботы. Профессор математики Б., сорок пять лет состоящий в счастливом браке, перестанет разговаривать со своей женой, потому что вот уже тридцать два года они с женой по взаимной договоренности не разговаривают от утра пятницы до исхода субботы, чтобы «набраться хоть каких-то сил для жизни с этой чокнутой женщиной, с этой сумасбродкой, которой я приношу тапки — а она их не надевает и мерзнет, я опять приношу, а она не надевает и мерзнет; с этим ненормальным, с этим психом, который носит за мной тапки по всему дому, а мне жарко, а он все время носит мне тапки и носит, носит и носит». Утром пятницы от вечера четверга ничего не остается, кроме хладной ноги динозавра, случайно упавшей мимо мусорного ведра; Адина, молодая мать и преуспевающий банкир, подхватывает эту ногу и бросает ее в мусорное ведро, потому что наступает суббота, чистая медленная суббота, еженедельный праздник.
Новогодние олени
Никакой работы в этот день не делайте, в этот день трубите в шофар…В большом иерусалимском супермаркете к тебе подходят мальчик и девочка с двумя колясками продуктов и предлагают купить что-нибудь к празднику для нуждающихся семей. Девочка и мальчик — из благотворительной организации «Латет»[25], праздник, о котором идет речь, — Рош а-шана[26], еврейский Новый год, о котором, наравне с «еврейской Пасхой», каким-то загадочным образом слыхали даже атеистичные до брезгливости советские диссиденты. В иудаизме новых года четыре, чтобы никто не расслаблялся; но Рош а-шана — главный, и отмечают его в Израиле всерьез: два выходных, семейные застолья, «вообще-то мы не готовим, но на Рош а-шана Павлик сделает оливье». Обстановка приподнятая и немножко нервная, потому что за этим днем идут десять Дней покаяния; финальный аккорд — Судный день, когда Известно-Кто на небесах вписывает твою дальнейшую судьбу в Книгу жизни. Поэтому уже перед Рош а-шана все желают тебе «хорошей вписки» — примерно как во времена твоей хипповской юности, только ты трезв и знаешь, с кем разговариваешь. Чтобы понять, как это все устроено на эмоциональном уровне, можно представить себе, что вот — настал Новый год, и ты нормально так отмечаешь его со всеми положенными фонарями: вьюга, жена потеряла утюг для волос и не может никуда идти, не заводится чертова машина; потом дача под Москвой, среди красот и буераков; оливье, наполеон, опять оливье, три бутылки на семерых, а утром Люся умоляет всех не выкладывать фотографии в ЖЖ, потому что у нее целлюлит на попе и свекровь во френдах. И тут — бац! — тебе предлагается в течение десяти дней как следует подумать о своем поведении. В свете, значит, предстоящего Небесного Решения касательно твоей дальнейшей судьбы. Очень добавляет, знаете, к новогодним празднованиям здорового драйва. С Новым годом, хорошей вписки. Делать перед Рош а-шана добрые дела очень хочется, но некогда: надо ругаться со свекровью на тему «у вас или у нас» и чистить газон от собачьей шерсти, поскольку все равно окажется, что у нас. К счастью, всякие благотворительные общества берут организационную часть на себя. Например, тот же «Латет»: купи в супермаркете, что считаешь нужным, оплати в кассе вместе со своими продуктами и положи в особый ящик. «Давай купим бедным коробку конфет, вот эту, золотую, за сто шекелей! Бедным никогда не достаются золотые конфеты за сто шекелей! Это будет праздник!» — «Зачем бедным коробка конфет? Купим на сто шекелей риса. Муки купим, картошки. Сахара купим». — «Ты хочешь получить на Новый год тридцать килограмм картошки? Вот ты сам — ты хотел бы получить тридцать килограмм картошки?» — «Девушка! Вы же работаете в этой организации? Скажите, бедным нужны тридцать килограмм картошки?» — «Почему вы спрашиваете меня? Я что, ваша совесть?» В результате бедным достаются три электрических зубных щетки, а кто слышит тут бессознательное высказывание про очистку совести, тот просто циничный человек. Смущенные благотворители убегают прочь, как робкие олени. Спасибо, с Новым годом, хорошей вписки.(Числа 29:1)
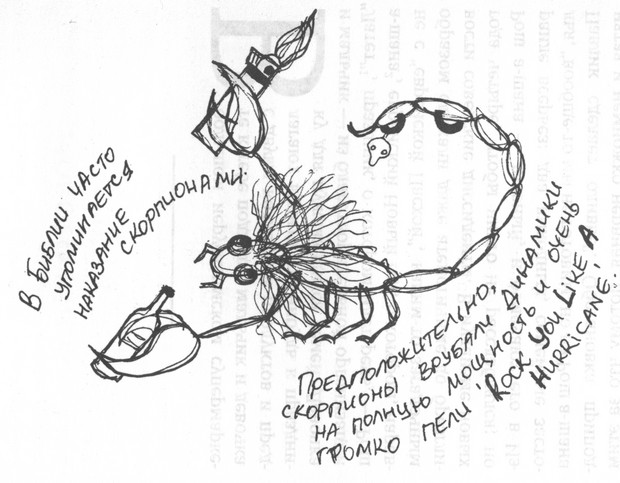 В Библии часто упоминается наказание скорпионами. Предположительно, скорпионы врубали динамики на полную мощность и очень громко пели 'Rock You Like A Hurricane'.
В Библии часто упоминается наказание скорпионами. Предположительно, скорпионы врубали динамики на полную мощность и очень громко пели 'Rock You Like A Hurricane'.
Едят на Новый год голову рыбы, гранаты и яблоки в меду (плодовитость, сладость). Яблоки в меду — это особый израильский вид спорта, это ежегодное высокое состязание между кафе, столовыми, барами, пожилыми домохозяйками и молодыми гастроэстетами. Баранья лопатка с яблоками в меду. Эпплтини с медом, удивительной мощи и липучести напиток. Оливье, оливье русский натуральный с яблоками и медом. Чай яблочный с медом, special edition к празднику. Суши с мелко наструганными яблоками, карамелизированными в меду. Детский крем под подгузник с запахом яблок и меда. «Мама, почему у Мирки попа пахнет тортом?» — «Чтобы вам в праздник было приятно, деточки!» Офисные дамы под видом нежного желания поздравить ближних с праздниками устраивают на работе кулинарную олимпиаду, до слез доводя друг друга, ночей не досыпая за выпечкой. В офисе одной крупной хайтековской компании висит на холодильнике объявление: «Уважаемые сотрудники! Просим оставлять праздничные торты и прочие блюда на большом столе анонимно во избежание творческих конфликтов на рабочем месте». Но дам так легко не проведешь. «О, веганский пай с органическими яблоками и гречишным медом ручного сбора! Вот бы мне рецепт этого веганского пая…» Кто встрепенется — та и попалась. «…Я бы этот рецепт подправила, и получилось бы очень даже прилично!» Др-р-рама. Потом все ходят из кабинета в кабинет, думают о своем поведении и извиняются. Спасибо, с Новым годом, хорошей вписки.
 В Библии пеликан упоминается как очень одинокая птица. А ёж упоминается как очень одинокое животное. И ни пеликан, ни ёж не делают из этого никаких выводов.
В Библии пеликан упоминается как очень одинокая птица. А ёж упоминается как очень одинокое животное. И ни пеликан, ни ёж не делают из этого никаких выводов.
У Стены плача[27] в предновогодние дни столько народу, что водители маршрутных автобусов, едва разъезжающихся на небольшой площадке перед металлоискателями, успевают поделиться друг с другом через окно сначала завтраком, потом обедом, потом ужином. Украинская фотомодель на костылях роется в сложенных у прохода к самой Стене молитвенниках, ее поддерживают под локти модельный муж и модельная мама. Худой мальчик на подходах к Стене быстро-быстро доедает из пакетика чипсы под насмешливыми взглядами ожидающих его старших братьев в униформе и с автоматами. Целый выводок маленьких школьных девочек в одинаковых школьных футболочках лежит на теплых вечерних камнях и старательно пишет записки с просьбами к Известно-Кому, ревниво прикрывая их ладошками друг от друга. Два эфиопских подростка подсаживают друг друга, чтобы впихнуть записочку в щель повыше, и изо всех сил стараются не хихикать. Американская семья обедает, разложив еду на капоте машины и усадив младенца в опасной близости от коробки с пирожными. Полная дама, помолившись, пятится от Стены, как положено, спиной вперед, старательно оборачиваясь через плечо, — и поджарая, оленьей стати кошка у нее на руках тоже смотрит не в сторону Стены, а в сторону площади, и так всем телом ныряет при каждом хозяйкином шаге, как если бы кругом был океан, а впереди берег. Это время года — время, полное чаяний; эта точка мира — точка, полная чаяний; чем ближе ты подходишь к стене, тем ощутимее становятся эти волны чаяний, густая их вечерняя вода, и пока ты плывешь от берега — к Стене и потом обратно от Стены — к берегу, ты, надо сказать, сильно устаешь. Берег тут очень крутой — бесконечные ведущие вверх ступеньки, ты взбираешься, обессиленный, и садишься на камни, и городской сумасшедший с бубном начинает описывать вокруг тебя круги, распевая на иврите «Хорошей вписки! Хорошей впи-и-и-ски!» на мотив старого советского шедевра про чудесный день и чудесный пень. И день, надо признаться, приятный, и пень, в целом, вполне даже ничего. Не самый большой пень, конечно; немного занозистый, это правда; ну и шатается слегка — что есть, то есть. Но в общих чертах — очень неплохой пень. Спасибо, с Новым годом, хорошей вписки.
Библейский зоопарк
«Молодой лев Иегуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Слова, которыми Иаков благословляет своего сына)Выгоняют тебя отсюда не очень энергично. То есть формально зоопарк закрывается в шесть, но в полседьмого еще ездят бодрые служители на маленьких таратайках и ласково просят тебя удалиться, и есть впечатление, что если спрятаться в кусты, то можно остаться на ночь. Три года подряд я делаю одну и ту же вещь: попадая в Иерусалимский зоопарк, ложусь на асфальт у центрального входа, фотографирую небо и делаю эту фотографию заставкой в ноутбук. Иногда это очень неприятно, дождь. Иногда невыносимо синее, иногда невыносимо серое, один раз в кадр попали ноги какой-то летучей цапли, один раз — очень удивленное лицо мальчика с мороженым и кипой, свисающей набок, как щенячье ухо. Если делать фотографию до закрытия зоопарка — больше шансов получить синее, если после — серое. Библейский зоопарк[28] называется библейским, потому что когда-то он задумывался как библейский: как зоопарк, в котором водятся звери, упоминаемые в Ветхом Завете. Теперь ты проходишь небольшое расстояние от входа, садишься на землю перед вольером — и на тебя плывет пингвин. Африканский нормальный пингвин, от которого создается полное впечатление, что он тюлень. Они плавают быстро и сильно пахнут рыбой, но не противной, а чем-то вроде форшмака. Маленькие, толстые. На камнях ссорятся двое младенцев — огромных, серых, пушистых, — кусаются клювами. Мать вместо того, чтобы растаскивать их в разные стороны, подкидывает в воздух кусочек чего-то съедобного. Один детеныш ловит подачку и увлекается едой, второй обиженно идет плавать. Патриарх на самом верхнем камне чистит клювом попу — и вдруг уходит под воду тяжелой черной пулькой. Одно из самых сложных чувств при посещении любого зоопарка — им от тебя ничего не надо, а тебе от них надо, ты хочешь дружить, ты хочешь, чтобы оно обратило на тебя внимание: посмотри сюда, зайка, пингвин, красная панда, посмотри сюда, я тут есть, существую параллельно с твоей жизнью, я хочу убедиться в том, что ты настоящий. Мы оказались на одной территории, в одном пространстве, очень трудно поверить, иди сюда, странное существо в черном лапсердаке, возьми кусок бублика, дай мне знать, что оно возможно — вот это единое существование. Подплыви к стеклянной стене, покажи свой жесткий, как щетка, круглый язык. Вместо твоего запретного бублика пингвин прихватывает клювом своего легитимного малька, поворачивается задом — но вдруг быстро зыркает через плечо, ты даже не думал, что у него, укутанного в черное, может так поворачиваться голова. За спиной у тебя бибикает выгонятель — четверть седьмого, тебе бы следовало покинуть уже закрытый зоопарк. В Ветхом Завете пингвинов нет, но здесь они есть. Ты энергично даешь выгонятелю понять, что вот уже прямо сейчас пойдешь к выходу, но вместо этого кустами, держась от бибикалок подальше, пробираешься к сурикатам. В вольере у сурикатов прорыты ходы, чтобы дети лазили внутрь, высовывали голову и смотрели сквозь маленький стеклянный купол на этих маленьких, юрких, которые все видят, всем интересуются и все время про что-то напряженно треплются между собой, что-то там перетирают. Ты, конечно, лезешь таким ходом внутрь, высовываешь голову. Сурикаты немедленно собираются вокруг и смотрят на тебя молча. Настороженная интеллигенция с разветвленными семейными связями, хорошо воспитанные такие ребята, не плюются, не лезут, не какают, просто ждут, чем ты себя проявишь, что ты такое им преподнесешь. Что ты можешь им преподнести? Ты показываешь им бублик свой несчастный, но ведь стеклянный купол по-любому. Выбраться из вольера можно только жопой вперед, как после аудиенции у каких-нибудь величеств. Шесть двадцать пять, от звука бибикалки ты подпрыгиваешь — но это пока что не рядом с тобой, это на соседней аллее. Зато рядом с тобой стоит Шмулик (по версии одних работников зоопарка; по версии других — Ицик): картонный чувак в полный рост, очень реалистичный. В зоопарке Шмулика много — он показывает, как пройти к зебре, или интересуется у тебя, бывают ли в природе черные какаду, или бодро предлагает тебе поинтересоваться, в свою очередь, у него значением слова «компост». Сурикаты стоят в таких позах, словно у каждого из них в одной лапке по бокалу белого, а в другой — балетная программка, и они в жизни не слышали ни о каком компосте. Компост им чужд. В Ветхом Завете сурикатов нет, но здесь они есть.(Быт. 49:9)
 Слоны в Ветхом Завете не упоминаются — зато в избытке упоминается слоновая кость. Слоны не любят обсуждать эту тему.
Слоны в Ветхом Завете не упоминаются — зато в избытке упоминается слоновая кость. Слоны не любят обсуждать эту тему.
В целом, думаешь ты, небольшое же нужно усилие, чтобы остаться в зоопарке. Затаиться под кустом азалии палестинской или взять вот эту куртку рабочую израильскую, оставленную на скамеечке человеком, демонстрировавшим детям фокусы с попугаями, прикинуться совершенно местным, ходить туда-сюда с таким видом, как будто, как если бы. Что тебе мешает — непонятно. Посмотри на Чарли, Чарли сто четыре года, Чарли вот не задумывается над всякими глупостями, Чарли все понятно. Чарли, синий ара, вроде как принадлежал когда-то лично Черчиллю, набрался от него, наверное, хорошего и плохого. Отличается, говорят, тяжелым характером, авторитетов не признает, твердо уверен, что раньше все было лучше, что молодое поколение разрушает саму атмосферу зоопарка, что они ничего не ценят, не понимают, не хотят, что им все легко дается, что им на помойке место, а не на этой благословенной земле. Кусок бублика принимает с надменным презрением, потому что это, конечно, неправильный бублик, раньше был правильный бублик, теперь все не так, развалили буфет. Время от времени Чарли разражается страшными проклятиями в адрес нацистов на строгом английском времен Британского мандата[29]. В Ветхом Завете попугаев нет, но здесь они есть. Шесть тридцать, картонный Шмулик настойчиво сообщает тебе, что выход — слева, ты идешь направо. Это лемуров мир, в туристическое время тут стоит строгая девушка размером с кабачок и говорит: «Не трогайте их, они нежные, не трогайте их, они нежные». Они нежные, они поздно встают, они подолгу загорают, выглаживаются, вылизываются, никуда не спешат, медленно ласкаются друг к другу, подходят к тебе, шелковой лапкой берут тебя за палец, заглядывают в глаза, умиляются детям, метят территорию в удивительно неудобной позе: стоя в гамаке из лиан вниз головой, очень продвинуто, очень оригинально. Хорошо, что далеко от них находится попугай Чарли, удар бы хватил его при виде этих нежных, ласковых, балованных, бублик нюхающих с вежливым интересом и отводящих лапкой в сторону: «Для них это слишком калорийно», — говорит тебе с упреком строгий кабачок. Но с закрытием зоопарка кабачок уходит по своим человеческим делам, и лемуры берут у тебя калорийный бублик, закатывая при этом глаза, вздыхая, явно клянясь себе, что с завтрашнего дня — только салат, салат и салат. У них маленькие круглые пузики и удивительно сильные ноги. В Ветхом Завете лемуров нет, но здесь они есть. Бибикает бибикалка, и громкоговорители раздраженно уже говорят тебе, что пошел восьмой час, вышли все сроки, домой, домой тебе пора, чужой человек, через два часа улетать тебе, чужой человек, — но ты громкоговорителей не слышишь, потому что раскатывается по зоопарку звук поинтересней и посложней: рев; причем рев такой хрестоматийный, какой, ты раньше думал, бывает только на заставках фильмов студии «Metro-Goldwyn-Mayer». Ан нет: они действительно так рычат. Чтобы это услышать, надо нарушить туристический режим, потому что они просыпаются в сумерках, когда уходят и арабские мамы с колясками, и вспотевшие от впечатлений толстые молодые люди из Бруклина, решившие держаться корней, и ищущие уединения в террариуме, безразличные к мраморным черепахам и синеязыким сцинкам, истомленные любовью подростки. Можно стать очень близко к стеклу, и тогда они бегают буквально в пяти сантиметрах от тебя, разминаются после сна: туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно, — и вдруг ты понимаешь, что это не просто туда-обратно, а каждый раз с небольшим поворотом, с небольшим изменением угла, — и вдруг ты оказываешься с ним лицом к лицу, и сердце падает у тебя, насмотревшегося милых дневных зверушек. Глаза у него тяжелые, желтые, а тело до странного маленькое, ты думаешь вдруг, что он, конечно, крепенький, но ведь поменьше молодого бычка ростом, поменьше, может быть, даже какой-нибудь особо крупной собаки, — и тут он рычит. Он есть в Ветхом Завете, он есть на гербе Иерусалима, и вот ты стоишь и смотришь, как поднимается он с добычи, и многое понимаешь про этот зоопарк, и про эту землю, и еще про некоторые вещи. И за спиной у тебя человек и бибикалкой не бибикает, а тоже стоит и смотрит на него — желтого, спокойного, тяжелоглазого. Ты доезжаешь на бибикалке до выхода из зоопарка, по дороге спрашивая у водителя про картонного чувака — Шмулик все-таки или Ицик. Водитель говорит, что, кажется, Йоник. Семь тридцать вечера, синее давно стало серым, серое скоро станет переливчатым и гладким, как оникс, как перья черного какаду, но асфальт еще теплый. Камера телефона не берет этот цвет, но все-таки что-то получается: пепельное, с шестью параллельными штрихами электрических проводов, и уже у самой стойки регистрации пассажиров какой-то приветливый Ицик или Йоник из наземной службы снимает у тебя со спины чье-то ярко-синее перо, дико выглядящее в глобалистских декорациях аэропорта.
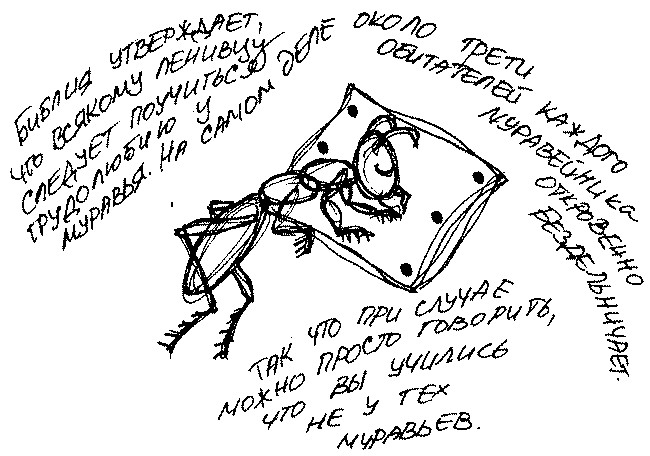 Библия утверждает, что всякому ленивцу следует поучиться трудолюбию у муравья. На самом деле около трети обитателей каждого муравейника откровенно бездельничает. Так что при случае можно просто говорить, что вы учились не у тех муравьев.
Библия утверждает, что всякому ленивцу следует поучиться трудолюбию у муравья. На самом деле около трети обитателей каждого муравейника откровенно бездельничает. Так что при случае можно просто говорить, что вы учились не у тех муравьев.
Если вы решили рассказать кому-нибудь про Библейский зоопарк — делайте это осторожно. Библейский зоопарк — сложная, эмоциональная тема. Даже если вы с самого начала планировали рассказывать про всякое хорошее — можно легко сказать что-нибудь не то, не так, не тем способом; не про то хорошее, наконец. Вот вы с такой нежностью об этом самом зоопарке, с умилением даже, — а там же ужасная проблема с фондами, там сложности с исследованиями, там не хватает всяких важных животных, там нужно обновлять инфраструктуру. Или: вот вы с таким сарказмом, с глумлением даже, — а это, учтите, один из самых нестандартных зоопарков в мире, в него вложено столько души человеческой, вы вообще понимаете, что такое создать полноценный зоопарк всего за шестьдесят лет? У нас тут исследования мирового значения, у нас тут попугаи по сто четыре года живут. Или: вот вы, предположим, хвалите этих экзотических импортных попугаев — а что их хвалить? Конечно, попугаями всем в морду тычут, у самого входа поместили; а исконно израильские животные, между прочим, не привлекают никакого внимания, между тем как их, именно их надо выдвигать на первый план: скального зайца дамана, например; не уделяется достаточно внимания даману, происходит жалкое подражание американским зоопаркам в ущерб нашим аутентичным животным, а даман, кстати, младший родственник слона и упоминается в Ветхом Завете, на секундочку. Или: вот вы сюсюкаете над этим исконным даманом, а что над ним сюсюкать? В Израиле его, дамана, стада; банальное, невоспитанное животное. То ли дело — привлечь к сотрудничеству рысь, слона привлечь, гюрзу калифорнийскую тоже; адекватно интегрировать этого вашего дамана ветхозаветного в прогрессивное западное общество. И так далее, и неизбежно. Так что очень осторожно говорите про Библейский зоопарк, а еще лучше — не говорите; оставьте себе; кто еще может похвастаться, что у него есть внутренний зоопарк, в конце концов. Тем более что это только вас касается, по большому счету, — вот эти ваши отношения с зоопарком, вот эти сложные щи; это вас лемуры трогали — do not kiss and tell. Только лично вас касается все это — вот это белое, голубое, синее, серое, черное, серое, синее, голубое, белое опять.
Напоследок: «спасибо» и еще несколько слов
Мне очень хочется поблагодарить тех, кто помогал мне писать «Библейский зоопарк». Это Давид Розенсон, которому посвящена эта книжка; это мои родители, которые читали каждый отрывок первыми (и хвалили его, кажется, еще до того, как читали); это мои израильские друзья (в первую очередь — Хаюты, Корманы, Швабы и Заяц) и мои московские друзья (в первую очередь — Гаврилов, Каширская, Злата и Идлис): все они подбадривали меня, делились своими идеями и терпели мое нытье. И, конечно, это терпеливые редакторы «Букника», не только сражавшиеся с моими ошибками, но и терпеливо правившие текст по десять раз уже после его публикации, потому что им попался нервный автор, постоянно стремящийся сделать как лучше. Большое спасибо всем этим людям.Сделать полезное:
Если вам захочется сделать людям что-нибудь хорошее, можно справиться с этой задачей, не тратя особых сил, денег или времени:Можно купить книжку за двадцать шекелей (это меньше шести долларов), взяв ее со специальной полки в какой-нибудь модной кафешке, — скажем, в заведениях на тель-авивской улице Шенкин или на иерусалимской Эмек-Рефаим. Эти книжки (на английском, иврите, русском, французском и т. д.) — часть придуманного в Израиле буккроссингового проекта помощи инвалидам «Давняя история» (Same Old Story).
Можно сдать кровь в передвижных пунктах сдачи крови: они часто появляются в центрах больших городов, а главное — на центральных автобусных станциях. Собираясь ехать из города в город, достаточно просто прийти на станцию за двадцать-двадцать пять минут до автобуса. Взамен получите сок и печеньку.
Можно ссыпать мелочь, болтающуюся в карманах, в некрасивые прозрачные коробочки для мелочи, стоящие на кассах почти любого крупного супермаркета. Эта мелочь складывается в довольно серьезные суммы, идущие на помощь детям-инвалидам.
Можно стать друзьями понравившегося вам музея. О том, как это делается, вам расскажет любой представитель музейного персонала.
Можно просто купить продуктов для бедных семей в том самом супермаркете, где вы покупаете продукты для себя, и отдать их присутствующим здесь мальчикам и девочкам из добровольной благотворительной организации «Латет». Обычно эти ребята подходят к вам сами, особенно перед праздниками; сумму пожертвования определяете вы сами.
Обратить внимание:
На израильский street art — с ним все обстоит очень хорошо, особенно в центрах больших городов. Музей современного искусства некоторое время назад даже делал выставку по этому поводу и издал книгу по результатам; книга (в том числе — на английском) продается в магазине при музее.На людей в полном ортодоксальном облачении, по пятницам трубящих в шофар — такой специальный рог, — прямо посреди улиц или в вагонах поездов: они возвещают приближение субботы.
На неплохо оборудованные фитнес-площадки с уличными тренажерами прямо посреди города, на зеленых полянках или в парках: по вечерам в таких местах можно потренироваться после пробежки.
На убранство передней панели в междугородних автобусах: некоторые водители превращают свое рабочее место в какой-то удивительный found-art.
На микросады (а иногда и микроогороды) в городских дворах: многие израильтяне довольно серьезно относятся к своему садовому хобби, и в таких дворах можно увидеть что угодно — от гигантских тыкв до редких орхидей.
На разнообразие вышитых, связанных, сотканных и другими способами произведенных кип: они не только покоятся на головах прохожих, но и висят гроздьями в окнах некоторых магазинчиков. Попадаются настоящие произведения искусства (иногда — в жанре camp): скажем, с репродукциями Пикассо, символикой футбольных команд или орнаментами из логотипа Facebook.
Съесть:
Понятно, что в Израиле с едой все хорошо (в частности, любую уличную еду можно есть без опаски — тут очень высокие стандарты санитарного контроля). Из неочевидных вещей следует попробовать вот что:Frozen yogurt в модных «йогуртницах» — маленьких заведениях, рассыпанных по городу. Хозяева йогуртниц соревнуются друг с другом в разнообразии вкусов и уровне полезности своего продукта: можно, скажем, получить порцию без сахара, с экзотическими фруктами, с изюмом и ромом — и пр. Готовится все это у вас на глазах.
Фуль — горячее бобовое блюдо, готовящееся на месте и подающееся в самых простых городских забегаловках. В Израиле сейчас мода на «простую еду», поэтому хозяином такой забегаловки может оказаться известный шеф-повар, — но это совершенно неважно.
«Здоровую» питу — волна моды на «простую еду» породила забегаловки, в которых традиционные блюда готовятся так, чтобы удовлетворять следящую за своим здоровьем прогрессивную публику. Можно найти место, где вам приготовят безглютеновую питу с полезным салатом, низкожирным козьим сыром, органическим фалафелем — и так далее.
Консервированную «гефилте фиш»: в литровых и полулитровых банках, почти в любом супермаркете. Мягкие, немного острые, но очень вкусные рыбные котлетки.
Пробники на рынке Бен-Йегуда в Иерусалиме — кусочки лакомств, которыми хозяева лавок, ресторанов и прочих рыночных заведений рекламируют свой товар. За полчаса можно наесться вполне основательно, особенно если приходить в пятницу утром.
Проделать:
Отправиться на скутерную экскурсию по Иерусалиму. Скутер вам выдают, кататься на нем учат прямо на месте. Экскурсия длится около двух часов, окружающие умирают от зависти.Проделать test-dive в Тель-Авиве, Эйлате или другом приморском городе. Там существуют школы дайвинга, организующие одноразовые погружения для тех, кто вообще не умеет ничего подобного делать. Никакой особой подготовки не требуют.
Потрогать лемура. В Иерусалимском зоопарке, в Зоне лемуров, лемуры ходят и скачут прямо по посетителям, — так что, по большому счету, здесь должно быть написано «дать лемуру потрогать вас».
Проехаться на хайфском фуникулере, предварительно запасшись, скажем, полбутылкой холодного белого. Один из самых приятных способов на земле для употребления предвечерних напитков.
Выпить израильского пива в районном пабе. Оставляя в стороне вопрос о достоинствах израильского пива, следует сказать, что израильский районный паб в некотором удалении от центра любого города — обычно вполне очаровательное место. Держит его человек, работающий в остальное время, скажем, оформителем витрин или банковским клерком. К открытию собственного бара этот человек приезжает на велосипеде (с некоторым опозданием, потому что его задержали на работе); зато он привозит из супермаркета свежие булочки. Словом, специальная такая история.
Посмотреть:
На лам в Мицпе-Рамоне. Вообще Мицпе-Рамон — известная туристическая точка, отсюда открывается прекрасный вид на пустыню. Но главное — спросить, где здесь ламы. Лам тут позволяют кормить и гладить. Ламы глупые, ленивые и прекрасные.Сокровища Музея налогов, о существовании которого не знают даже сами израильтяне.
Городскую толпу в «белом городе» (Тель-Авива или в районе Мамиллы в Иерусалиме). Выберите любое открытое кафе и потратьте час-полтора на наблюдение за жизнью вокруг, желательно — вечером буднего дня или утром пятницы.
Вид окрестностей Иерусалима, открывающийся тем, кто подъезжает к городу, — неважно, машиной, поездом или автобусом. Просто оторвитесь от книжки или разговора и начните смотреть в окно.
Оконные витражи, созданные Марком Шагалом для синагоги, расположенной на территории больницы Хадасса. Не пугайтесь слова «больница»: израильские больницы нестрашные, а вид шагаловских витражей в солнечный день искупает любые сомнения, связанные с их дислокацией.
Немножко стыдно, но очень приятно:
Покупать всякую ненужную мелочевку сомнительного качества на центральных автобусных станциях больших городов, особенно — Иерусалима и Тель-Авива. Все израильтяне это делают, но делают вид, что не делают. Розовые тапочки, почти золотые серьги, неизвестные науке плюшевые животные и ровно такие бигуди, какие вы уже двадцать лет не можете нигде найти.Имитировать восточный акцент. Немножко стыдно, но очень приятно.
Закупаться сувенирами на пятничных и вторничных художественных рынках (например, рынок Бецалель в Иерусалиме или рынок на улице Нахлат-Биньямин в Тель-Авиве). Бывают, кстати, по-настоящему талантливые штуки.
Разговаривать с каждым встречным о судьбах нации, — благо ни один встречный не может от этого удержаться.
Делать вид, что вредная еда — не вредная.
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад