Дом на Монетной [Вера Александровна Морозова] (fb2) читать онлайн
- Дом на Монетной 1.54 Мб, 220с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Вера Александровна Морозова
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Вера Морозова Дом на Монетной
Повесть
Рисунки Н. Ушакова
Об авторе этой книги
За последние годы издано несколько повестей, написанных Верой Морозовой. В них рассказывается о революционном прошлом нашей Родины, о видных деятельницах большевистской партии, которые прошли большой и трудный путь профессиональных революционеров. Это — Розалия Землячка («Рассказы о Землячке»), Клавдия Кирсанова («Клавдичка»), Конкордия Самойлова («Конкордия») и Мария Голубева (Яснева). Повесть о ней «Дом на Монетной» вы держите в своих руках. Рассказывая об этой книге, мы вспоминаем и другие произведения В. Морозовой потому, что они представляют собой как бы единое целое. Они дополняют друг друга, воссоздают картину времени, раскрывают душевный мир тех, кто готовил революцию. Автор с любовью рассказывает о той далекой героической поре, где каждый день их жизни был подвигом. Годы конспирации, необходимость все время быть начеку, скрываться от слежки и шпиков — все это требовало огромного напряжения сил, собранности и в случае надобности — жертвенности. С достоинством высказывая великую силу духа, эти люди встречали судебные приговоры, шагали по этапу под кандальный звон, томились в каторжных тюрьмах, карцерах и одиночках. Они умели переносить тяжкую боль прощания с теми, кто шел на смерть. А за тюремным порогом их снова ждала борьба. Только великая убежденность, желание принести благо своему народу поддерживали их в годы тяжких испытаний. Они выполняли любые поручения партии, вели пропаганду в марксистских кружках, распространяли с риском для жизни нелегальные издания, помогали создавать подпольные типографии, налаживали связи «воли» с теми, кто сидел в тюрьмах. Привлекательной рисует автор свою героиню Марию Петровну Голубеву в повести «Дом на Монетной». Мария Голубева в 1891 году познакомилась в Самаре с семьей Ульяновых. Совсем еще молодой Владимир Ильич поразил ее ясностью мысли, зрелостью суждений, духовной силой и целостностью своей натуры. В 1904 году Мария Голубева по заданию партии устраивает в Петербурге, на Монетной улице, конспиративную квартиру. Затем эта квартира становится штаб-квартирой В. И. Ленина. Книги Веры Александровны Морозовой обращены к юношеству. И многие, закончив чтение, берутся за перо, чтобы поделиться с писательницей своими впечатлениями, шлют теплые письма. Иногда читатели спрашивают автора: не была ли она свидетелем и участником событий, о которых пишет, не приходилось ли ей встречаться со своими героями, — так убедительно и достоверно то, о чем они пишет. Участницей тех событий В. Морозова не была. Она родилась после революции. Но некоторых из тех, о ком она написала, запомнила с детства. Часто в квартире ее отца, Александра Петровича Савельева, который участвовал в трех революциях, собирались друзья. Они вспоминали свою юность, бои на Пресне. Впечатления детства, большой опыт редактора пробудили потребность взяться за перо. Но потребовались многие годы кропотливых исканий, поездки по местам, где действовали герои ее повестей, где отбывали ссылку, сидели в тюрьмах; приходилось разыскивать и разговаривать с теми, кто знал их по совместной борьбе, потребовалось тщательное изучение архивов и документов. Так рождалась достоверность рассказа, находились новые, часто неизвестные детали и подробности. Страницы прошлого, судьбы профессиональных революционеров, их образованность, духовные богатства, нравственная красота — всегда будут привлекать потомков, тех, для кого они боролись, часто не щадя своих жизней, и те, кто пришел после них, будут свято, с любовью хранить их имена. А. КОЖИНЧасть первая
Архиерейский садик
Прикрыв калитку резной монастырской ограды, в Архиерейский садик вошла девушка в летнем сером костюме. Невысокая. Худощавая. Приподняв вуаль на соломенную шляпку, неторопливо огляделась по сторонам. Сквозь зелень лип, плотным кольцом окружавших башню Ипатьевского монастыря, проглядывала серебристая лента Костромы. В синеющих далях белели колокольни костромских церквей, горели кресты соборов. Узкие тропинки Архиерейского садика, посыпанные зернистым песком, в лучах заходящего солнца казались красными. Девушка все дальше и дальше уходила от угрюмой остроконечной башни со стрельчатыми бойницами и железным флажком, вращавшимся под напором ветра. С криком проносились чайки, залетевшие с реки. У небольшого прудика, скрытого кустарником, она остановилась. Заметив одинокую скамью, села, впитывая сладковатый аромат цветущих деревьев. Облетал белый цвет с яблонь, падал пушистыми снежными хлопьями в зелень травы. Девушка перевела взгляд на пруд, на зеркальной глади которого дрожали и множились цветущие яблони. От часовенки с шатром, поросшим серым мхом, отделился человек. Красная рубаха с косым воротником опоясана шитой тесьмой. На ногах липовые лапти. Новые. Скрипучие. Поверх рубахи синий жилет, из кармашка змеей тянется тяжелая медная цепь к часам. Широкой ладонью он зажал бархатную шапку, отороченную мехом. Суконный пиджак волочил по траве. «Видно, из белопашцев», — подумала девушка, неприязненно поглядывая на мужика. Мужик прижимал к груди кулек малинового бархата с золотыми звездами. Пьяный. Счастливый. Осоловело взглянул на девушку. Размашисто крестился. Охал. В глубине часовенки в трепетном пламени зажженной свечи вспыхивал перламутровый оклад иконы. Кротко смотрела на мир божья матерь с дугообразными бровями и горестно сжатым ртом. «Конечно, из белопашцев, — утвердилась окончательно девушка, — пришел поклониться Федоровской иконе… Что мужик?! Александр III и то приехал к своей заступнице…» Крестьянин привычно одернул красную рубаху, сделал несколько неуверенных шагов. Грузно опустился на скамью. Тряхнул кульком со звездами и, роняя дешевое монпансье, дыхнул пьяным перегаром: — За терпенье и кровь предка моего Ивана Сусанина… Ивана Сусанина… Су-са-ни-на… Девушка пересела на край скамьи. Встреча с пьяным ничего хорошего не предвещала. Белопашцев, потомков Ивана Сусанина, она, как и большинство местных жителей, недолюбливала. Царь их прикармливал, жаловал грамотами, одаривал милостями. Особенно в эти дни, наступившие после убийства его отца Александра II. Сегодня она была свидетельницей целого спектакля, разыгравшегося на улицах города. Сам император Александр III пожаловал в Кострому, в «колыбель дома Романовых». Встречали его дворяне, съехались со всей губернии толпы народа. Особняком стояли белопашцы в красных рубахах и малиновых шапках. Впереди женщины в ярких шалях и шелковых платьях, увешанных стеклянными бусами. На серебряном блюде пышный каравай — хлеб-соль. Ударили пушки, и государь вышел на площадь. Высокого роста, грузный, любезно раскланивался по сторонам, приложив руку к военной фуражке. Понеслось многоголосое «ура». Сияя лентами и орденами, блеском эполет и шашек, церемонно плыла свита. Государь поравнялся с белопашцами, потомками Ивана Сусанина. Жены их, дородные, пышногрудые, заученно снимали с плеч шали и расстилали под ноги его величества. Гремела музыка военных оркестров, темнели балконы, облепленные восторженными дамами. Пестрым шелковым ковром ложились шали, сверкали лакированные сапоги государя. Оглушительно гремел барабан. Старик белопашец с бравой солдатской выправкой преподнес императору хлеб-соль. Восторженно кричала толпа, испуганно взметнулись голуби с собора. Государь троекратно расцеловался с белопашцем. Адъютант услужливо подхватил серебряное блюдо, потом это блюдо с изображением Сусанина выставили у алтаря. Процессия направилась к памятнику Ивану Сусанину. Сусанинская площадь, обычно пыльная и грязная, была неузнаваема. Флаги. Цветы. Конные жандармы в медных касках. Громыхали медные трубы Перновского полка. По случаю приезда государя императора все здания площади — пожарная каланча, гауптвахта, колоннада окружного суда — украшены китайскими фонариками, ярко иллюминированы. Гирлянды бумажных цветов. В голубой выси парил царский вензель — новинка пиротехники! Массивная колоннада памятника Ивану Сусанину увенчана бюстом царя Михаила. На бронзовой голове шапка Мономаха. У подножия колоннады скорбный коленопреклоненный Сусанин, казавшийся крошечным и ненастоящим. На пьедестале барельефы об убиении Сусанина поляками. Барельефы выполнены столь же небрежно, что и фигура Сусанина. Памятник давила чугунная решетка с двуглавыми орлами. Словно ожившие лубочные картинки, вокруг памятника разместились белопашцы в своих диковинных нарядах. Красные рубахи. Синие жилеты. Завидев императора, белопашцы повалились на колени. Александр небрежно кивнул крупной красивой головой, вяло поднял руку, затянутую в лайковую перчатку, быстро проследовал в залы Благородного собрания. Отцы губернии по случаю приезда государя императора давали белопашцам торжественный обед. В екатерининском зале с двумя рядами коринфских колонн огромный портрет государя. Кружевная мраморная ротонда, составленная из гербов уездных городов, залита солнцем. Вдоль стен, затянутых старинными обоями с акварельными рисунками, длинные столы, заваленные яствами. Высокими пирамидами уложены бархатные шапки, опушенные мехом, с серебряными позументами, заказанные белопашцам от дворянства. На голландских скатертях, жестких от крахмала, деревянная посуда — чашки, тарелки, кружки. Пурпурные. Резные. Деревянные черенки вилок и ножей вызолочены. Посуду раздавали белопашцам на память, присовокупив малинового бархата кульки с золотыми звездами… И вот теперь пьяные белопашцы разгуливали по тихим улочкам города… — Мария Петровна, голубушка, еле разыскал вас, — про говорил сипловатым голосом мужчина, опускаясь на скамью. Весело поблескивали стекла очков, мужчина с любопытством оглядел белопашца. Хитро подмигнул девушке и, проводя рукой по холеной, с проседью бородке, сказал: — Ну, как отобедали с государем императором? Так-с… А вот слышал я в трактире «Рим», что стоит в городе Торжке, скоро в России вместо царя будет президент на манер Франции, а в президенты-то прочат Дондукова-Корсакова… Так что отобедал-то ты, брат, зря… Видишь, как все получается… — Да ну! Дела… — Белопашец поскреб бороду, икнул и отрицательно покачал головой. — За такие слова мелют людей на мельнице, и еще черт ту мельницу не изломал. А республика — это бунт?! — Белопашец торопливо перекрестился, неодобрительно косясь на незнакомца. — Ты еще не сказал, что «мы люди маленькие и знать, а вернее, рассуждать о таких делах нам не положено», — с легкой издевкой перебил его мужчина, вытирая высокий лоб надушенным платком. Белопашец напялил шапку малинового бархата и, что-то бурча, зашагал к калитке, оставляя следы липовых лаптей на красноватом песке. — Комедианты… «Пока ветер не дует, действительно все держится благополучно, но кто может отвечать за штиль?!» — Заметив вопросительный взгляд девушки, пояснил: — Герцен… Так вы здесь давно, Мария Петровна? — Мужчина положил красивые руки на тяжелый набалдашник палки. — Давно, Петр Григорьевич… Люблю этот уголок: я родом из Ветлуги. Девчонкой прибегала посмотреть русалок, мне все казалось, что они обязательно должны жить в этом пруду. Нянюшка моя — великая охотница была до сказок. Прибежишь, бывало, к пруду, вокруг плакучие ивы. Думается, сидят в зеленых ветвях русалки и расчесывают длинные волосы. Замрешь, еле жива от ожидания и страха. А однажды набралась храбрости, дернула иву за косы… О ужас! Вместо русалочьих волос — зеленая ветвь… — Девушка повернула к Петру Григорьевичу лицо с темными бровями и выразительными серыми глазами. — А что это вы говорили о Торжке? — О Торжке? Так, припомнилось: последний раз этапом со мной шел мужик из Торжка, он в трактире «Рим» все ратовал за республику в России во главе с президентом Дондуковым-Корсаковым. — Почему же в президенты он избрал Дондукова-Корсакова?! — Очень просто. В журнале «Нива» он увидел большой портрет Дондукова-Корсакова из Академии художеств. Мужчина видный, представительный, лент и звезд много… Мужику он понравился. «Вот и пущай будет президентом, — решил он, — а то под царем живется не ахти как». — А с мужиком что же? — Да что обычно приключается в России: мужика «изобличили в распространении со злым умыслом ложных слухов, могущих тревожить спокойствие… каковое преступление предусматривается статьей 37 Уложения о наказаниях»… К тому же мужик и с тюремным начальством заспорил, вот и укатали на каторгу в Сибирь… Петр Григорьевич Заичневский, большой, представительный, внушал уважение. На вид ему было немногим более сорока лет. Продолговатое лицо, прямой нос, светло-голубые глаза. В Костроме Заичневский сравнительно недавно. Появился после ссылки в Олонецкой губернии. Конечно, под гласным надзором. Фигура заметная: позади аресты, тюрьмы, ссылки, следы кандальных браслетов на холеных руках. Суждения смелые, резкие. Яснева познакомилась с Заичневским на учительском съезде. Кумир молодежи. — Я слышал, что вы учительствуете в глуши. Мария сняла соломенную шляпу, заколола косу роговыми шпильками. Видимо, Заичневский интересуется ею неспроста: прознал об ее народнических увлечениях. — Да, в Ветлужском уезде. Скоро уже четыре года. Я выпускница семинарии, и нас, будущих народных учительниц, водили на собрания ссыльных. — И, помолчав, добавила: — «Запрещенных людей», как говорила моя мать. — Ваша матушка жива? — поинтересовался Заичневский. — Жива. Она экономка у родственников. Отец умер рано и ничего, кроме дворянского звания, которым очень гордится моя матушка, не оставил. Мне было три года. Пенсию матушка получала сами понимаете какую — никак не прожить. Вот и пошла на поклон к богатым родственникам. От детства осталась лишь ненависть к кошкам, их почему-то любили во всех домах, где приходилось жить, да к рукоделию, за которое меня вечно засаживали родственники. Матушка внушала веру в бога, а нянюшка — в русалок. Солнце опустилось в покрасневшие воды реки. В воздухе разлился тот розовый отсвет, который всегда появляется при закате в ясную погоду. В розовом мареве закружили птицы. С шумом захлопали крыльями, рассаживаясь по гнездам. Мария Яснева придвинулась к Заичневскому:
— Люблю природу и книги. Читала их ночами, прятала под пяльцами, под подушку. Читала все — сказки, жития святых, а потом уж Писарева, Тургенева…
— Вы знаете, в тюрьмах свое представление о литературе. В Иркутской пересылке пропускали Жуковского и Пушкина, а Тургенева и Толстого — ни за что. Начальник тюрьмы лениво тянул: «Тургенев, Толстой — слишком занимательное чтение, а в тюрьму сажают не для развлечения».
Девушка засмеялась. Заичневский вторил ей басом, постукивая тростью.
— Я перебил вас, извините.
— В семнадцать после семинарии поехала учительствовать. Летом «садилась на землю».
— «Садились на землю»?! Молодчина!
— Читала книги по агрономии и хотела растолковать крестьянам лучшие способы обработки земли… Зимой, когда удавалось получить книги из Петербурга, бродила по уезду «книгоношей». Много горя на Руси, темен еще народ… А революция…
— Нет, не правы. Разве вы не слышите глухой ропот народа, угнетенного, ограбленного?.. Грабят все, у кого есть власть, — грабят чиновники, помещики, царь. Народ к революции готов: его распропагандировала сама жизнь. Нужен лишь повод для восстания, для захвата власти. Тут я целиком разделяю точку зрения французских якобинцев.
— Слышала о вашей «Молодой России», хотелось бы ее почитать.
— Конечно, с удовольствием… Я захватил прокламацию. Рад, что мы встретились. Надеюсь, что нам идти вместе. — Заичневский встал, подал руку девушке. — «Но силен будет голос того, у кого в сердце глубоко и громко звучат те ноты, которые непреодолимо волнуют его окружающие массы, составляя их религию, их поэзию, их идеал, их радость и печаль, их хорошие слезы и человеческую боль…» Запоминайте Герцена… Да, да… если у вас горячее сердце, нам идти вместе!
Солнце опустилось в покрасневшие воды реки. В воздухе разлился тот розовый отсвет, который всегда появляется при закате в ясную погоду. В розовом мареве закружили птицы. С шумом захлопали крыльями, рассаживаясь по гнездам. Мария Яснева придвинулась к Заичневскому:
— Люблю природу и книги. Читала их ночами, прятала под пяльцами, под подушку. Читала все — сказки, жития святых, а потом уж Писарева, Тургенева…
— Вы знаете, в тюрьмах свое представление о литературе. В Иркутской пересылке пропускали Жуковского и Пушкина, а Тургенева и Толстого — ни за что. Начальник тюрьмы лениво тянул: «Тургенев, Толстой — слишком занимательное чтение, а в тюрьму сажают не для развлечения».
Девушка засмеялась. Заичневский вторил ей басом, постукивая тростью.
— Я перебил вас, извините.
— В семнадцать после семинарии поехала учительствовать. Летом «садилась на землю».
— «Садились на землю»?! Молодчина!
— Читала книги по агрономии и хотела растолковать крестьянам лучшие способы обработки земли… Зимой, когда удавалось получить книги из Петербурга, бродила по уезду «книгоношей». Много горя на Руси, темен еще народ… А революция…
— Нет, не правы. Разве вы не слышите глухой ропот народа, угнетенного, ограбленного?.. Грабят все, у кого есть власть, — грабят чиновники, помещики, царь. Народ к революции готов: его распропагандировала сама жизнь. Нужен лишь повод для восстания, для захвата власти. Тут я целиком разделяю точку зрения французских якобинцев.
— Слышала о вашей «Молодой России», хотелось бы ее почитать.
— Конечно, с удовольствием… Я захватил прокламацию. Рад, что мы встретились. Надеюсь, что нам идти вместе. — Заичневский встал, подал руку девушке. — «Но силен будет голос того, у кого в сердце глубоко и громко звучат те ноты, которые непреодолимо волнуют его окружающие массы, составляя их религию, их поэзию, их идеал, их радость и печаль, их хорошие слезы и человеческую боль…» Запоминайте Герцена… Да, да… если у вас горячее сердце, нам идти вместе!
«Молодая Россия»
От Сусанинской площади веером разбегались улочки с аккуратными дворянскими особнячками. Большинство домов украшены гербом Костромы, пожалованным Екатериной. «На голубом поле галера под императорским штандартом на гребле, плывущая по реке натурального цвета в подошве щита изображенной…» Так преподносили герб в училищах, и Мария Яснева, поглядев на щит, зажатый когтями двуглавого орла, усмехнулась. Последние дни мая стояли засушливыми. Улицы утопали в пыли. На немощеной дороге гримасами застыли разъезженные колеи. Мария торопилась. В городе бывала не часто, и хотелось сделать необходимые покупки. Подумав, решила зайти в торговые ряды гостиного двора. Свернула направо к полосатым будкам гауптвахты. Особнячок с полукруглыми окнами. Постоялый двор. Потемневший от копоти стеклянный фонарь. Гостиный двор каменный, окруженный колоннами. Двери лавок массивные, дубовые. Обиты медными листами, сверкавшими на солнце. От торговых рядов тянуло запахом кожи и кислой капусты. Мария по каменному коридору вошла в пряничный ряд. Кричали зазывалы, их голоса перекатывались под сводами. Ворковали голуби, расставив красные лапки на лепных карнизах. У входа в лавку купца Черномазова восьмиугольная икона Федоровской божьей матери, заступницы города. Чадит тяжелая лампада на серебряной цепи. Сверкает тысячепудовый колокол на лимонной колокольне церкви Спаса в Рядах. Вертлявый приказчик, напомаженный и завитой, услужливо протягивал покупки, перевязанные красной лентой. Мария миновала «железные линии», отбиваясь от назойливых зазывал, пересекла площадь. Взлетели стайкой голуби с часовенки гостиного двора. Сквозь распахнутые двери доносились чьи-то заунывные голоса. Мария раздала мелочь нищим и прибавила шаг. Старенький кружевной зонтик не спасал от полуденного зноя. К груди прижала стопку книг, полученных в библиотеке Благородного собрания. Свернула под арку и оказалась на Павловской улице. В этот приезд в Кострому на учительский съезд она остановилась у подруги по семинарии. Гулко отбили часы на гауптвахте. Мария сверила карманные часики на бархотке и покачала головой. День выдался трудный. Долгий разговор в губернском попечительстве, бесконечные просьбы денег для школы — как и предполагала, все оказалось безрезультатным. Устала, проголодалась, а вечером встреча с Заичневским. Нужно было решить для себя: уезжать ли в село, продолжать нескончаемую борьбу с урядником, старостой, ждать столько раз обещанной новой школы, выгадывать гроши на тетради и буквари… Или уехать и заняться настоящей революционной работой, которая, как ей казалось, велась Заичневским. Но как же ее ребятишки? Неужели бросить их? Кто прав — она ли, творящая то малое, но конкретное, или Заичневский, мечтающий о «широких задачах»? Как рассердился он, когда заговорили о «малых делах»! Стукнул тростью: «Ложь! Не трусьте!» Может быть, действительно нужны энергичные меры, а она, как и многие, трусит? Мария гневно тряхнула головой. Трусит?! Нет! Она видит в этом свой долг… А если ошибается? Все эти трудные годы в деревне, в нужде, без настоящих людей. В Петербург всего лишь один раз удалось вырваться, но тогда у Оловянниковой, с которой ее связывала давняя дружба, говорили и о «малых делах», о жизни среди народа. А теперь, после разгрома народовольцев… Нынче что делать?!
Мария торопливо открыла ключом парадное, но, заслышав за спиной шум, невольно оглянулась. Грузно переставляя ноги в стоптанных сапогах, показался шарманщик. На плече ремень от блестевшей лаком шарманки, руку оттягивала клетка с попугаем. Попугай, старый, растрепанный, как сам шарманщик, тоскливо поводил глазами. — Кто хочет узнать свое счастье?! Счастье за пятак! Подходи… Счастье за пятак! Шарманщик передвинул ремень. Поставил клетку на серую от пыли зелень и выпустил птицу. Попугай встрепенулся, вскочил на плечо, лениво очищая клювом перышки. Тоскливо понеслась песня, простуженно вторил шарманщик, накручивая ручку. Захлопали окна, к ногам шарманщика полетели медяки, завернутые в бумажки. Шарманщик пел, полузакрыв глаза. Тряслась голова у попугая.
Песня туманная, песня далекая,
И бесконечная, и заунывная,—
Доля печальная, жизнь одинокая,
Слез и страдания цепь непрерывная…
Комната, которую ей временно уступила подруга, крохотная. Главное украшение — печь в цветном кафеле. Непривычная. Диковинная. Мария сложила на столик покупки, поставила в угол зонтик. Прошлась по комнате. Опустила руку за печь и извлекла тонкие листы, отпечатанные на гектографе. В летние месяцы печь становилась хранилищем нелегальщины. Прокламация…
Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открытые двери. Есть что сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой… Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей и народов? — От кого? — Как — от кого? Да от нас с вами, например. Как же после этого сложить нам руки?
Мария прочитала эпиграф к прокламации, Заичневский взял его у Гоберта Оуэна, английского философа. Быстро приподнялась, взглянула на дверь. Открыта! Как она неосторожна! Опустила крюк. Ветерок развевал легкие кружевные занавески на окнах. Мария поплотнее задвинула их и села в старинное кресло, углубившись в чтение:
Россия вступает в революционный период своего существования… …Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая, неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. Мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление; мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!.. …Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество, разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые стоят враждебно одна другой.
Конечно, что общего между народом и «императорской партией», как ее называет Заичневский. Между русским мужиком, ограбленным, забитым, и кучкой проходимцев, которым принадлежат все блага! Мария сжала виски руками, читала, сдерживая волнение:
Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа, угнетенного и ограбленного всеми, у кого в руках есть хоть доля власти… …Сверху стоит небольшая кучка людей довольных, счастливых. Это — помещики, предки которых или они сами были награждены имениями за прежнюю холопскую службу, это — потомки бывших любовников императриц, щедро награжденные при отставке, это — купцы, нажившие себе капиталы грабежом и обманом, это — чиновники, накравшие себе состояние— одним словом, все, все имущие, все, у кого есть собственность, родовая или благоприобретенная. Во главе ее царь. Ни он без нее, ни она без него существовать не могут…
Прав, прав Заичневский. В современном обществе все ложно — от религии, заставляющей верить в несуществующее, до семьи. Сколько волнений стоило одно ее поступление в учительскую семинарию. А в гимназию?! В частном пансионе госпожи Торсаковой для благородных девиц требовались серебряные ложечки! Потом они оставались в дар госпоже Торсаковой. Об этом пансионе кричали в либеральных кругах. Мария хотела поступить туда, да матушка не смогла набрать денег на эти злосчастные ложки. Тонкие пальцы перебирали листки прокламации. Задумалась. А Романовы?.. Здесь, в Костроме, «в царственной колыбели», любовь к Романовым культивировалась. Из Ипатьевского монастыря приглашали на царство Михаила, здесь благословляли его чудотворной Федоровской иконой… Да, вот это место…
О Романовых — с теми расчет другой! Своей кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых.
Уже давно ушел с улицы шарманщик. Легкой дымкой затянули небосвод облака. Подул ветерок. Затрепетали, выгнулись парусом кружевные занавески на окнах. Мария придвинула лампу с зеленым полосатым абажуром, напоминавшим арбуз. Читала…
Встреча с прошлым
Дом на Русиновой утопал в цвету. Живой изгородью поднималась сирень над деревянной решеткой. В зелени листвы вскипала цветущая пена, подсвеченная розоватыми солнечными лучами. Тяжело качались грозди на ветвях, обтянутых лакированной кожицей. Словно волна, перекатывалась сиреневая пена под ударом ветра. Дом был старым, с покосившимися стенами, с нижним этажом, вросшим в землю. Стеклянное крыльцо пряталось в цветущих кустах жасмина, столь любимых Петром Григорьевичем. Не раз он подумывал сменить этот старый дом в сиреневом саду и не мог. Годы скитаний в далекой Сибири как-то обострили любовь к родным местам. Суровая и величественная тайга не стала милой его сердцу. Полузаросший сиреневый сад напоминал Орловщину. Барский дом… Одичавший сад… Цветущая яблонька под окнами также напоминала детство… Тоненькая, словно девчонка, раскинула она пушистые ветви, облепленные белым цветом. Встреча с Марией Ясневой, ее восторженное отношение к нему, гонимому, радовало. В эту тяжкую пору среди воя и криков маловеров — и вдруг такое. В памяти оживала молодость, друзья… Увы, многих уже нет в живых… Желябов… Перовская… Кибальчич… «На кончике кинжала нельзя утверждать республику», — говорил Плеханов… Пожалуй, он прав! А как быть? Мысли о былом… Вот он, безусый юнец, прощается с отцом, отставным полковником, жившим безвыездно в орловском имении. Лакею Никите приказано сопровождать молодого барина. Никита выносит баулы на высокое крыльцо, ждет, пока подадут лошадей. Отец в расстегнутом мундире тянет трубку, тоскливо глядит на дорожные хлопоты. Сын собирается поступить в университет. Почти всю ночь проговорили они в библиотеке: отец не хотел отпускать сына. За эту ночь отец сгорбился, сразу постарел. Тяжело переступал больными ногами в валенках, хотя на дворе теплый день. Зазвенели бубенцы. Вот она, дорожная тройка. Никита весело укладывал баулы. Полковник крутил висячий ус… Да, если бы не блестящие способности сына, о которых твердила вся гимназия, ни за что бы не согласился. Ямщик постукивал кнутовищем по колесу, лениво переругивался с Никитой.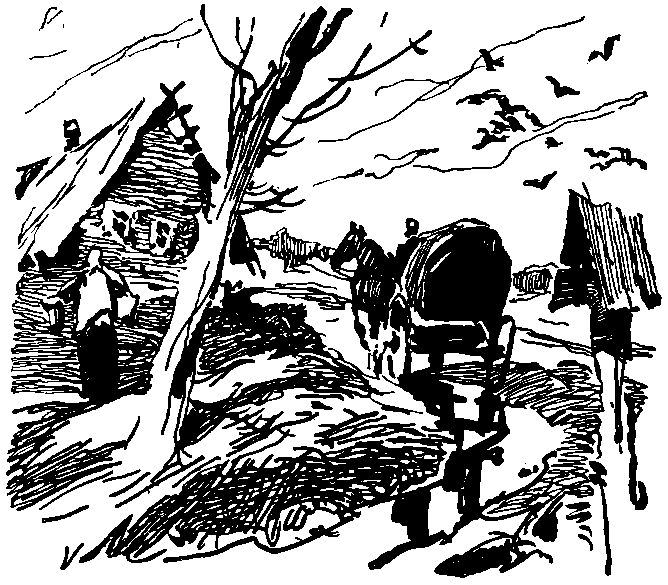 Заичневскому было жаль отца, долго целовал его холеную руку. Полковник перекрестил сына. Отвернулся… Лошади рванули… Сыну не терпелось в Москву, манили новые дали…
Москва ошеломила его. Сутолока Охотного ряда, звон кремлевских церквей, витые купола Василия Блаженного, Лобное место, диковинная конка, а главное — университет…
В университете витал дух Герцена и Огарева. Читали запрещенный «Колокол», нелегальные издания. В революцию Заичневского привел случай. Барон Модест Корф в своей работе посмел очернить память декабристов. Огарев, находившийся в изгнании, едко высмеял барона. Издание пришло из Лондона. Ответ Огарева восхитил Заичневского. Но это был единственный экземпляр. Когда-то о нем узнают!
Сидеть без дела Заичневский не мог. Нашлась уединенная квартира, купили станок. Так появились в университете триста экземпляров книги Огарева «Разбор сочинений Корфа». Разошлись быстро. Как обрадовался Перикл Аргиропуло, которому он подарил первый экземпляр!
Перикл — тонкий, худощавый, с прекрасным задумчивым лицом, глаза всегда печальные… Перикл стал другом. Вместе организовали нелегальное общество студентов. Принялись за тайное книгопечатание, чтобы освободить русскую мысль от цензурных колодок… Удивительные настали дни: студенты отдавали шубы, часы, кольца. На вырученные деньги покупали камни для литографии. То были святые дни волнений. Матери, сестры по ночам делали переводы недозволенных изданий.
«В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки!» — слова Герцена запестрели на литографированных изданиях. О последствиях никто не заботился. Книги распространялись мгновенно. Они всколыхнули молодежь. Студенты создавали воскресные школы для народа. Последовал запрет — правительство не может допустить, чтобы «народонаселение оказалось обязанным образованием частным лицам, а не государству!»… Какая щепетильность!
Заичневскому было жаль отца, долго целовал его холеную руку. Полковник перекрестил сына. Отвернулся… Лошади рванули… Сыну не терпелось в Москву, манили новые дали…
Москва ошеломила его. Сутолока Охотного ряда, звон кремлевских церквей, витые купола Василия Блаженного, Лобное место, диковинная конка, а главное — университет…
В университете витал дух Герцена и Огарева. Читали запрещенный «Колокол», нелегальные издания. В революцию Заичневского привел случай. Барон Модест Корф в своей работе посмел очернить память декабристов. Огарев, находившийся в изгнании, едко высмеял барона. Издание пришло из Лондона. Ответ Огарева восхитил Заичневского. Но это был единственный экземпляр. Когда-то о нем узнают!
Сидеть без дела Заичневский не мог. Нашлась уединенная квартира, купили станок. Так появились в университете триста экземпляров книги Огарева «Разбор сочинений Корфа». Разошлись быстро. Как обрадовался Перикл Аргиропуло, которому он подарил первый экземпляр!
Перикл — тонкий, худощавый, с прекрасным задумчивым лицом, глаза всегда печальные… Перикл стал другом. Вместе организовали нелегальное общество студентов. Принялись за тайное книгопечатание, чтобы освободить русскую мысль от цензурных колодок… Удивительные настали дни: студенты отдавали шубы, часы, кольца. На вырученные деньги покупали камни для литографии. То были святые дни волнений. Матери, сестры по ночам делали переводы недозволенных изданий.
«В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки!» — слова Герцена запестрели на литографированных изданиях. О последствиях никто не заботился. Книги распространялись мгновенно. Они всколыхнули молодежь. Студенты создавали воскресные школы для народа. Последовал запрет — правительство не может допустить, чтобы «народонаселение оказалось обязанным образованием частным лицам, а не государству!»… Какая щепетильность!
И еще припомнился день. Трагический. Март. Яркое солнце. Оттепель. Звонкая капель барабанила по желобам католического костела. Серый. Вытянутая колокольня и золотой крест. Костел запрятался в малоприметном переулке близ Лубянки, с трудом удалось его разыскать. Группками стояли польские студенты. Встревоженные. У большинства на рукавах траурные повязки. Русским царем расстреляна демонстрация в Варшаве. Студенты-поляки собрались на панихиду по убиенным братьям. Заичневский в костел пришел с Аргиропуло. Перикл высоко поднял воротник шубы. На Заичневского студенты-поляки почти не обращали внимания. Соболезнования принимали неохотно, не верили в их искренность. Горе было слишком велико. Отзвучали последние аккорды органа, умолкли печальные слова мессы. Студенты, вытирая заплаканные глаза, медленно покидали костел. Молчать Заичневский не мог. Шуба на лисьем меху нараспашку. Красная рубаха подхвачена толстым ремнем. Голос гремел как набат:
— Объединение русских и польских патриотов — вот что нужно в эти дни, объединение под общим знаменем… Поляки стояли хмурые. Слушали молча, лишь восторженно горели черные глаза Аргиропуло. Горячие слова у большинства вызвали горькую усмешку. Вперед выступил долговязый студент. Гневно взглянул на Заичневского, на русских студентов, пришедших на панихиду. — Нам, полякам, нужно добиться самых элементарных свобод. — Помолчал и прибавил: — Хотя бы ухода солдат из Польши и завоевания национальной независимости… Заичневский сделал широкий шаг, протянул руку: — Мы с вами, братья… Поляк не заметил протянутой руки, резко повернулся, почти сбежал по крутым ступеням, облепленным тонким льдом. Через три года судьба свела их в Сибири. Заичневский отбывал ссылку в Усолье. Частенько выходил на тракт, по которому гнали партии. И на этот раз, как обычно, показалось пыльное облако, над партией каторжан несся глухой перезвон кандалов. Каторжанин, идущий слева в третьем ряду, был знакомым. Худой, небритый, заросший рыжеватой щетиной, он с трудом волочил цепи. По раскосым глазам и долговязой фигуре Заичневский узнал того поляка. Напоил водой из фляги, которую всегда прихватывал с собой. Поляк пил с жадностью, грустно улыбался былой запальчивости. Они обнялись. Сибирь решила их спор. — «Восстание зажглось, горит и распространяется в Польше. Что делают петербургские пожарные команды?.. Зальют ли его кровью — или нет? Да и тушат ли кровь?» — приветствовал его Заичневский словами Герцена. Заичневский сунул конвоиру кредитку. Солдат кивнул, отвернулся. Заичневский увел поляка на солеварный завод, где обосновался, чтобы тот отдохнул от этапа. Кто-то донес, произошел скандал. Заичневского сослали на Север, в Витим, а поляка вернули в партию. Но Заичневский никогда об этом не жалел. Жизнь в Витиме, забытом богом и людьми, была тяжелой. Утомительно тянулись дни. Даже глухие сибирские деревни, в которых приходилось отбывать срок, казались раем.
* * *
И опять память заговорила о былом. В университете закончились последние экзамены. Пока Никита переговаривался с ямщиком, подрядившимся везти их домой, Заичневский пошел побродить по Кремлю. Начинались вакации. Заичневский уезжал в родовое имение Гостиное на Орловщину. В Успенском соборе служили благодарственный молебен «царю-освободителю» Александру II, даровавшему манифест. Общество задыхалось в угарном дыму благоговейного восхищения. Железной дороги не было. Путь дальний. Колесил по Орловщине под однообразный звон колокольчика. Нищие, обездоленные края. Убогие хаты. Полуразвалившиеся придорожные часовенки. Земля, изрезанная межами и крохотными наделами. На Орловщине полыхали крестьянские волнения. Манифест об освобождении мало что дал крестьянам. Однажды остановился у проезжего двора, чтобы дать отдых лошадям. Выйдя из экипажа, Заичневский заметил большую толпу, собравшуюся у дома старосты. Обычно приезд нового человека вызывал интерес, но на этот раз на него никто не обратил внимания. Провожали его лишь полуголодные дворовые псы. Крестьяне стояли понурые. Заичневский замешался в толпу, начал прислушиваться к разговору. Князь Оболенский, владелец местных земель, созвал выборных для составления уставных грамот. Сход не соглашался, управляющий-немец торговался с крестьянами. Разговор с управляющим вел Свиридов, пожилой степенный мужик. Этот нелегкий спор, видимо, сход поручил ему. Немец настаивал, кричал, топал ногами. Мужики с надеждой смотрели на Свиридова, виновато моргавшего белесыми ресницами. Заичневский не выдержал, растолкал мужиков, поднялся на крыльцо. Встал рядом с управляющим. Толпа с недоумением рассматривала незнакомого барина. Сильным сочным голосом Заичневский бросал в толпу: — Мужики, не слушайте этого сытого немца. Он и по-русски-то правильно говорить не умеет, а взялся делить русскую землю… К тому же манифест он толкует неверно: не такую волюшку вам пожаловали, — и, заметив, как заволновалась толпа, повторил: — Нет, не такую… Сход замолк. Толпа придвинулась ближе. Степенный мужик подтолкнул локтем соседа, лицо его расплылось в улыбке. — Я ведь тоже толкую, что воля мужикам вышла после десятой ревизии. Значит, ровно пять годков тому назад… Тогда за землю платить не будем. Землица-то наша! Наша! Пугают мужиков баре — царь приказывал о другой волюшке! — Земля ваша! — подтвердил Заичневский. — Не допускайте обмана. Если помещик не согласится отдать землю добром, берите силой. Да и на царя надеяться нечего… Он с барами заодно! Возьмите землю! — Возьмем! Возьмем, кормилец! — Свиридов выступил вперед, протягивая руки с заскорузлыми мозолями. — Мы не одни, у нас — силушка! Мужики бросились вырывать колья из церковной ограды. Управляющий пугливо озирался по сторонам, дрожащими пальцами застегнул бархатную куртку. — Стойте, мужики! Рано браться за колья! Что за восстание без оружия… Выстрелы солдат разгонят вас… Нужны винтовки, а уж тогда на бар за землю! — Заичневский в восторге замахал фуражкой. — Да здравствует восстание! Мужики подхватили его на руки, качали. Горбун ударил в колокол, и малиновый звон поплыл над селом. Заичневский был счастлив: восстание казалось таким близким… Уезжал он из села под восторженные крики толпы, за экипажем бежали мужики, детишки… Но радостное состояние длилось недолго. Кто же возьмет власть после восстания? Где люди, способные управлять государством? Всю дорогу до имения Заичневский был мрачен. Раздумывал о создании тайной организации, девиз которой позаимствовал от «Молодой Италии» Мадзини… «Ora e sempre» — «Теперь и всегда».«Ora è Sempre»
В Тверской полицейской части Заичневский очутился спустя полгода. Здесь было людно. В те далекие времена шестидесятых годов полицейский сыск, как вспоминал Заичневский, был еще «в первозданном виде». Стражники относились к заключенным — Заичневскому и Аргиропуло — предупредительно, кормили сносно, утеснений не предпринимали. Камера Заичневского оказалась напротив камеры Аргиропуло, двери днем не запирали, виделись они свободно. После ареста друзей Тверская полицейская часть стала местом паломничества. Студенты сидели на тюремной койке, сидели на подоконнике, сидели на каменном полу. Спорили до хрипоты о путях развития России, возможной революции, крестьянских волнениях, захлестнувших уезды. Заичневский одевался в красную рубаху и высокие сапоги. На широких плечах — черная поддевка. Арестовали его в 1861 году за подстрекательство крестьян к бунту в Подольске, припомнив и речь возмутительного содержания в польском костеле. Его друга Аргиропуло взяли вскоре. Заичневский любил его, как брата, но спорил с ним отчаянно. Скромный, молчаливый, с длинными волосами до плеч, Перикл преображался в спорах. Тихий голос крепчал, глаза загорались упрямым блеском. За окном знойный день. Маленькое оконце за решеткой распахнуто, но в камере табачный дым висит плотным облаком. Аргиропуло, которому предусмотрительно уступили место на койке, кашляет. Заичневский, казавшийся в этой каморке необыкновенно грузным и высоким, яростно взглядывал на курильщиков. Взмахом руки отгонял дым от лица друга. Перикл смущенно улыбался, благодарно кивал головой. Папиросы гасли, но ненадолго. Первым затягивался трубкой Заичневский. И опять сгущалось дымное облако.Каховский, Пестель, Муравьев,
Бестужев-Рюмин и Рылеев,
Вы рабства не снесли оков.
Вы смертью умерли злодеев,
Но вас потомство вознесет,
История на вас укажет!
Или нет другого
Антона Петрова,
Чтобы встал он смело
За святое дело!
 — Господа! Прошу побыстрее! Не до шуток, Петр Григорьевич! — Офицер осуждающе смотрел на Заичневского.
Генерал-майор Огарев, прибывший из Петербурга, был грозой Тверской полицейской части. Он подкатывал на резвых рысаках и любил собственноручно производить обыски.
Аргиропуло запихивал друзьям нелегальные издания «Колокола», Заичневский, передавая книги, тетради, быстро приговаривал:
— Следите за рысаками Огарева… Как отъедет, так снова сюда. Записи, записи берегите пуще глаза! — Заичневский засовывал себе за голенище сапог какие-то бумаги.
— Почему ты оставляешь эти записи?! Опасно! Эта собака влезает в каждую щель! — Аргиропуло недовольно покосился на друга.
— Выпустить их из камеры еще опаснее! — загадочно ответил Петр Григорьевич.
В коридоре послышались шаги, звон шпор. Аргиропуло вышел, пожав руку Заичневского.
— Господа! Прошу побыстрее! Не до шуток, Петр Григорьевич! — Офицер осуждающе смотрел на Заичневского.
Генерал-майор Огарев, прибывший из Петербурга, был грозой Тверской полицейской части. Он подкатывал на резвых рысаках и любил собственноручно производить обыски.
Аргиропуло запихивал друзьям нелегальные издания «Колокола», Заичневский, передавая книги, тетради, быстро приговаривал:
— Следите за рысаками Огарева… Как отъедет, так снова сюда. Записи, записи берегите пуще глаза! — Заичневский засовывал себе за голенище сапог какие-то бумаги.
— Почему ты оставляешь эти записи?! Опасно! Эта собака влезает в каждую щель! — Аргиропуло недовольно покосился на друга.
— Выпустить их из камеры еще опаснее! — загадочно ответил Петр Григорьевич.
В коридоре послышались шаги, звон шпор. Аргиропуло вышел, пожав руку Заичневского.
С недавних пор Заичневский пристрастился к пиву. Друзья удивлялись, но бутылки со льда, покрытые нежной испариной, приносили охотно. Уже не первую ночь Заичневский проводил за столом, обложившись книгами. Герцен, листы «Колокола», книги на немецком, французском. Горит свеча,прикрытая плотной бумагой. Скрипит табурет, растет стопка листков. Заичневский положил лицо в ладони, закрыл глаза. Сон как явь. Мужицкий сход в селе под Подольском. Антон Петров с лицом великомученика. Вспышки выстрелов… Кровь на домотканых кафтанах… Мужики, падающие на землю. Гремела «Марсельеза»:
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivél [1]
Aux armes citoyens!
Formez vos bataillons![2]
Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, красное знамя, и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика русская/ — двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться — это последнее вернее, — что вся императорская партия, как один человек, станет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или нет. В этом последнем случае с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «В топоры!» — и тогда… тогда бейте императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами.
Заичневский отложил перо. Перечитал. Голова пылала. Картины народной битвы казались такими отчаянными. Республика, народная власть были столь желанные его сердцу. На рассвете, едва первый луч коснулся тюремной решетки, Заичневский поднялся. Отшвырнул ногой табурет, попросил дежурного надзирателя открыть дверь. Под глазами синие круги. Резко застучал в обитую железную дверь камеры Аргиропуло, едва подавляя раздражение — надзиратель, как всегда, медлил. Аргиропуло лежал, подложив ладонь под щеку. Недоуменно взглянул на вошедшего друга. Пять часов. Заичневский подсел к нему на койку, отбросил одеяло, крепко ухватил за острые плечи. — Проснись, дорогой! Проснись! Надзиратель потянулся, позевывая, перекрестил рот. Он не понимал, почему его разбудили, но не захотел отказать приветливому «скубенту». Заичневский нетерпеливо тряхнул головой, сунул целковый: — Держи, служивый! — Премного благодарен! Заичневский махнул рукой. Надзиратель удалился. Заичневский обхватил друга за шею. Жарко зашептал: — Аз многогрешный уже несколько ночей не сплю. Решил словом поднять народ на революцию… — А я думал для «Колокола» трудишься. — Аргиропуло слабо улыбнулся, потягиваясь. Провел рукой по глазам, отгоняя утренний сон. — Читай! — Знаешь, написал прокламацию. Если бы не я, все равно написали бы другие. Да, да! Сделали бы то же самое! Ты не стесняйся и останавливай, если что не так… Заичневский достал квадратные листки. Время словно остановилось. Солнечный свет рассекал камеру широким призрачным столбом. Сменился часовой. Забрали свечу. Снаружи доносился дробный стук копыт. Заичневский читал, чувствуя, как Аргиропуло все крепче сжимает его руку. Наконец он вздохнул и закончил. Аргиропуло плакал, уткнувшись лицом в подушку. Потом вскочил, восторженно начал его целовать, обдавая горячим дыханием: — Ты гений! Клянусь богом, гений! То, что ты написал, грандиозно! «Будущее принадлежит революции!» Заичневский плакал. Плечи его тряслись, большие руки неумело смахивали слезы. Кончилось нечеловеческое напряжение последних дней. Он выполнил свой долг… Счастье, что Аргиропуло его понял и принял. Но что это? Не заболел ли друг? Почему он такой горячий? Рядом, у уголовников, — тиф! Дрогнуло сердце. Нежность к другу захлестнула его. Положил ладонь на лоб, сипло спросил: — Болен? — О чем ты?! Пройдет. Пустяки! Заичневский заботливо поправил подушку, набитую соломой, укрыл одеялом. Аргиропуло заговорил, медленно растягивая слова: — Печатать в Москве рискованно. Ищейки налетят. Отпечатаем у Коробьина в имении. Перевезем туда станок. Имение в глуши, отец умер, сестренки маленькие, так что он, по сути, один. Человек порядочный. Ты его знаешь? — Конечно! — Прокламацию станем распространять из Петербурга. Вроде первопрестольная будет ни при чем! Так-то лучше! Попросим того же Коробьина отправиться в Петербург с чемоданом. Пускай из Северной Пальмиры эта бомба начнет свое путешествие. — Славно! Славно! — Заичневский восхищенно кивал. Как назовем? А? — «Молодая Россия»! — Смуглое лицо Аргиропуло просветлело. — «Молодая Россия»! …В один из дней 1862 года прокламация «Молодая Россия» начала шествие по стране. Почтовые чиновники обнаруживали ее в письмах, полиция — при арестах. Очень скоро о прокламации узнали за границей. У одних она вызывала гнев, у других — восторг. Равнодушных не оставалось. Заичневский частенько читал Периклу статьи, когда они оставались одни. Авторов называли «людьми экзальтированными», «золотушными школьниками, написавшими прокламацию», «хилыми старцами в подагре и хирагре со старобабьим умом»… Прокламация звучала весомо. Раскаты ее перекрыли набаты петербургских пожаров. Петербург горел не впервые, но нынешние пожары связывали с прокламацией… Черное зловещее пламя нависло над городом. Зной опалил землю, истребил все живое. Пожары, пожары. То в одном, то в другом конце города. Выгорели Апраксин и Щукин дворы, где поблизости жила беднота. Среди обывателей кто-то распустил слух, что пожары — дело рук скубентов! «Скубенты поджигают дома!»— орал на Литейном переодетый околоточный. В церквах служили молебны о спасении города. Начались избиения студентов… Облако дыма… Облако страха… Газеты кричали о вреде образования и о злонамеренности студентов. Но тут на защиту прокламации пришел Герцен. «Да когда же в России что-нибудь не горело?» — гремел «Колокол» в Лондоне. И опять слухи, темные, грозные, перекатывались по Руси.
За распространение сочинений, заключающих в себе богохуление и порицание христианской веры, определяется ссылка в поселение в отдаленнейших местах; за распространение сочинений, имеющих целью возбудить неуважение к верховной власти, к личным качествам государя, к управлению его государством, или оскорбительных для наследника престола, супруги государя императора и прочих членов императорского дома, или имеющих целью возбудить к бунту и явному неповиновению власти верховной, — председатель суда, сухой лысоватый, в шитом золотом мундире, перевел дух и строго взглянул на подсудимого поверх очков, — полагается ссылка на поселение, заключение в смирительный дом по статье 54 Уложения о наказаниях, присовокупив к тому же статьи 2098, 2102 о преступлениях против частных лиц…
Заичневский держался гордо. Он не собирался отказываться от политических убеждений, горячо их отстаивал. Обвинение прокурора выслушал равнодушно. Верил, что революция скоро освободит. После суда обрушилось несчастье. В тюремной больнице скончался Перикл Аргиропуло, романтик и мечтатель. Заичневский не напрасно опасался: тиф. Перикла в наспех сколоченном гробу отправили на Миусское кладбище. Хоронили ночью. Появилась еще одна безымянная могила — холмик с деревянным крестом. Заичневского, осунувшегося от горя, увозили в Сибирь. Тоскливо надрывался колокольчик. Подняв воротник тулупа, стражник облапил винтовку. Одиноко светили тусклые огоньки деревень. Из чернеющего леса доносился протяжный волчий вой. Холодный ветер бил в лицо, колол мелкими острыми снежинками. На ухабах кибитку встряхивало. Руки немели от кандальных браслетов…
Дворянское собрание
Воскресным днем в Дворянском собрании давался традиционный бал в пользу «сирот благородного происхождения». Массивную дверь распахнул швейцар. В нише, увитой гирляндами, огромный портрет Александра II, царя-освободителя, царя-мученика. Как всегда в торжественных случаях, у портрета корзины живых цветов. Мария отдала накидку швейцару в серебряных галунах. Поправила перед зеркалом прическу. На второй этаж вела мраморная лестница с медными перилами. Лестничная решетка в позолоте. На бал пригласили выпускниц земской учительской семинарии. Пригласили и ее. Губернские дамы опекали молодых выпускниц. Директриса семинарии, связанная с народниками, не препятствовала появлению выпускниц на балу, где собирались интеллигенты. Бал устраивал всех — молоденьких выпускниц и губернских дам, изнывавших от провинциальной скуки. В гостиной с зелеными пуфами оживленно разговаривали. У окна, задрапированного плюшем, стоял Заичневский. Большой. Импозантный. Густые волосы, тронутые сединой. На натертом до блеска паркете — медвежья шкура с бессильно распластанными когтистыми лапами. — Когда-то такое случится и с русским самодержавием! — Заичневский притопнул башмаком по шкуре. — Здравствуйте, Мария Петровна! Она протянула руку, приветливо наклонила голову. Осмотрелась. В гостиной было трое. Боже! Мария боялась поверить глазам. Наталья Оловенникова! Когда-то они вместе бродили по уезду «книгоношами». Мария осталась в Костроме, а Наталья врачевала в воронежских селах. Потом уехала к сестрам в Петербург. Поступила на Георгиевские курсы. Но в Кострому наведывалась, привозила нелегальщину, приходила к Марии. И вдруг исчезла. Перестала бывать в обществе, прекратила знакомства. Все было загадочно. Однажды, приехав в Петербург, Мария встретила Наташу на Невском. Та едва кивнула, не пригласила домой. Увидев, как огорчилась подруга, дала адрес, по которому можно было получить литературу… И исчезла. Мария ничего не могла понять, но, посетив конспиративную квартиру, догадалась: Наталья в глубоком подполье. Но и это не оправдывало. И лишь после казни народовольцев узнала: Наталья была в Исполнительном Комитете.
Сегодня Наташа первая бросилась ей навстречу. Обняла. Поцеловала. Она сильно изменилась. Седые пряди в густых волосах. Глаза — печальные. А так все та же красавица. Высокая, стройная, с тонкой талией. Льняная коса уложена вокруг головы. Черные брови оттеняли голубизну широко раскрытых глаз.
Мария поздоровалась с Софьей Павловной Павлихиной, начальницей учительской семинарии. Прерванный разговор возобновился.
— Перовская в этом позорном балахоне с черной доской: «Цареубийца»! Мягкая, милая! — Оловенникова скривила рот. — Я потеряла сознание, когда к ней приблизился палач!
— «Погибшим — слава! Живущим — свобода!» — печально проговорил Заичневский. — За смерть Александра Второго заплачено дорогой ценой: Каракозов, Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов…
— С Каракозовым мне довелось быть знакомой. Худой. Белокурый. С ярким лихорадочным румянцем и задумчивыми глазами. В спорах твердил одно: России необходим решительный акт, иными словами — цареубийство! — Софья Павловна взглянула на Марию Ясневу. — Я тогда была молодой, примерно вашего возраста. А тут на всю Россию прогремел выстрел Каракозова.
— В обществе много говорили о встрече Александра Второго с Каракозовым… На заседании Верховного Суда долго объясняли благородство государя, рукой которого подписан манифест об освобождении крестьян. Каракозов держался твердо: «Относительно себя я могу сказать только, что если бы у меня было сто жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все сто жизней принес в жертву народному благу, клянусь, государь, всем, что есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую». — Наталья Оловенникова грустно кивнула головой. — Очевидно, эти слова решили судьбу Каракозова.
— Каракозову убить Александра Второго помешала случайность. «Россию спас Комиссаров, почетный гражданин Костромы». — Софья Павловна поправила брошь на кружевном жабо. — Трудно передать, что творилось в городе, когда сюда пожаловал этот «великий человек». Осипа Комиссарова, картузника и пьяницу, знали все. Комиссаров — спаситель. Шел мимо, увидел Каракозова с револьвером, ударил его по руке. А Каракозов готовился выстрелить… За этот выстрел заплатил жизнью! — Она повернулась к Заичневскому: — Вы где тогда были?
— В Сибири… В этапе встречал каракозовцев, когда их гнали на каторгу… После казни его на Смоленском поле. Так что же творилось в Костроме?
— Цирк!.. Подлинный цирк! Только накануне Комиссаров дрался в подворотне со своим братом, сторожем интендантского управления. Потерял в драке шапку, разорвал чуйку. А утром картузник стал отечественным героем! Поэты о нем слагали стихи, газеты сравнивали с Сусаниным! Как анекдот передавали разговор в Немецком клубе: «Вы слышали, что в Петербурге стреляли в русского царя?» — «Да, слышал». — «А вы не знаете, кто стрелял?» — «Дворянин». — «А кто спас?» — «Крестьянин». — «Чем же наградили его за это?» — «Сделали дворянином!» — Софья Павловна смеялась. — Так вот новоиспеченный дворянин Комиссаров начал разъезжать по городу в золоченой карете. Губернатор, дворяне считали за честь облобызать избранника. В вакханалии торжественных обедов и ужинов, празднеств и приемов «герой» преобразился. Его умыли, причесали, облекли в сюртук при белом жилете и галстуке. Научили пользоваться вилкой, хотели даже научить держать речи… В Дворянском собрании парадные столы, распорядители стучали ножами о чистые тарелки, лились речи… Стыдили Европу, которая не сумела произвести подобного героя, смеялись над античными богами, подвиги которых меркли рядом с подвигом Комиссарова. А потом лобызали пьяненького «героя», качали. А далее совсем забавно: кто-то вспомнил — греческим героям воздвигали храмы. Купцы разошлись: «Жертвую десять тысяч на собор!» — Софья Павловна досадливо закончила: —Тошно вспоминать…
— Все нужно помнить. Народ памятлив. — Заичневский вытряхнул трубку в пепельницу на камине и резко изменил разговор: — Какие надежды подавали вы, мои милые сестры! — Заичневский обнял Наталью Оловенникову. — Кружок «орлят»… Уже далекие времена. Как здоровье Елизаветы? Так это она наблюдала за выездом Александра Второго в тот роковой день?
— Да, она. Теперь душевнобольная. Ее выпускают на поруки из Петропавловки. Я ведь еду за ней в Петербург.
— Заговорились! Скоро пять, а там и до бала осталось недолго. — Софья Павловна взглянула на карманные часики.
— Что же думаете делать, Наталья? — не утерпел Заичневский.
— Пока ухаживать за больной сестрой, а там… — Наталья неопределенно пожала плечами.
Малую гостиную заполняли воспитанницы учительской семинарии. Входили, робко опустив глаза. Мария смотрела на них с грустью. Вот так же она три года назад готовилась стать сельской учительницей. Сколько разочарований пришлось пережить! Какие похоронить надежды!
Софья Павловна представила девушек Заичневскому, ободряя их легкой улыбкой. Девушки расселись вдоль стен.
— Вы идете в народ, станете свидетельницами его бедствий. Не многие сумеют остаться равнодушными. — Заичневский стоял на медвежьей шкуре. Мы должны стать пропагандистами новых идей революции! Из молодежи выйдут вожаки народа… Будьте готовы к своей славной деятельности! Создавайте кружки. Приглашайте на свои собрания революционеров…
Мария горящими глазами смотрела на Заичневского. Неожиданно ее привлекла Наталья:
— У меня письмо Исполнительного Комитета Александру Третьему. Дать?
— Еще бы! Экземпляров двадцать!
— Нет. Десять… Увидимся в гостинице. Я здесь всего на один день.
…Вечером, когда расходились, Заичневский задержал руку Марии. Спросил строго, неторопливо раскуривая почерневшую трубку:
— Так что решили? Готовы ли вступить в организацию русских якобинцев?! Я не тороплю с решением… Подумайте…
Мария ничего не могла понять, но, посетив конспиративную квартиру, догадалась: Наталья в глубоком подполье. Но и это не оправдывало. И лишь после казни народовольцев узнала: Наталья была в Исполнительном Комитете.
Сегодня Наташа первая бросилась ей навстречу. Обняла. Поцеловала. Она сильно изменилась. Седые пряди в густых волосах. Глаза — печальные. А так все та же красавица. Высокая, стройная, с тонкой талией. Льняная коса уложена вокруг головы. Черные брови оттеняли голубизну широко раскрытых глаз.
Мария поздоровалась с Софьей Павловной Павлихиной, начальницей учительской семинарии. Прерванный разговор возобновился.
— Перовская в этом позорном балахоне с черной доской: «Цареубийца»! Мягкая, милая! — Оловенникова скривила рот. — Я потеряла сознание, когда к ней приблизился палач!
— «Погибшим — слава! Живущим — свобода!» — печально проговорил Заичневский. — За смерть Александра Второго заплачено дорогой ценой: Каракозов, Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов…
— С Каракозовым мне довелось быть знакомой. Худой. Белокурый. С ярким лихорадочным румянцем и задумчивыми глазами. В спорах твердил одно: России необходим решительный акт, иными словами — цареубийство! — Софья Павловна взглянула на Марию Ясневу. — Я тогда была молодой, примерно вашего возраста. А тут на всю Россию прогремел выстрел Каракозова.
— В обществе много говорили о встрече Александра Второго с Каракозовым… На заседании Верховного Суда долго объясняли благородство государя, рукой которого подписан манифест об освобождении крестьян. Каракозов держался твердо: «Относительно себя я могу сказать только, что если бы у меня было сто жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все сто жизней принес в жертву народному благу, клянусь, государь, всем, что есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую». — Наталья Оловенникова грустно кивнула головой. — Очевидно, эти слова решили судьбу Каракозова.
— Каракозову убить Александра Второго помешала случайность. «Россию спас Комиссаров, почетный гражданин Костромы». — Софья Павловна поправила брошь на кружевном жабо. — Трудно передать, что творилось в городе, когда сюда пожаловал этот «великий человек». Осипа Комиссарова, картузника и пьяницу, знали все. Комиссаров — спаситель. Шел мимо, увидел Каракозова с револьвером, ударил его по руке. А Каракозов готовился выстрелить… За этот выстрел заплатил жизнью! — Она повернулась к Заичневскому: — Вы где тогда были?
— В Сибири… В этапе встречал каракозовцев, когда их гнали на каторгу… После казни его на Смоленском поле. Так что же творилось в Костроме?
— Цирк!.. Подлинный цирк! Только накануне Комиссаров дрался в подворотне со своим братом, сторожем интендантского управления. Потерял в драке шапку, разорвал чуйку. А утром картузник стал отечественным героем! Поэты о нем слагали стихи, газеты сравнивали с Сусаниным! Как анекдот передавали разговор в Немецком клубе: «Вы слышали, что в Петербурге стреляли в русского царя?» — «Да, слышал». — «А вы не знаете, кто стрелял?» — «Дворянин». — «А кто спас?» — «Крестьянин». — «Чем же наградили его за это?» — «Сделали дворянином!» — Софья Павловна смеялась. — Так вот новоиспеченный дворянин Комиссаров начал разъезжать по городу в золоченой карете. Губернатор, дворяне считали за честь облобызать избранника. В вакханалии торжественных обедов и ужинов, празднеств и приемов «герой» преобразился. Его умыли, причесали, облекли в сюртук при белом жилете и галстуке. Научили пользоваться вилкой, хотели даже научить держать речи… В Дворянском собрании парадные столы, распорядители стучали ножами о чистые тарелки, лились речи… Стыдили Европу, которая не сумела произвести подобного героя, смеялись над античными богами, подвиги которых меркли рядом с подвигом Комиссарова. А потом лобызали пьяненького «героя», качали. А далее совсем забавно: кто-то вспомнил — греческим героям воздвигали храмы. Купцы разошлись: «Жертвую десять тысяч на собор!» — Софья Павловна досадливо закончила: —Тошно вспоминать…
— Все нужно помнить. Народ памятлив. — Заичневский вытряхнул трубку в пепельницу на камине и резко изменил разговор: — Какие надежды подавали вы, мои милые сестры! — Заичневский обнял Наталью Оловенникову. — Кружок «орлят»… Уже далекие времена. Как здоровье Елизаветы? Так это она наблюдала за выездом Александра Второго в тот роковой день?
— Да, она. Теперь душевнобольная. Ее выпускают на поруки из Петропавловки. Я ведь еду за ней в Петербург.
— Заговорились! Скоро пять, а там и до бала осталось недолго. — Софья Павловна взглянула на карманные часики.
— Что же думаете делать, Наталья? — не утерпел Заичневский.
— Пока ухаживать за больной сестрой, а там… — Наталья неопределенно пожала плечами.
Малую гостиную заполняли воспитанницы учительской семинарии. Входили, робко опустив глаза. Мария смотрела на них с грустью. Вот так же она три года назад готовилась стать сельской учительницей. Сколько разочарований пришлось пережить! Какие похоронить надежды!
Софья Павловна представила девушек Заичневскому, ободряя их легкой улыбкой. Девушки расселись вдоль стен.
— Вы идете в народ, станете свидетельницами его бедствий. Не многие сумеют остаться равнодушными. — Заичневский стоял на медвежьей шкуре. Мы должны стать пропагандистами новых идей революции! Из молодежи выйдут вожаки народа… Будьте готовы к своей славной деятельности! Создавайте кружки. Приглашайте на свои собрания революционеров…
Мария горящими глазами смотрела на Заичневского. Неожиданно ее привлекла Наталья:
— У меня письмо Исполнительного Комитета Александру Третьему. Дать?
— Еще бы! Экземпляров двадцать!
— Нет. Десять… Увидимся в гостинице. Я здесь всего на один день.
…Вечером, когда расходились, Заичневский задержал руку Марии. Спросил строго, неторопливо раскуривая почерневшую трубку:
— Так что решили? Готовы ли вступить в организацию русских якобинцев?! Я не тороплю с решением… Подумайте…
Тяжелый листопад
Бледным шаром проступало солнце. Неяркие лучи застревали в верхушках деревьев. Мария стояла на тропинке в густом бору, здесь бывала не однажды. А сегодня… Сегодня она не узнавала леса. Два дня бушевал ураган. Пришлось сидеть в сторожке лесника, слушать треск сучьев, грохот падающих деревьев. Бешено стучали ветки о крышу сторожки, густо кружил тяжелый лист, устилая дворик зеленым ковром. Завывал ветер в трубе. Крестился лесник. Ураган промчался, и Мария двинулась в путь, хотя лесник отговаривал. Только ждать она не могла. Лес напоминал гигантское поле битвы. Словно великан прошагал по лесу, безжалостно сметая все на своем пути. Больше других пострадали березы. Беспомощно торчали вывороченные корни. На белых стволах с черными разводами зеленел лишайник. Могучая крона вздрагивала от ветра. Листья все еще жили, темно-зеленые, пахучие, украшенные золотистыми сережками. Воздух напоен терпким ароматом; ноги проваливались в толстом слое опавшей хвои, прикрытой белесыми березовыми пятаками.
Мария медленно продвигалась вперед. На полянке, густо устланной черничником, лежала береза. Бессильно разбросала ветви. Сочные. Густые. Сквозь опавшие листья проглядывали ягоды черными слезами. Чуть поодаль, высоко приподняв вывороченные корни, упала ель. Огромная рваная рана зияла пустотой. На вывороченных пластах чудом уцелела бледно-зеленая елочка.
Мария шла, спотыкаясь о корни. Поверженные великаны! Обезображенные стволы. На опушке в смертельном объятии замерли береза и сосна. Тяжелые стволы их рухнули рядышком, ветви надломились, переплелись. Тонкоствольная береза запрокинула ветви-косы…
Мария положила котомку у ног. Опустилась на дубовый пень. Уходить не хотелось. Смотрела… Смотрела…
Ураган не пощадил могучего леса, а трухлявый костер дров, кем-то забытый, не тронул. Очевидно, уложили дрова давно. Кора их покрылась лишайником, ядовитыми грибами.
Девушка распахнула жакет, из потайного кармана вынула тонкие листки. Их дала ей Наташа Оловенникова.
«Письмо Исполнительного Комитета».
В ту последнюю встречу в Костроме они незаметно выбрались из Дворянского собрания. В гостиницу не пошли, долго бродили по вечернему городу. В Архиерейском садике смотрели на бледный рожок месяца, на стоячую воду пруда, затянутого осокой… Наташа была грустной. Друзья погибли… Дело рушилось.
Вспомнили и приезд Марии в Петербург, ту встречу на Невском. И еще вспомнили, как Мария, тогда не знавшая города, попросила Наталью проводить ее на конспиративную типографию. Теперь Мария смеялась над своей наивностью, но тогда обиделась. И опять вспомнила, как глаза Наташи сверкнули гневом.
На конспиративной квартире она нашла молодую чету. Безусловно, фиктивную. Хозяин выслушал пароль, пригласил в гостиную. Невысокий, слабого сложения, хозяин вопросов не задавал. Бледное лицо с прямыми спадающими волосами, голубые глаза.
— «В кассах наборщиков свалена вся мудрость, все, что уже открыто и может быть открыто когда-либо; надо только уметь подобрать буквы!» — произнесла молодая женщина и лукаво добавила: — Не мои слова. Гельмгольца!
Красота ее была поразительной. Строгий овал лица. Коса ниже пояса. Серые смелые глаза. Певучий голос.
— Из уезда… За прокламациями… Что ж! Программу Исполнительного Комитета… Штук двадцать!
— Мало! — взмолилась Мария.
— А что делать при нашей технике?! За час каторжной работы больше пятидесяти листов не отпечатать! — Промываем шрифт, грязи-то сколько! Сорок потов сойдет, пока что-то толковое получится…
— Хорошо бы самоварчик! — просительно сказал хозяин, прервав их разговор. Он стоял в дверях с большим рулоном бумаги. — А то мне нужно уходить.
— Так поставьте, дорогой! Вы ведь разрабатываете новый тип воздушного двигателя… Что для вас самовар!
Молодой человек неуверенно взглянул на шутницу, ссутулился. Сказал, легонько покашливая:
— Самовар — совсем другое дело!
— А я думала…
Молодой человек, сконфузившись, уныло поплелся на кухню. Только разговор продолжить не удалось. Что-то с грохотом упало. Загремели кастрюли. Полилась вода. Молодая женщина с улыбкой заглядывала в открытую дверь:
— Медведь! Медведь в посудной лавке!
Вновь загремела посуда. Она махнула рукой, побежала на кухню. До Марии доносился смех. Молодого человека прогнали с позором. Смущенный, перепачканный углем, с оцарапанными руками появился он в гостиной. Мария смеялась.
— Мне это дело совсем незнакомо, — оправдывался молодой человек, приблизившись к Марии.
Натянув поблекший картуз, старенькое пальто и, прихватив толстый портфель, попытался уйти. Но горничная не позволила, сняла с него пальто, усадила за стол.
— Еще раз похозяйствуете таким образом — нагрянет полиция! Вчера приходил дворник, жаловался, что у нас протекает вода, а кран забыли закрыть вы. — Повернувшись к удивленной Марии, добавила: — Под нами внизу живет генерал. Чуть что, присылает дворника!
Хозяин все же ушел. Торопился в читальню. Он действительно изобретал воздушный двигатель…
Каково же было удивление Марии, когда, просматривая нелегальные газеты в трагические дни марта 1881 года, среди казненных народовольцев узнала молодого человека. Кибальчич! Тот самый Кибальчич, который в ожидании казни заканчивал проект летательного аппарата…
…По вершинам деревьев промчался ветер. Затрепетали, ожили листья. Мария подняла голову. Облака наползали на солнце. Тяжело вздохнула. До боли хрустнула пальцами. Развернула прокламацию, начала читать:
Ураган промчался, и Мария двинулась в путь, хотя лесник отговаривал. Только ждать она не могла. Лес напоминал гигантское поле битвы. Словно великан прошагал по лесу, безжалостно сметая все на своем пути. Больше других пострадали березы. Беспомощно торчали вывороченные корни. На белых стволах с черными разводами зеленел лишайник. Могучая крона вздрагивала от ветра. Листья все еще жили, темно-зеленые, пахучие, украшенные золотистыми сережками. Воздух напоен терпким ароматом; ноги проваливались в толстом слое опавшей хвои, прикрытой белесыми березовыми пятаками.
Мария медленно продвигалась вперед. На полянке, густо устланной черничником, лежала береза. Бессильно разбросала ветви. Сочные. Густые. Сквозь опавшие листья проглядывали ягоды черными слезами. Чуть поодаль, высоко приподняв вывороченные корни, упала ель. Огромная рваная рана зияла пустотой. На вывороченных пластах чудом уцелела бледно-зеленая елочка.
Мария шла, спотыкаясь о корни. Поверженные великаны! Обезображенные стволы. На опушке в смертельном объятии замерли береза и сосна. Тяжелые стволы их рухнули рядышком, ветви надломились, переплелись. Тонкоствольная береза запрокинула ветви-косы…
Мария положила котомку у ног. Опустилась на дубовый пень. Уходить не хотелось. Смотрела… Смотрела…
Ураган не пощадил могучего леса, а трухлявый костер дров, кем-то забытый, не тронул. Очевидно, уложили дрова давно. Кора их покрылась лишайником, ядовитыми грибами.
Девушка распахнула жакет, из потайного кармана вынула тонкие листки. Их дала ей Наташа Оловенникова.
«Письмо Исполнительного Комитета».
В ту последнюю встречу в Костроме они незаметно выбрались из Дворянского собрания. В гостиницу не пошли, долго бродили по вечернему городу. В Архиерейском садике смотрели на бледный рожок месяца, на стоячую воду пруда, затянутого осокой… Наташа была грустной. Друзья погибли… Дело рушилось.
Вспомнили и приезд Марии в Петербург, ту встречу на Невском. И еще вспомнили, как Мария, тогда не знавшая города, попросила Наталью проводить ее на конспиративную типографию. Теперь Мария смеялась над своей наивностью, но тогда обиделась. И опять вспомнила, как глаза Наташи сверкнули гневом.
На конспиративной квартире она нашла молодую чету. Безусловно, фиктивную. Хозяин выслушал пароль, пригласил в гостиную. Невысокий, слабого сложения, хозяин вопросов не задавал. Бледное лицо с прямыми спадающими волосами, голубые глаза.
— «В кассах наборщиков свалена вся мудрость, все, что уже открыто и может быть открыто когда-либо; надо только уметь подобрать буквы!» — произнесла молодая женщина и лукаво добавила: — Не мои слова. Гельмгольца!
Красота ее была поразительной. Строгий овал лица. Коса ниже пояса. Серые смелые глаза. Певучий голос.
— Из уезда… За прокламациями… Что ж! Программу Исполнительного Комитета… Штук двадцать!
— Мало! — взмолилась Мария.
— А что делать при нашей технике?! За час каторжной работы больше пятидесяти листов не отпечатать! — Промываем шрифт, грязи-то сколько! Сорок потов сойдет, пока что-то толковое получится…
— Хорошо бы самоварчик! — просительно сказал хозяин, прервав их разговор. Он стоял в дверях с большим рулоном бумаги. — А то мне нужно уходить.
— Так поставьте, дорогой! Вы ведь разрабатываете новый тип воздушного двигателя… Что для вас самовар!
Молодой человек неуверенно взглянул на шутницу, ссутулился. Сказал, легонько покашливая:
— Самовар — совсем другое дело!
— А я думала…
Молодой человек, сконфузившись, уныло поплелся на кухню. Только разговор продолжить не удалось. Что-то с грохотом упало. Загремели кастрюли. Полилась вода. Молодая женщина с улыбкой заглядывала в открытую дверь:
— Медведь! Медведь в посудной лавке!
Вновь загремела посуда. Она махнула рукой, побежала на кухню. До Марии доносился смех. Молодого человека прогнали с позором. Смущенный, перепачканный углем, с оцарапанными руками появился он в гостиной. Мария смеялась.
— Мне это дело совсем незнакомо, — оправдывался молодой человек, приблизившись к Марии.
Натянув поблекший картуз, старенькое пальто и, прихватив толстый портфель, попытался уйти. Но горничная не позволила, сняла с него пальто, усадила за стол.
— Еще раз похозяйствуете таким образом — нагрянет полиция! Вчера приходил дворник, жаловался, что у нас протекает вода, а кран забыли закрыть вы. — Повернувшись к удивленной Марии, добавила: — Под нами внизу живет генерал. Чуть что, присылает дворника!
Хозяин все же ушел. Торопился в читальню. Он действительно изобретал воздушный двигатель…
Каково же было удивление Марии, когда, просматривая нелегальные газеты в трагические дни марта 1881 года, среди казненных народовольцев узнала молодого человека. Кибальчич! Тот самый Кибальчич, который в ожидании казни заканчивал проект летательного аппарата…
…По вершинам деревьев промчался ветер. Затрепетали, ожили листья. Мария подняла голову. Облака наползали на солнце. Тяжело вздохнула. До боли хрустнула пальцами. Развернула прокламацию, начала читать:
Письмо Исполнительного Комитета Александру III. Ваше Величество! Вполне понимая то тягостное настроение, которое Вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный Комитет не считает, однако, себя в праве поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения, выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся обратиться к Вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждет тот исторический процесс, который грозит нам в будущем реками крови и самыми тяжелыми потрясениями. Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и не для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти. Объяснять подобные факты злоумышлением отдельных личностей или хотя бы «шайки» может только человек, совершенно не способный анализировать жизнь народов. В течение целых 10 лет мы видим, как у нас, несмотря на самые строгие преследования, несмотря на то что правительство покойного Императора жертвовало всем — свободой, интересами всех классов, интересами промышленности и даже собственным достоинством — безусловно всем жертвовало для подавления революционного движения, оно все-таки упорно разрасталось, привлекая к себе лучшие элементы страны, самых энергичных и самоотверженных людей России, и вот уже три года как вступило в отчаянную, партизанскую войну с правительством. Вы знаете, Ваше Величество, что правительство покойного Императора нельзя обвинить в недостатке энергии. У нас вешали и правого и виноватого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так называемых «вожаков» переловлены, перевешаны: они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось, оно безостановочно росло и крепло. Да, Ваше Величество, революционное движение не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма, и виселицы, воздвигаемые для наиболее энергичных выразителей этого процесса, так же бессильны спасти отживающий порядок, как крестная смерть Спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства. Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нисколько не изменит положения вещей. Революционеров создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его недовольство посредством репрессалий; неудовольствие, напротив, растет от этого… …Каковы бы ни были намерения государя, но действия правительства не имеют ничего общего с народной пользой и стремлениями. Императорское правительство подчинило народ крепостному праву, отдало массы во власть дворянству; в настоящее время оно открыто создает самый вредный класс спекулянтов и барышников. Все реформы его приводят лишь к тому, что народ впадает все в большее рабство, все более эксплуатируется. Оно довело Россию до того, что в настоящее время народные массы находятся в состоянии полной нищеты и разорения, не свободны от самого обидного надзора даже у своего домашнего очага, не властны даже в своих мирских, общественных делах… …Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния, никакой опоры в народе; вот почему Россия порождает столько революционеров; вот почему даже такой факт, как цареубийство, вызывает в огромной части населения радость и сочувствие! Да, Ваше Величество, не обманывайте себя отзывами льстецов и прислужников. Цареубийство в России очень популярно. Из такого положения может быть два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или — добровольное обращение Верховной власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех самых страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный Комитет обращается к Вашему Величеству с советом избрать второй путь… …Мы обращаемся к Вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что Вы представитель той власти, которая только обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к Вам, как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от Вас… …Итак, Ваше Величество — решайте. Перед Вами два пути. От Вас зависит выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы Ваш разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, с Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родною страной. 10 марта 1881 г. Исполнительный Комитет. Типография «Народной воли», 12 марта 1881 года.
Мария старательно свернула дорогие листы. Император не прислушался, насилия и репрессии продолжались. Что ж?! Не прекратилась и борьба. Она понесет это письмо по губернии, пусть народ читает. Молодая береза устояла против урагана. Согнулась, уперлась вершиной о землю, словно натянутый лук, но выдюжила… Выдюжит и она.
Васятка
Шел дождь. Ветер трепал прогнившую солому на крышах деревенских хат. На почерневших от дождя бревнах проступал лишайник. Косматилась пакля с тяжелыми капельками дождя. Деревенька Горелое, в которой третий год учительствовала Мария, утопала в осенней грязи. По обочине дороги, размытой дождем, сиротливо торчали чахлые кусты бузины с пожухлыми листьями. Трепетала осина, устилая дорогу серыми кружочками. Завязав платок и подняв воротник жакета, Мария спешила. Ноги разъезжались в липкой грязи. Она с трудом вытаскивала их. Фельдшерский саквояж с инструментами оттягивал руку. Надо пройти еще старую мельницу. Ветер закидывал покривившиеся крылья, и вода гудела у запруды, выложенной плетеным ивняком. Переждав порыв ветра, Мария сквозь пелену дождя различала огонек в еще далекой хате. Впереди бежал Федя в длинном армяке, подпоясанном веревкой. Старенькая шапка надвинута на самые глаза. Паренек останавливался, поджидал, когда она переберется через лужу. — Тепереча скоро! А вон и батя у хаты! Мария заспешила, рискуя свалиться на размытую дождем дорогу. В хате слабо мерцал огонек. На пороге стоял бородатый мужик. Холщовую рубаху парусом надувал ветер. В расстегнутом вороте рубахи виднелся на шнурке оловянный крест. Он смахивал с лица капли дождя, а может быть, и слез. — Иди в хату, Савелий! — Мария подала ему саквояж. — Простудишься! Погода-то… Мария вытерла ноги о большой камень — жернов, выдолбленный и выщербленный. Толкнула дверь и сразу очутилась в горнице. Дохнуло кислой овчиной. У русской печи, занимавшей большую часть хаты, завитым клубком лежал ягненок. На земляном полу бадейка, облепленная серыми хохлатками. На высоком ушке петух с красным глазом. На лавке под цветастым лоскутным одеялом метался больной мальчик. В углу перед иконой на коленях стояла женщина, которую Мария не сразу заметила. Мария поздоровалась. Женщина неохотно поднялась с колен. Лицо ее распухло от слез. Она молча подошла к сыну и откинула одеяло.
— Который день болеет? — спросила Мария.
— Третий… Приносили землицу с могилки тятеньки, клали на грудку, да жар не отходит! — Женщина провела рукой по пылающему лбу ребенка.
— Землицу?! Зачем?
— Говорят, помогает при лихорадке.
Мария покачала головой: такое «лечение» было в селе самым распространенным, сколько ни объясняла его бесполезности. Вымыла руки над глиняной миской и подошла к мальчику.
Васятке шел пятый год. Мария его знала. Как часто затихал он у двери, провожая брата в школу. Так и запомнился ей — вихрастый, голубоглазый, у дверного косяка стоял и слушал сказку. А теперь приятеля было не узнать. Багрово-фиолетовым огнем полыхали его щеки. Мальчик метался, худенький живот то высоко вздымался, то втягивался к позвоночнику. Васятка задыхался.
Мария попробовала усадить мальчика, но тот бессильно повалился на ситцевую подушку. Подошел отец. Приподнял за худенькие плечи, прижал к себе. Мария приложила ухо к груди. Дышал тяжело, словно кто-то крепкой рукой держал за горло. Мальчик открыл глаза, тупо поглядел на них. Веки синие, ноготки на пальцах почти черные. «Пневмония или дифтерит?»
Медицинского образования Мария не имела, но, когда готовилась в село учительствовать, старательно проштудировала фельдшерский справочник, были у нее и необходимые лекарства. Помогала как могла, но все случаи попадались простые. Здесь же… Опять начала прослушивать легкие. Вот они, хрипы, мокрые, явственные. Впрочем, при чем здесь хрипы! Все худенькое тельце ребенка содрогалось от отчаянного кашля: кхы-кхы-кхы… Дифтерит?! Чайной ложкой с трудом открыла рот. Мать высоко держала зажженную лучину. Так и есть — серые налеты! Дифтерит! Дифтерит! Скольких детей унесла эта болезнь! Врача нет, до города восемьдесят верст. Попробуй-ка довези по бездорожью! Что же делать?
— Горячую воду! Полотенце! — решилась она. Женщина подала полотенце, звякнула крышка сундучка.
Полотенце свадебное, расшитое петухами, с мережкой. Мария заварила горчицу, чувствуя пощипывание в носу и утирая слезившиеся глаза. Укутала больного. Заметила время, положив часы на бархотке на стол. Мать опустилась на колени, горячо молилась:
— Господи, спаси Васятку… Господи, матерь пресвятая богородица, помилуй дите неразумное!
Мария слушала с тоской — горе было таким сильным, что женщина забыла молитву. Отец скрестил руки на груди, с надеждой смотрел на девушку, «Может быть, помогут горчичники. Тогда попарить ножки, напоить липовым чаем, дать аспирин… — Горько усмехнулась: — Как же он проглотит?! Ах, эти страшные налеты в горле… Дифтерит… К чему себя обманывать?! Дифтерит, который не только лечить, но и распознавать не научились толком… А она одна… Одна…»
— Савелий! Выдерни самое большое перо у петуха! — неожиданно проговорила она, удивляясь своему спокойствию.
— Перо?!
— Да!
— Кхы-кхы-кхы. — Это задыхался мальчик или ловят петуха? Нет, он опять заметался. Горчичное обертывание облегчения не принесло. Значит?.. Мария разрезала перо. Старательно сделала несколько трубочек, положила их в стакан с водкой, которую всегда носила для дезинфекции. Из саквояжа вынула блестящий ланцет.
— Савелий! Зажигай свечи! — так же отрешенно сказала она.
Толстые стеариновые свечи она также носила в саквояже. Что увидишь при лучине? Свечи валились у Савелия из рук. Спокойно велела поставить их в кружку, поднесла лучину. Горница осветилась широкой полосой света. Встала с колен мать, подошла. Громко запричитала, взглянув на Васятку. Да, надежды нет. Сколько он еще может протянуть — час, два…. А если она не справится, если мальчик умрет под ножом… Как посмотрит в глаза этой бедной женщине?! Как дальше будет жить?! Но мальчик умрет, если она не поможет. Он обречен, и все же…
Мать гладила мальчика по лицу, пыталась вложить в восковую ручку зажженную тонкую свечку. Беззвучно рыдал Савелий. Всхлипывал Федя. Свечка медленно угасала, как и жизнь Васятки.
— Можно спасти мальчика. Операция… — хрипло сказала Мария, посмотрев на Савелия.
— Нет, не дам Васятку! Не дам! Умрет по-христиански! — закричала женщина, оттолкнув Марию.
Мария обняла ее за плечи, говорила медленно, чтобы та поняла, поверила:
— Васятку можно спасти! Вы должны довериться, иначе смерть! Нужно быть сильными! Понимаю, как тяжело, но нужно! — И резко приказала: — Уведи, Савелий, жену… Дай ей полушалок… Будешь помогать!
Женщину увели. Мария слышала, как она причитала во дворе, посылала проклятья. Савелий прокаливал ланцет на свече. Мальчик уже хрипел. Мария протерла руки водкой, машинально перекрестилась. Закрыла глаза, тряхнула головой. Ждать больше нельзя. Смочила вату водкой и, преодолевая страх, протерла тампоном шею мальчику. Еще тампон… Протерла кожу йодом. Вот они, хрящи, ерзают под пальцами. Взяла ланцет…
Савелий следил за ее движениями, побелевшие губы его дрожали… Мария осмотрелась: ланцет, водка, пинцет, йод… Если у мальчика поражены лишь верхние трахеи, то тогда он спасен.
Мария вся подалась вперед. Осторожно сделала разрез на коже. Глубже. Глубже. Осушила рану от крови. Теперь — главное — она надавила… Фонтан гноя и крови… В открытую рану ввела пинцет, словно рогульку. С редкостным упорством старалась удержать ранку, не давая сойтись краям, а из нее вылетал свистящий ком. «Главное, чтобы не дрожали руки… Чтобы не дрожали руки!» — твердила Мария, ожидая момента, когда мальчик начнет дышать. Бешено колотилось сердце, казалось, чувствовала его всюду — в ушах, в окаменевших руках… Но что это? Словно стало тихо — да, конечно, смолкло ужасное «кхы, кхы»… Мальчик дышал спокойнее, кровотечение уменьшилось, живот не ходил ходуном, пропадала синюха… Господи, неужели спасен?!
— Савелий! Смотри не толкни руку! Оботри мне лицо! — с трудом произнесла она, облизнув сухие горячие губы.
— Жив? — шепотом спросил Савелий, с ужасом рассматривая ее настороженное лицо, измазанную кровью одежду.
— Жив! Не сглазь! — улыбнулась она.
Васятка открыл глаза. Тоскливые, страдальческие, но уже лишенные серого налета смерти. Лежал спокойно, бессильно разбросав худенькое тельце, казавшееся уже не таким горячим.
— Пить! — одними губами попросил он.
— Савелий, вытри мокрой ваткой губы… Осторожно! — повеселев, приказала Мария, удерживая ранку пинцетом.
Медленно ползет время. Как самую радостную музыку, слушает она дыхание мальчика. Пора. Гноя нет. Осторожно ввела тонкую трубочку из петушиного пера. Радость! Воздух проходит. Расправила затекшие руки, взмахнула ими… Опять принялась держать, боясь, чтобы не затянуло трубочку. И такие случаи бывают! Конечно, можно было бы доверить ее Савелию, но уж лучше сама. Пускай он смоет кровь, а то жену испугает. Да, нужно же мать позвать.
Женщина вошла на цыпочках. По счастливым лицам, по наступившей тишине поняла, что смерть миновала. Мария ласково кивнула:
— Живой Васятка! Спит… Скоро совсем будет хорошо! — И, заметив слезы на ее глазах, с досадой сказала: — Живому пристало радоваться, а ты отпеваешь… Не гневи судьбу! Лучше нагрей побольше воды да прибери в хате. Скоро молочка дашь. Мне нужно как следует отмыться, а то других ребятишек перезаражу… Федора на эти дни возьму к себе.
Мысль о том, что она сама могла заразиться, ее не тревожила.
Мария поздоровалась. Женщина неохотно поднялась с колен. Лицо ее распухло от слез. Она молча подошла к сыну и откинула одеяло.
— Который день болеет? — спросила Мария.
— Третий… Приносили землицу с могилки тятеньки, клали на грудку, да жар не отходит! — Женщина провела рукой по пылающему лбу ребенка.
— Землицу?! Зачем?
— Говорят, помогает при лихорадке.
Мария покачала головой: такое «лечение» было в селе самым распространенным, сколько ни объясняла его бесполезности. Вымыла руки над глиняной миской и подошла к мальчику.
Васятке шел пятый год. Мария его знала. Как часто затихал он у двери, провожая брата в школу. Так и запомнился ей — вихрастый, голубоглазый, у дверного косяка стоял и слушал сказку. А теперь приятеля было не узнать. Багрово-фиолетовым огнем полыхали его щеки. Мальчик метался, худенький живот то высоко вздымался, то втягивался к позвоночнику. Васятка задыхался.
Мария попробовала усадить мальчика, но тот бессильно повалился на ситцевую подушку. Подошел отец. Приподнял за худенькие плечи, прижал к себе. Мария приложила ухо к груди. Дышал тяжело, словно кто-то крепкой рукой держал за горло. Мальчик открыл глаза, тупо поглядел на них. Веки синие, ноготки на пальцах почти черные. «Пневмония или дифтерит?»
Медицинского образования Мария не имела, но, когда готовилась в село учительствовать, старательно проштудировала фельдшерский справочник, были у нее и необходимые лекарства. Помогала как могла, но все случаи попадались простые. Здесь же… Опять начала прослушивать легкие. Вот они, хрипы, мокрые, явственные. Впрочем, при чем здесь хрипы! Все худенькое тельце ребенка содрогалось от отчаянного кашля: кхы-кхы-кхы… Дифтерит?! Чайной ложкой с трудом открыла рот. Мать высоко держала зажженную лучину. Так и есть — серые налеты! Дифтерит! Дифтерит! Скольких детей унесла эта болезнь! Врача нет, до города восемьдесят верст. Попробуй-ка довези по бездорожью! Что же делать?
— Горячую воду! Полотенце! — решилась она. Женщина подала полотенце, звякнула крышка сундучка.
Полотенце свадебное, расшитое петухами, с мережкой. Мария заварила горчицу, чувствуя пощипывание в носу и утирая слезившиеся глаза. Укутала больного. Заметила время, положив часы на бархотке на стол. Мать опустилась на колени, горячо молилась:
— Господи, спаси Васятку… Господи, матерь пресвятая богородица, помилуй дите неразумное!
Мария слушала с тоской — горе было таким сильным, что женщина забыла молитву. Отец скрестил руки на груди, с надеждой смотрел на девушку, «Может быть, помогут горчичники. Тогда попарить ножки, напоить липовым чаем, дать аспирин… — Горько усмехнулась: — Как же он проглотит?! Ах, эти страшные налеты в горле… Дифтерит… К чему себя обманывать?! Дифтерит, который не только лечить, но и распознавать не научились толком… А она одна… Одна…»
— Савелий! Выдерни самое большое перо у петуха! — неожиданно проговорила она, удивляясь своему спокойствию.
— Перо?!
— Да!
— Кхы-кхы-кхы. — Это задыхался мальчик или ловят петуха? Нет, он опять заметался. Горчичное обертывание облегчения не принесло. Значит?.. Мария разрезала перо. Старательно сделала несколько трубочек, положила их в стакан с водкой, которую всегда носила для дезинфекции. Из саквояжа вынула блестящий ланцет.
— Савелий! Зажигай свечи! — так же отрешенно сказала она.
Толстые стеариновые свечи она также носила в саквояже. Что увидишь при лучине? Свечи валились у Савелия из рук. Спокойно велела поставить их в кружку, поднесла лучину. Горница осветилась широкой полосой света. Встала с колен мать, подошла. Громко запричитала, взглянув на Васятку. Да, надежды нет. Сколько он еще может протянуть — час, два…. А если она не справится, если мальчик умрет под ножом… Как посмотрит в глаза этой бедной женщине?! Как дальше будет жить?! Но мальчик умрет, если она не поможет. Он обречен, и все же…
Мать гладила мальчика по лицу, пыталась вложить в восковую ручку зажженную тонкую свечку. Беззвучно рыдал Савелий. Всхлипывал Федя. Свечка медленно угасала, как и жизнь Васятки.
— Можно спасти мальчика. Операция… — хрипло сказала Мария, посмотрев на Савелия.
— Нет, не дам Васятку! Не дам! Умрет по-христиански! — закричала женщина, оттолкнув Марию.
Мария обняла ее за плечи, говорила медленно, чтобы та поняла, поверила:
— Васятку можно спасти! Вы должны довериться, иначе смерть! Нужно быть сильными! Понимаю, как тяжело, но нужно! — И резко приказала: — Уведи, Савелий, жену… Дай ей полушалок… Будешь помогать!
Женщину увели. Мария слышала, как она причитала во дворе, посылала проклятья. Савелий прокаливал ланцет на свече. Мальчик уже хрипел. Мария протерла руки водкой, машинально перекрестилась. Закрыла глаза, тряхнула головой. Ждать больше нельзя. Смочила вату водкой и, преодолевая страх, протерла тампоном шею мальчику. Еще тампон… Протерла кожу йодом. Вот они, хрящи, ерзают под пальцами. Взяла ланцет…
Савелий следил за ее движениями, побелевшие губы его дрожали… Мария осмотрелась: ланцет, водка, пинцет, йод… Если у мальчика поражены лишь верхние трахеи, то тогда он спасен.
Мария вся подалась вперед. Осторожно сделала разрез на коже. Глубже. Глубже. Осушила рану от крови. Теперь — главное — она надавила… Фонтан гноя и крови… В открытую рану ввела пинцет, словно рогульку. С редкостным упорством старалась удержать ранку, не давая сойтись краям, а из нее вылетал свистящий ком. «Главное, чтобы не дрожали руки… Чтобы не дрожали руки!» — твердила Мария, ожидая момента, когда мальчик начнет дышать. Бешено колотилось сердце, казалось, чувствовала его всюду — в ушах, в окаменевших руках… Но что это? Словно стало тихо — да, конечно, смолкло ужасное «кхы, кхы»… Мальчик дышал спокойнее, кровотечение уменьшилось, живот не ходил ходуном, пропадала синюха… Господи, неужели спасен?!
— Савелий! Смотри не толкни руку! Оботри мне лицо! — с трудом произнесла она, облизнув сухие горячие губы.
— Жив? — шепотом спросил Савелий, с ужасом рассматривая ее настороженное лицо, измазанную кровью одежду.
— Жив! Не сглазь! — улыбнулась она.
Васятка открыл глаза. Тоскливые, страдальческие, но уже лишенные серого налета смерти. Лежал спокойно, бессильно разбросав худенькое тельце, казавшееся уже не таким горячим.
— Пить! — одними губами попросил он.
— Савелий, вытри мокрой ваткой губы… Осторожно! — повеселев, приказала Мария, удерживая ранку пинцетом.
Медленно ползет время. Как самую радостную музыку, слушает она дыхание мальчика. Пора. Гноя нет. Осторожно ввела тонкую трубочку из петушиного пера. Радость! Воздух проходит. Расправила затекшие руки, взмахнула ими… Опять принялась держать, боясь, чтобы не затянуло трубочку. И такие случаи бывают! Конечно, можно было бы доверить ее Савелию, но уж лучше сама. Пускай он смоет кровь, а то жену испугает. Да, нужно же мать позвать.
Женщина вошла на цыпочках. По счастливым лицам, по наступившей тишине поняла, что смерть миновала. Мария ласково кивнула:
— Живой Васятка! Спит… Скоро совсем будет хорошо! — И, заметив слезы на ее глазах, с досадой сказала: — Живому пристало радоваться, а ты отпеваешь… Не гневи судьбу! Лучше нагрей побольше воды да прибери в хате. Скоро молочка дашь. Мне нужно как следует отмыться, а то других ребятишек перезаражу… Федора на эти дни возьму к себе.
Мысль о том, что она сама могла заразиться, ее не тревожила.
Книгоноша
Уходили на рассвете. На востоке разгоралась ярко-красная полоса. На узорчатые ели, синеющие на горизонте, взгромоздилось солнце. Угасал на западе серебристый рожок месяца. Солнце надвигалось на сиреневые тучи, все шире и шире разбрасывая ослепительный сноп лучей. Потянул прохладный ветерок, пошептался с березой у развилки дороги и затормошил верхушки деревьев. Все яснее проступали очертания леса, все больше разгорался розовый свет. Запетляла проселочная дорога, сливаясь вдали с лесом. Разверзлась синь небес, и поднялось могучее солнце, окутывая розовым туманом поля и долы. Запели птицы. Зарождался новый день. Мария опустила на землю мешок, затянутый веревкой, и радостно встречала новый день. Из-под ситцевого платка, заколотого под подбородком булавкой, падала густая русая коса. На домотканое платье с широкой оборчатой юбкой накинута клетчатая шаль. На ногах легкие шерпуны из веревок. Рядом с Марией присела пожилая крестьянка с обветренным широкоскулым лицом. На правой щеке темнело родимое пятно. Клетчатая шаль, как и у Марии, перевязана на груди крест-накрест. Женщина поправила загорелой рукой седые пряди волос, выбившиеся из-под платка. Перехватила узел. — Благодать божья! — Женщина перекрестилась и ласково поглядела на девушку, поежившуюся от утренней свежести. — Опять в Обнищаловку? — В Обнищаловку, нянюшка! — Девушка приподняла ее узел. — Не тяжело ли? — Что за тяжесть?! Не след идти в Обнищаловку. Староста лютый, пес цепной. Прости меня господи! Не заподозрил ли недоброе? Пойдем, моя ласточка, в Красавушки. Там сродственники. Отоспимся опосля дороги. Холодного молочка отопьем из погреба. — Женщина терпеливо уговаривала Марию. — Шестой день в дороге. Ноженьки-то все отбила, да и спать по сеновалам несладко. А тут еще беспокойство… — А далеко ли до Красавушек, нянюшка? — Семь лет невестка в хате, а не знает, что кошка без хвоста! — На улыбчивом лице удивление. — Да верст десять, кто ж их мерял! — Ну вот, Матрена-мамушка, и сама-то толком не знаешь. Говоришь: сродственники! — добродушно передразнивала ее Мария. — Ну, пойдем, не ленись, старая! — В ногах правды нет. Зря изводишь себя, милая! В Обнищаловку вправду идти боязно. Береженого бог бережет! Заарестуют ироды проклятые! — Матрена сердито сдвинула брови. — За что же тебя заарестуют? У страха глаза велики! — засмеялась Мария, на щеках запрыгали ямочки. — Заарестуют… — Да разве ж я за себя боюсь?! Кому я нужна! За тебя сердце изболелось. Уж скорее бы к себе вернулись. Спаси и помилуй нас, грешных! — Матрена широко перекрестилась. — Пойдем в Красавушки! В деревне на Тихвинской обетный день. Посмотришь ихних девок, с мужиками потолкуешь. Помещик там праздник Костромы устраивает… Моим старым ногам дашь покой… — Ну хорошо, старая! Только знай: в следующий раз по селам пойду одна. Да и трудно тебе вышагивать эти длинные версты. — Уступила Мария, целуя ее в морщинистые щеки. — Одна, обязательно одна! — Видно будет, — уклончиво ответила Матрена, подавая мешок, и неожиданно заключила: — Пока жива, одной не ходить! На моих руках выросла. Вместе будем бедовать, а за то, что уважила старую, спасибо!Помещичий дом возвышался на пригорке. Сквозь пушистые липы красовалась белая изгородь. В старинном парке на виду часовенка с золотым крестом. Желтели дорожки, посыпанные песком. Чугунные ворота барского дома распахнуты. В воротах казачки в сафьяновых сапожках. Управляющий. Тучный. Насупленный. Пугливо заходили в усадьбу парни. За ними гуськом— девушки. Низко кланялись на три стороны. На поклоны управляющий не отвечал. Мария с нянюшкой нерешительно остановились в воротах. Управляющий повернулся к ним: — Чьи?! — Анисьи сродственницы! — с поклоном ответила Матрена, держа за руку Марию. — Заходи! Что зенки таращите! На залитой солнцем лужайке топталась молодежь. В беседке, увитой плющом, — господа. Худенькая барышня в кружевном белоснежном платье, сам помещик. Видно, недавно вернулся с охоты. В светлом охотничьем костюме, тирольской шапочке с фазаньим пером. У ног худые борзые собаки с длинными мордами и настороженными ушами. Ременной плеткой барин нетерпеливо постукивал по желтому голенищу сапог. — Барышня по весну приехала в имение. Господин для нее устроил купальские игрища — похороны Костромы, — за шептала Марии всезнающая нянюшка. Мария улыбнулась: похорон Костромы, языческого праздника, она никогда не видела. Обычай этот ушел из народа. А помещик в Красавушках решил от скуки его возродить. Крестьянские девушки отобраны одна к одной: ловкие, красивые. В венках из васильков, в косах яркие ленты. Колыхались белые пышные рукава кофт с искусной вышивкой. Девушки взялись за руки и медленно двинулись навстречу парням. Тихо полилась песня:
А, бояре, вы зачем пришли?
А, бояре, а мы к вам пришли.
А, бояре, мы невесту выбирать.
А, бояре, нам вот эта нужна!
 Все было очень красиво и красочно.
Помещик громко смеялся. Барышня кривилась. Очевидно, все происходящее казалось ей грубым, неинтересным. Снисходительно поглядывала она на отца, прикрывая зевающий рот ладошкой. Передернула худенькими плечиками. Наклонившись к отцу, что-то сказала. Помещик встряхнул головой, крикнул:
— Спасибо! Девкам по кульку конфет и ситцу на кофты! Парням бражку!
Сразу замолкла песня, будто кто-то оборвал струну. Парни стянули войлочные шляпы. Поясные поклоны отвешивали девушки. Лишь Варвара стояла с высоко поднятой головой. По пруду поплыли венки с намокшими лентами.
«Вот и окончено представление!» — грустно подумала Мария.
Все было очень красиво и красочно.
Помещик громко смеялся. Барышня кривилась. Очевидно, все происходящее казалось ей грубым, неинтересным. Снисходительно поглядывала она на отца, прикрывая зевающий рот ладошкой. Передернула худенькими плечиками. Наклонившись к отцу, что-то сказала. Помещик встряхнул головой, крикнул:
— Спасибо! Девкам по кульку конфет и ситцу на кофты! Парням бражку!
Сразу замолкла песня, будто кто-то оборвал струну. Парни стянули войлочные шляпы. Поясные поклоны отвешивали девушки. Лишь Варвара стояла с высоко поднятой головой. По пруду поплыли венки с намокшими лентами.
«Вот и окончено представление!» — грустно подумала Мария.
— Знаешь, паря, у нас скоро царя не будет! — Брешешь! — Вот те крест! Не будет! Его заменят выборные по шарам! — Фью-ю! — Да обожди свистеть-то! В других странах выбирают по шарам, и у нас так будет. Крестьянам житуха — и податей-то нет, а землица-то наша! — Вот учудил! Как же без подати? — Не плати, и баста! Выберем царя из крестьян. Кормить его, а паче сродственников, не будем! А то всякие там принцессы, графья, князья… Каракозов-то хотел убить царя. Да, на нашу беду, спас его ваш костромской картузник! — Но-но… Бог спас царя! «Жизнь царева в руках божьих!»— так в церкви поют… — В церкви поют! Бог есть, да не в церкви. Бог в душе каждого! Вот так-то! Мария улыбнулась. Шагнула из темноты к костру. Мужики лежали на земле, разгребая тлеющие угольки, прислушиваясь к спору. Спорили двое: старик и молодой парень. Старик в рваном армяке размахивал шапкой. У молодого парня лицо наивное, добродушное. Крестьяне, завидев девушку, приветливо закивали, освобождая место у костра. — Ночь-то какая звездная! Не помешаю вашей беседе? — Мария подсела к огню. Когда-то она учительствовала в этом селе. Кузницу приспособили под школу. В стене из просмоленных черных бревен сделали окно, затянув его сахарной бумагой. Стекла помещик не дал, а достать не удалось. Крестьяне в школу детей отпускали неохотно. Летом нужно было помогать по хозяйству, а зимой ребятишки сидели на печи — ходить не в чем. Одежонка плохая, на всех — одни валенцы. Собирала сход в селе, говорила о пользе образования. Мужики согласно кивали. Управляющий из немцев презрительно морщился. Сделать ничего не удалось. Школа развалилась. Но первые ее ученики, белоголовые, вихрастые, любознательные, остались в сердце навсегда. Потом она не раз приходила в Красавушки, сдружившись с мужиками. Приносила запрещенные книжки, читала листовки. — Ну как, Петровна, все бродишь по белу свету? — добродушно посмеиваясь в пшеничные усы, спросил молодой парень. — Как, нашла правду? — Правду-то она давненько нашла, да все не может ее нам передать. Каждому своя рубашка ближе к телу, а до обчества и дела нет! — махнул рукой пожилой мужик. К костру подбрели лошади, похрустывая травой. Пугливо поднимали голову. Косились на огонь. Стригли ушами. Мелко вздрагивали лоснящимися спинами. Глаза отливали кровавым отблеском. — Что ж замолчал? — оборотился парень к старику. — Пусть лучше Петровна расскажет про житье-бытье, чай, не зря пришла. — Что ж, расскажу! Жизнь невеселая… Сами знаете, нищета, горе, голод. А чуть что — розги! Урядники, жандармы — все тут. За лишнее слово — в Сибирь… — Правда твоя, Петровна. Много в нас холопства. Попробуй подними-ка народ… Нет, не поднимешь… Боится он… — В городах обыски. Из университетов высылают сотни и сотни лучших. Что же делать?! Бомбы оборвали у Михайловского дворца жизнь Александра Второго… — Мария Петровна медленно помешивала палкой тлеющие головешки. — На престол вступил новый царь — Александр Третий. И опять тюрьмы переполнены. Владимирка гремит кандалами. А жизнь могла пойти по-другому. Вот «Письмо Исполнительного Комитета», вот что требуют революционеры от царя… На небе разгорались звезды. Серебрился месяц, прокладывая блестящую полосу к деревне. Девушка поклонилась. Заторопилась к Матрене, пока не наступил рассвет.
Волчица
— Далеко ли до села, нянюшка? Сколько верст отшагали, а конца не видно… — Мария вздохнула, поправила котомку за плечами. — Потерпи, касатка, перевалим через бугор, а потом уж чащобой. — Матрена с тревогой оглядела Марию. Мария ступала тяжело, еле передвигала ноги. Почти целый месяц бродят они по губернии. Да и не впервой им это — читать мужикам запрещенные книги, готовить народ к бунту. Только уверенности в этом бунте было все меньше. Трудно, очень трудно в деревне. Заичневский звал ее к себе, но расстаться с деревней тоже было тяжело. В последние дни она занемогла. Простудилась, что ли, когда укрывались в дырявой риге, пережидая ливень. Солома намокла от дождя. Нужно было бы возвратиться, а они решили заглянуть еще в одну деревушку, затерявшуюся среди болот. Завернули. Матрена, ее верная спутница, неодобрительно качала головой. Теперь они торопились в свое Горелое отдохнуть от долгого пути. Счастье, что рядом пылит Матрена, а то одной, пожалуй, и не добраться. Матрена забрала котомку, которую Мария уже волочила по дороге, забросила за плечо. — Давай передых сделаем… Ноженьки-то совсем разломило! — Матрена жалостливо сморщила лицо. — Хитришь, старая! — улыбнулась Мария. — Ну, уж была охота! Болящая, хворостей много! — Матрена остановилась и, заприметив холмик, направилась к нему. — Батюшки светы! Озеро! Мария поднялась за ней. В зеленой чаще серебрилось рябое озеро. Деревья стеной подступали к самой воде. Вершины их дрожали на зеркальной глади. Разлапистые ели. Ветерок потягивал с озера, шуршал осокой, словно пересчитывал пики. Девушка с радостью опустилась на мох, пушистый, впитавший тепло солнечных лучей. Сорвала краснолистную бруснику. Над травой, густо-зеленой от близости воды, парили стрекозы. Разбросав круглые листья, возвышались лилии. Мария пересела на искривленную старую сосну. В воде дрожало ее лицо с длинным носом, как в кривом зеркале. Засмеялась и бросила в свое отражение красную еловую шишку. — Счастье, мамушка! Помнишь, как ты мне сказки про русалок рассказывала? С тех пор всегда в воду заглядываю— вдруг увижу! А в таком дремучем лесу и лешие есть… Мох-то совсем синий, мягкий, как перина! — Русалок себе высматривай, а лешего без нужды не поминай! — ворчала Матрена, развязывая узелок с крутыми яйцами. — На-ка, закуси, чай, проголодалась! Мария ела неохотно, чувствуя неприятную слабость. Голова была тяжелой, ноги гудели, спину разламывало. «Придем, непременно отлежусь! — Она запивала хлеб молоком из бутылки. — А кузнечики-то стрекочут…» Закрыла глаза. Припомнился сход в селе Кручина. Стонали бабы. Кричали дети. Речь шла о выселении из волости нескольких семей за неуплату недоимок. Староста играл медной цепочкой для часов. Урядник с нафабренными усами. А в пыли на коленях ползали бабы с детишками. Целовали грязные сапоги, просили… Мужики отворачивались, хмурились. Такое завтра могло случиться с каждым. Мария лежала на спине и смотрела на облака. Мысли тяжелые, мучительные. Горе… Одно горе на дорогах!Прощай, идя в далекий путь,
Верь — не одна болит здесь грудь,
Верь, не одни скрежещут зубы…
Сибирский снег нас не страшит —
Но пусть же тайно кровь кипит,
И пусть на время сжаты зубы…
Мария стояла на убогом сельском кладбище. Заброшенные могилы, сровнявшиеся с землей, утопали в разросшихся кустах крапивы и бузины. На поржавевших железных крестах деревянные таблички с размытыми дождями надписями. Одичавшие кусты шиповника с чахлыми цветами. Скрипел и тяжело вздыхал старый клен, кора которого, словно чешуйками, затянута лишайником. Тяжелый, многопудовый камень в зеленой плесени придавил могилу сельского колдуна. Гнулась высокая трава, облитая росой. Угрюмо звонил колокол.
 В часовне служили панихиду. Нестройно пели певчие. Мария опустилась на колени, закрыв лицо руками. Вся ее жизнь была связана с нянюшкой. И вот судьба отняла единственного друга… Какая мученическая смерть! В ушах слышался смертельный стон. Виделось искаженное от боли лицо…
Савелий подошел к Марии. Вывел из часовенки. Усадил на залепленную мхом скамью. Неумело вытер ладонью слезы с ее лица. Перекрестился. Поплевал на руки и взял лопату.
У свежей могилы посадил березку в черных разводах…
В часовне служили панихиду. Нестройно пели певчие. Мария опустилась на колени, закрыв лицо руками. Вся ее жизнь была связана с нянюшкой. И вот судьба отняла единственного друга… Какая мученическая смерть! В ушах слышался смертельный стон. Виделось искаженное от боли лицо…
Савелий подошел к Марии. Вывел из часовенки. Усадил на залепленную мхом скамью. Неумело вытер ладонью слезы с ее лица. Перекрестился. Поплевал на руки и взял лопату.
У свежей могилы посадил березку в черных разводах…
Юнкер Романов
Бедность в пригородских слободах нашего города так велика, так ужасна, что самое сильное воображение не нарисует полной картины ее. Не едят по несколько суток сряду. По случаю плохой дороги дрова сильно вздорожали, поэтому некоторые бедняки, не имея возможности купить топливо, пожгли изгороди, деревья в своих садах и теперь пустили в оборот свою незатейливую обстановку: лавки, столы и проч. Причину такого явления следует искать в отсутствии заработков… — Яснева взглянула на Заичневского, помолчала и добавила — «Орловский вестник», суббота, апрель 1889 года.Заичневский откинул длинные волосы, положив на колени шляпу. Сказал, растягивая слова: — Даже осторожные земцы и те не могут скрыть правду… Нет-нет да и проболтаются! Они сидели у развалин старинной Сабуровской крепости. Пригревало солнышко. Внизу у дороги ждали извозчичьи сани, покрытые медвежьей полостью. Сабуровскую крепость, уединенную и глухую, Заичневский, любитель старины, выбирал для конспиративных встреч. Теперь Заичневский жил в Орле. Наконец-то разрешили после многих мытарств поселиться на родине. Позади города, которые приходилось менять по требованию властей, бесконечные переезды, ссоры с жандармами, унизительное пребывание под гласным надзором… Многое изменилось и в жизни Марии Ясневой. После смерти нянюшки долго болела. Оборвалась живая нить, которая связывала с деревней. Уехала в город, разыскала Заичневского. Добрым и отзывчивым оказался Петр Григорьевич. Она стала якобинкой, вступила в тайную организацию, развозила литературу по городам, ставила типографии, создавала кружки, хозяйничала на конспиративных квартирах. Центром организации был Орел. Но Мария по совету Заичневского жила в Москве. Училась на Высших женских курсах профессора Герье при университете на манер Петербургских Бестужевских. В Орел ее при необходимости вызывали. Так было и сегодня. Сразу с поезда к Заичневскому. Поездке в Сабуровскую крепость она обрадовалась. Хотелось поговорить спокойно с Заичневским да и немного отдохнуть. Сидела на каменной глыбе и слушала, слушала Петра Григорьевича… — А теперь рассказывайте о московских делах. Как с юнкерами в Лефортове? Военным следует придавать особое значение: с армией мы, революционеры, в подходящий момент захватим власть. И сразу же издадим декреты… Первейший о национализации земли — исход революции решают мужики, они всегда бунтари! — Мужики к революции не готовы. А упования на скорую революцию ошибочны! — Мария с грустью посмотрела на собеседника. — Что ж?! Моисей водил евреев сорок лет по пустыне, прежде чем привел их в землю обетованную! — Заичневский распахнул пальто, поправил пушистый шарф. — Для захвата власти должно иметь централизованную организацию… Имеем! Сочувствие и поддержку во всех слоях общества… Имеем! Опору среди войск, особливо офицеров, ибо солдат идет за офицером… Вот этого нет! — Пока нет! — уточнила Яснева. — Вот именно пока! Эту самую решающую часть возлагаю на вас, а не то… — «Иди, кума, в воду и не булькай!» — засмеялась Мария, лукаво бросив взгляд на Заичневского. — Вы когда собираетесь в Москву? Заичневский задумался. Въезд ему, находившемуся под гласным надзором, в столицы запрещен. Поездки тщательно готовила Яснева, и сроки нужны точные. — Решим позднее. Кстати, типографию в Курске придется ставить вам! Опыт, сноровка… Так спокойнее. Как кандидатское сочинение на курсах? Заканчивайте поскорее… Так, слушаю московские новости. — В Лефортовском училище встретилась с юнкером Романовым, братом вашей приятельницы Аделаиды. Горячий. Честный. Политикой интересуется. Передала ему списки для чтения и кое-что из нелегальщины. — А что именно? — «В мире мерзости и запустения» и «Историю французской революции». Он возглавит в училище группу саморазвития. — Славно! Очень славно! — Да, Аделаида в письмах много рассказывала о вас. Юнкера хотят повидаться и послушать. У них вопросы… — Что за обстановка в юнкерском? — Довольно вольготная. Полковник играет в либерализм. — Комедиантство! — И все же почему мы игнорируем рабочий класс? — Рабочий класс?! — На полном лице Заичневского искреннее удивление. — А где его сыщешь в России… Россия не Европа! У нас — мужик! А вот среди общества нужно работать… — Гм… Как себя чувствуете в Орле? — От бытовых мелочей меня спасает Аделаида… Вчера вызывали в жандармское управление. Полковник приподнялся для солидности на носки и отчитывал: «Вы — государственный преступник! Ведете себя недозволительно. Не советовал бы столь безразлично относиться к толкам и россказням, вызываемым в обществе относительно вашей личности! Тем более, что вследствие этого возбуждается вопрос: на каком основании проживаете в Орле?! Почему покинули свое имение?» — Заичневский помолчал и прибавил: — Что ни говорите, а глупость — презабавная вещь! — Так когда вас ждать в Москве? — Недельки через две. Снимите номер на Никольской. Обстановка вполне конспиративная. Только заранее подготовьте встречи с курсистками, петровцами, а главное — с юнкерами. В этот приезд посмотрю в кружках рефераты по Боклю. Для петровцев прочту курс лекций по истории русской революции… Не можем же мы уподобляться Иванам не помнящим родства! Должны знать прошлое, чтобы не совершать ошибок… Кстати, я подготовил статьи о декабристах. Придется их переписать — почерк преотвратный, кроме вас, никто не разберет. — Заичневский поднялся, взглянул на извозчика, скучающего у дороги. — Пора! Пора! Славный денек! Мария начала спускаться по тропке за Заичневским, запрятав рукопись в лисью муфту.
Мария тупо рассматривала коротенькое письмо. Желтоватая бумага с голубком с оливковой ветвью в клюве. Письмо передала знакомая курсистка, таинственно отозвав в сторону. Она быстро закрыла дверь своей московской комнаты на ключ. Ни о чем не расспрашивала, сразу почувствовав неладное. Повертела конверт с московским штемпелем. Разорвала, вынула письмо. «Апостол уехал, ученики в горе, один провалился на экзамене, труды репетиторов не вознаградились, помилуй бог, еще обвинят их и лишат уроков. Берегитесь опекунов, примите меры!» Письмо, как и предполагала, от юнкера Романова, брата Аделаиды, ее подруги. Вновь внимательно перечитала письмо, стараясь вникнуть в тайный смысл. Провал… Провал… Тяжело опустилась на кушетку. Расстегнула демисезонное пальто, сбросила маленькую шляпку, проведя рукой по разгоряченному лицу. …Последнее пребывание Заичневского в Москве осложнилось. С первого дня. Встретила его на Курском вокзале, небольшом, причудливом. Увидела издали. Голова Заичневского возвышалась над толпой, заполнившей перрон. Одет, как всегда, щегольски. Носильщик в белом фартуке подхватил чемодан. Подойдя к ней, Заичневский вежливо приподнял шляпу. В светло-голубых глазах уловила настороженность. — Меня сопровождают! — шепнул он, взяв под руку. «Хранителя» заметила и она. Невзрачный, низкорослый шпик старался не упустить их из виду, прижимая к поношенному пальто тощий портфель. — От самого Орла? — поинтересовалась она, бросив на шпика изучающий взгляд. Заичневский молча кивнул. — На Никольскую опасно! Может быть, удастся затеряться в суматохе?! К тому же у меня есть надежные адреса… — Какая разница! Полковник не желает оставить меня в одиночестве… На Никольскую! — Заичневский расплатился с носильщиком. Подождал, пока тот поставил чемодан в пролетку. Лицо у Заичневского усталое. Он не шутил, как обычно, а тяжелым взглядом рассматривал весеннюю Москву. Кривые переулки Мясницкой. Шумные приказчики на Лубянке… Протирая толстые стекла очков, раздраженно заметил: — Я чертовски устал. Все ночи до отъезда гнал рукопись, готовился к лекциям… А тут этот субъект! — И, желая переменить разговор, спросил: — Больше всего меня занимают юнкера… Кстати, они знают о приезде? — Конечно, Аделаида написала брату. Он мне сказал о письмах, когда заходила в Лефортовские казармы. Только пишет много лишнего. — Мария помолчала и добавила: — Я решила с ней поговорить при встрече.

— Обязательно! Человек она — преданный, да и помощник незаменимый. — Заичневский нахмурился. — О перлюстрации писем Аделаида предупреждена строжайшим образом! Извозчик свернул на Никольскую. Журчала вода в желобах, звенели ручьи. Проехали застекленные витрины аптеки Ферейна. Извозчик вынес чемодан и поставил у гостиницы «Славянский базар», трехэтажного зеленого здания с лепными карнизами и богатым парадным подъездом в зеркалах. В гостинице Заичневского знали. Проживал здесь каждый раз, когда под видом коммерсанта приезжал в Москву. На этот раз встреча превзошла все ожидания. Швейцар, открывший тяжелую дверь, приосанился. На серебряном подносе подал конверт. Заичневский вопросительно шевельнул густыми бровями: — «Ветеран революции… Наставник и друг молодежи… Мученик и герой, прошедший каторгу…» — Заичневский, скрывая ярость, читал. — Откуда это? Швейцар зычно гаркнул: — Юнкерское пехотное училище… Яснева окаменела: ребяческая выходка! Преступная глупость! Заичневский овладел собой. Протянул швейцару полтинник, засунул письмо в широкий карман и приказал коридорному отнести чемодан в номер. Угрюмо поднималась Мария Петровна по мраморной лестнице за Заичневский. На площадке столкнулась со шпиком, сидевшим на диванчике. Шпика заметил и Заичневский. Лицо его покраснело от возмущения. В номере Петр Григорьевич ругательски ругал Марию Петровну, хотя понимал, что вины ее нет. Перестаралась от великого усердия Аделаида. Заичневский грозился устроить ей разнос, обзывал «девчонкой, играющей в революцию», сердился… Мария советовала отказаться от лекций и встреч, но о приезде узнали. Начали захаживать студенты-петровцы, курсистки, юнкера. Встречи. Лекции. Споры… Шпик не показывался. Заичневский успокоился и отправил Марию Петровну в Курск. Его заботила мысль о нелегальной типографии. Потом узнала, что Петр Григорьевич уже в Орле… По его приказу вновь вернулась в Москву, занялась розысками шрифта. А тут это письмо, столь откровенно говорящее об опасности. Значит, у юнкеров был обыск. С Заичневским пока все благополучно… Главное — предупредить его об опасности, уберечь от нового ареста. Яснева поднесла спичку и сожгла письмо. Встала, подошла к окну, залитому солнцем. Забарабанила пальцами по стеклу. Думать нечего — скорее в Орел! Скорее! Скорее!..
Письмо пристава Халтурина
Полковник Дудкин раздраженно отбросил перо. Встал, мелкими шажками прошелся по кабинету. Остановился у каминных часов с хриплым боем. Завел медным ключиком. Осторожно надвинул стеклянный футляр на бронзового орла, удерживающего в клюве циферблат. И опять мелкими шажками зашагал по ковру… Заичневский… Заичневский… Государственный преступник, которым с некоторых пор так интересуется Петербург. Полковник был стар, считал дни, оставшиеся до выхода на пенсию. И вдруг Заичневский — глава организации! Тайная организация в Орле! В столице зашевелились. Понаехали агенты, хлыщеватые молодчики, которые смотрят на него, как на дряхлеющее дерево — вот-вот на сруб! Заичневского полковник знал, встречал в дворянском клубе, в обществе. Обходительный, приятный, в молодости бедокурил, но теперь, после стольких лет изгнания?! Вряд ли! К тому же известный литератор, автор солидных статей «Орловского вестника», многих столичных газет… Впрочем… Полковник потер сухие ладони. Сильным движением дернул шнурок, позвонил. — Принесите письмо пристава Халтурина. Дама ожидает? — спросил дежурного офицера. — Более получаса. Письмо при мне! — Офицер раскрыл папку, ловко выложил письмо на зеленое сукно. Полковник пробежал глазами бумагу. Пристав Халтурин, дальний родственник жены, просил помочь некой даме получить свидание с Заичневским. Полковник поднял глаза на офицера. Тот улыбался, показалось, язвительно и настороженно. — Просите! — Полковник прикрыл письмо газетой. Офицер услужливо распахнул дверь. Полковник быстро оглядел вошедшую даму. Приятная. Невысокого роста. Интеллигентное лицо с едва приметными веснушками. Волнистые волосы с седыми прядями. Дама поклонилась. Подождала, пока офицер придвинул стул. Полковник раздраженно молчал, офицер исчез, бесшумно закрыв дверь. — Вы хотите получить свидание с подследственным Заичневским? — вопросительно поднял кустики бровей и, не дав возможности ответить, сказал: — Нет и нет! — Почему я не могу повидаться с господином Заичневским? Она сидела на мягком стуле, высоко подняв голову, в черном строгом платье с закрытым воротом. — Вы просите о невозможном! — О невозможном?! Свидание с господином Заичневским при столь любезном приеме и рекомендательном письме? Забавно! Заичневский, уважаемый человек, в обществе хорошо известен. Ваш отказ произведет неприятное впечатление. Причина ареста неясна. К тому же он нездоров — заболевание сердца, жесточайшая подагра. Пожалуйте справку от лечившего его врача, а в тюремном замке находится без теплых вещей. Как я могу оставаться равнодушной! Я просто настаиваю на своей просьбе! — Передайте теплые вещи через тюремную канцелярию! Распоряжусь, — устало заметил полковник, протирая пенсне с золоченой дужкой.
— Передать без свидания?! Как я узнаю, в чем именно нуждается подследственный? — с иронией заметила Яснева. — Нет уж, увольте! Разрешение на свидание в вашей власти — так сказали в канцелярии. Не откажите в любезности… К тому же необходимо узнать, кого из адвокатов следует пригласить. Конечно, в случае, если это досадное недоразумение не разрешится в ближайшие дни.
— Думаю, не разрешится! — Полковник забарабанил сухими пальцами по сукну. — На сей раз Петру Григорьевичу не так легко будет выпутаться. Последний обыск дал многое… Дело серьезное и обещает быть громким…
— Но изобличающих обстоятельств нет! Аделаида Романова, арестованная одновременно с Петром Григорьевичем, мне жаловалась и раньше на частые обыски…
— Вы знакомы с Романовой, проживающей с Заичневским в одной квартире? — насторожился полковник.
— Она секретарствовала у Петра Григорьевича. Известному литератору без секретаря невозможно! Согласитесь… — Яснева прямо взглянула в лицо полковника. — Подозревать не значит обвинять!
— Да-с. Изобличающих обстоятельств нет, вернее, очень мало, но есть строгое предписание из Петербурга. А пристав Халтурин в письме… — Полковник не договорил, встал из-за стола. — К Заичневскому у меня отношение доброе. Человек интересный, в обществе приятный. К тому же родовитый дворянин, владелец имения — и вдруг революционер! В Орловской губернии, видите ли, разыскали Робеспьера! Только предписание строжайшее: арестовать безотносительно к результатам обыска. Орловский Робеспьер!
Яснева тонко улыбнулась. Полковник, поняв, что она оценила шутку, также удовлетворенно улыбнулся.
— Все это — недоразумение! Заичневский не виноват. Рада, что встретила в вас человека образованного и либерального. Весьма приятное исключение… Разрешите взять Петра Григорьевича на поруки под денежный залог. — Мария Яснева протянула заранее подготовленное заявление. — Тюремное заключение он переносит тяжело.
— Увольте… Увольте… Содержание в тюремном замке как меру пресечения изменить не могу… Да-с, не могу!
— А свидание?
— Разрешу на двадцать минут.
— Мало, очень мало… Но что делать?
Дама, поблагодарив, ушла. Полковник долго стоял у раскрытого окна. Торопливо вернулся к столу и каллиграфическим почерком стал писать:
«Скопление в Орле значительного числа лиц неблагонадежных, как известно из достоверного источника, получило начало от пребывания здесь бывших политических ссыльных Заичневского, Белоконского, Арцыбушева.
Орел считается агитаторами как наиболее населенный против Тулы и Курска, лучшим для жизни и заработков, особенно удобным для сношений со столицами. Прилив этих и других лиц, высланных по подозрению в политической неблагонадежности из столиц и городов, находящихся в усиленной охране, начался с 1885 г., когда возвратился в Орел Заичневский, а затем прибыл Арцыбушев…»
— Передайте теплые вещи через тюремную канцелярию! Распоряжусь, — устало заметил полковник, протирая пенсне с золоченой дужкой.
— Передать без свидания?! Как я узнаю, в чем именно нуждается подследственный? — с иронией заметила Яснева. — Нет уж, увольте! Разрешение на свидание в вашей власти — так сказали в канцелярии. Не откажите в любезности… К тому же необходимо узнать, кого из адвокатов следует пригласить. Конечно, в случае, если это досадное недоразумение не разрешится в ближайшие дни.
— Думаю, не разрешится! — Полковник забарабанил сухими пальцами по сукну. — На сей раз Петру Григорьевичу не так легко будет выпутаться. Последний обыск дал многое… Дело серьезное и обещает быть громким…
— Но изобличающих обстоятельств нет! Аделаида Романова, арестованная одновременно с Петром Григорьевичем, мне жаловалась и раньше на частые обыски…
— Вы знакомы с Романовой, проживающей с Заичневским в одной квартире? — насторожился полковник.
— Она секретарствовала у Петра Григорьевича. Известному литератору без секретаря невозможно! Согласитесь… — Яснева прямо взглянула в лицо полковника. — Подозревать не значит обвинять!
— Да-с. Изобличающих обстоятельств нет, вернее, очень мало, но есть строгое предписание из Петербурга. А пристав Халтурин в письме… — Полковник не договорил, встал из-за стола. — К Заичневскому у меня отношение доброе. Человек интересный, в обществе приятный. К тому же родовитый дворянин, владелец имения — и вдруг революционер! В Орловской губернии, видите ли, разыскали Робеспьера! Только предписание строжайшее: арестовать безотносительно к результатам обыска. Орловский Робеспьер!
Яснева тонко улыбнулась. Полковник, поняв, что она оценила шутку, также удовлетворенно улыбнулся.
— Все это — недоразумение! Заичневский не виноват. Рада, что встретила в вас человека образованного и либерального. Весьма приятное исключение… Разрешите взять Петра Григорьевича на поруки под денежный залог. — Мария Яснева протянула заранее подготовленное заявление. — Тюремное заключение он переносит тяжело.
— Увольте… Увольте… Содержание в тюремном замке как меру пресечения изменить не могу… Да-с, не могу!
— А свидание?
— Разрешу на двадцать минут.
— Мало, очень мало… Но что делать?
Дама, поблагодарив, ушла. Полковник долго стоял у раскрытого окна. Торопливо вернулся к столу и каллиграфическим почерком стал писать:
«Скопление в Орле значительного числа лиц неблагонадежных, как известно из достоверного источника, получило начало от пребывания здесь бывших политических ссыльных Заичневского, Белоконского, Арцыбушева.
Орел считается агитаторами как наиболее населенный против Тулы и Курска, лучшим для жизни и заработков, особенно удобным для сношений со столицами. Прилив этих и других лиц, высланных по подозрению в политической неблагонадежности из столиц и городов, находящихся в усиленной охране, начался с 1885 г., когда возвратился в Орел Заичневский, а затем прибыл Арцыбушев…»
В тюремном замке, в комнате для свиданий, Яснева была не впервые, каждый раз при этом испытывая чувство скованности и неловкости. Почерневший дубовый стол. Скамьи, спинки которых отполированы за долгие годы посетителями. Икона, подсвеченная лампадой. Звонкая тишина. Окно под потолком, затянутое частой сеткой. В коридоре послышались шаги. Тощий надзиратель открыл дверь и пропустил Заичневского. За эти две недели, что они не виделись, Петр Григорьевич сильно изменился. Ссутулился. Посуровел. Резко означились морщины на высоком лбу. Светло-голубые глаза его обрадованно сверкнули, когда Мария поднялась навстречу. — Славно, что вам удалось пробиться! — Он крепко пожал ей руку, выразительно посматривая на дежурного надзирателя. Мария Яснева сунула надзирателю кредитку. Тот осклабился и, засовывая деньги в карман, ушел, прикрыв дверь. — Допрашивали? В чем обвиняют? — быстро спросила Мария, опасаясь, чтобы не помешали разговору. — Разумеется… Следователь прислан из Петербурга. Благожелательный. Обходительный. Вкрадчивый. Мягко стелет, да жестко спать! Основной интерес к юнкерскому училищу. С кем виделся, о чем разговаривал… Ссылаются на глупейший адрес, которым приветствовали меня в номерах на Никольской. — У юнкеров прошли обыски… Взяли бумаги… — Так… Следователь размахивает ими, хотя ничего конкретного не выдвигает. У меня на квартире при аресте нашли письма юнкера Романова, велеречивые, напичканные глупостями. Прав Писарев: «Родительская палка лучше родительской ласки»! Аделаида эти письма не уничтожила, хотя я требовал, а сложила на дно сундука! Святая наивность! — Заичневский недоуменно пожал плечами. — Непозволительная глупость! Яснева загрустила. Она знала об этих письмах. Их показывал Леонид, когда приходил в кондитерскую на Серпуховскую, там неподалеку она снимала комнату. Юнкер положил на столик письма сестры из Орла. Прочитав их, она ужаснулась. Так откровенно говорить о политических вопросах! Советовала прекратить переписку, доказывая ее неразумность. Собиралась объясниться с Аделаидой, но не успела… — Конечно, следили давно, но последняя капля — перлюстрированные письма. В России все под запретом — мысли, знакомства, письма. — Заичневский поднялся, расправил широкие плечи. — Главное — сохранить силы, выработать единую линию поведения на следствии. Никакой тайной организации. Поездки в Москву вызваны литературными интересами. Встречи в номерах — желанием студентов потолковать о беллетристах-народниках… Мария понимающе кивала. — Труднее всего объяснить шифрованные письма из Курска. К сожалению, их не успели уничтожить. — Случайно нашли… Заслали не по адресу… — Разумеется, выкручусь! Если дело доведут до суда, тогда придется говорить! Статьи по политическим процессам, переданные вам, необходимо использовать для нелегальной печати, материал богатейший! — Заичневский помолчал и грустно заметил: — «Эй, собирайтесь на смену, старый звонарь отзвонил!» Нужно думать об организации. Теперь все на ваших руках. Арцыбушева допрашивали в качестве свидетеля. Дело привычное: сегодня свидетель — завтра подследственный! При вашей конспиративности вы должны удержаться. А посему укройте все, сберегите людей, предупредите юнкеров, чтобы пообчистились, научите, как вести при аресте. Яснева протянула Заичневскому клетчатый плед. Поежилась от тюремной сырости. С грустью вглядывалась в дорогое лицо. Неужели опять ссылка?! Как сдал за эти недели, но держится великолепно, словно плененный лев. — Как говорят, в драке волос не считают, но лучше было бы их считать! К арестам следует относиться спокойно. Обидно — арест на таком развороте работы… Главное — сохранить организацию. Дело всей моей жизни! Явки, связи, типографию, архив оставляю на вас! — Заичневский протянул руку. — Требую и надеюсь! — Ora è sempre! — ответила Мария. Яснева и Заичневский обнялись. Троекратно расцеловались. Мария заплакала. Заичневский ласково погладил ее по русым волосам. — Как Аделаида? — передавая теплые вещи, спросила Яснева, смахивая слезы. — Связь с ней установил через фельдшера. Аделаида в третьем корпусе. Настроение отвратное, но на допросах ведет себя умно. Здоровье ухудшилось, чахотка… Позаботьтесь о ней. — Заичневский накинул на плечи плед. — К тому же волнуется о брате… — С Леонидом пока все благополучно. После обыска его вызывал полковник, учитывая хорошие аттестации, под суд не отдал, грозился перевести в полк под Смоленск. Думаю, что уцелеет. Значит, мне придется возвратиться в Москву… Не хотелось бы вас оставлять одних… — И, заметив, как отрицательно затряс головой Заичневский, закончила: — Уеду в пятницу, сегодня буду терзать полковника — выбивать свидание с Аделаидой… Заскрипела дверь. Громыхнув ключами, появился надзиратель. Свидание закончилось.
Тургеневский бережок
В Орле стихи Апухтина, местного уроженца, были в большой моде. Барышни бредили сладкими рифмами, воспевавшими грусть и разочарованность. Для сегодняшней встречи Мария прихватила синеватый томик Апухтина, подражая губернским барышням. Машинально раскрыла книгу, начала читать:О смерть, иди теперь, без жалоб, без упрека;
Я встречу твой суровый лик.
Ты все-таки теплей, чем эти люди-братья:
Не жжешь изменой ты, не дышишь клеветой…
Раскрой же мне свои железные объятья,
Пришли мне, наконец, забвенье и покой.
 Аделаида в тюрьме… Заичневский в тюрьме… Арцыбушева допрашивали… Леонида выслали… Что будет с нею? Мария протерла стекла очков, которые начала носить с недавних пор. Неужели погибнет организация, столь хорошо законспирированная?! Пришли новые люди, молодые, неопытные. Вот группа юнкера Романова… К несчастью, Заичневского спасти не удалось, жандармы пришли раньше. Но теперь, когда она знает суть обвинения, нужно ехать в Москву, предупредить людей…
Заичневский торопил ее, но неожиданно в Орле пришлось задержаться. Прибыл человек от Синегора. Мария насторожилась. Вероятно, сказывались последние аресты. У тюрьмы после свидания с Аделаидой Романовой ее остановил молодой человек. Наружность приятная, располагающая. Оказывается, привез транспорт литературы из Одессы, а Заичневский в тюрьме! Уже третий день мотается по Орлу, да, к счастью, додумался подежурить около тюрьмы. Наткнулся на нее. Незнакомец, заметив недоверие, начал ссылаться на сестер Кокишевых. На квартире этих сестер Заичневский читал реферат о французской революции, на котором была и она. Правильно, был такой случай. И все же она не узнавала его. Это впервые. Зрительная память никогда ей не изменяла. На конспиративную квартиру не повела. Транспорта из Одессы не ожидали. Но главное — беспокоил откровенный интерес незнакомца к Заичневскому. Он настаивал на встрече с ней, отказываться было рискованно. Подумала и выбрала Тургеневский бережок — место, столь любимое орловцами. Сидела в беседке с колоннами, покрытыми блестящим льдом.
С высокого обрыва открывался красивый вид. Город утопал в белой дымке. Высоко взметнулись золотыми куполами соборы. Сверкала Ока, берега казались бескрайними, сливаясь со снежными полями. Слышался глухой треск взламываемого льда. Плакали ивы, распушив бело-желтые почки.
Мария подставила солнцу лицо, радуясь теплу. Отливал золотом рыжий лисий мех воротника. По широкой лестнице, запорошенной снегом, поднимался вчерашний незнакомец. Низко надвинутая шапка скрывала его лицо. Короткая суконная куртка распахнулась. На шее болтался цветастый шарф.
— Хорошо, что избрали такое уединенное место, — весело сказал он, оглядываясь по сторонам.
— «Уединенное»! Да в ротонде вся молодежь встречается! Ока в ледоход прекрасна. Всю ночь не спала — слушала, как грохочет река, содрогается от взрывов. Экая силища! — мечтательно заметила Мария. — Стихия! Глаз не оторвать!
— Ближе к делу. За эти дни все осточертело. Бегал. Искал, — прервал ее молодой человек. — Вот письмо от Синегора.
Письмо было коротким. Синегор рекомендовал молодого человека, просил ввести его в организацию, а как гостинец принять транспорт из пятнадцати брошюр — статьи Герцена и Огарева, изданные в Лондоне. Конечно, это капля в море, но голод на литературу большой. Транспорт оказался в багаже. Оставлен на вокзале, запрятанный в бельевой корзине. Молодой человек выразил желание развезти литературу по местам, на которые она укажет. Говорил скороговоркой, словно хотел поскорее закончить неприятную часть. Девушка, насторожившись, молчала, не проявляя интереса к литературе.
— Как там Синегор? — полюбопытствовала она, чтобы поддержать разговор.
— Неплохо. Слесарит в мастерской, обосновался солидно. Синегор дал явку к Кобылянскому на Верхнегостиную улицу, да за мною какие-то молодцы закружили… Решил не рисковать — сразу к Заичневскому.
— А что вас испугало?! — небрежно спросила Мария, ожидая, что незнакомец назовет ответную фразу пароля: «Бойцы вспоминали минувшие дни, где вжарких сраженьях сражались они».
— Всю дорогу твердил явку от Одессы до Орла. Пароль забыл, а Верхнегостиную улицу запомнил… — Молодой человек виновато развел руками.
Мария смотрела на него с интересом. Явка названа точно. Квартира Кобылянского в недавнем времени использовалась для явок. Но как можно забыть пароль, хотя бы назвал девиз организации! Ora è sempre!.. Впрочем, такие случаи бывают. Мария это испытала, приехав за литературой в Петербург. Счастье, что на улице наткнулась на Наталью Оловенникову.
— Мастерская у Синегора за Дюковским садом, — с удивительной точностью заметил незнакомец.
Яснева не перебивала, вопросов не задавала, слушала, подперев подбородок рукой.
— Синегор добром вспоминал вас. Очевидно, дружили, — заметил молодой человек; руки его теребили концы шарфа.
Это было неправдой. Синегора знала понаслышке. Из Курска в Одессу его направил Заичневский, чтобы организовать доставку литературы морским путем.
Молодой человек говорил оживленно. Сообщал детали, факты. И эта нарочитая точность настораживала.
— Синегор советовал разыскать вас, если Заичневского не окажется в городе.
— Я никогда из Орла не выезжаю… Только при чем здесь Заичневский?!
Молодой человек непонимающе посмотрел на нее и продолжал разговор:
— Синегор очень предусмотрителен, нарисовал карту города, чтобы избежать лишних расспросов. Стрелкой обозначил путь от вокзала до Верхнегостиной улицы.
— Синегор хорошо знает Орел, — удовлетворенно заметила Мария, а сама подумала: «Опять неправда: Синегор работал в Курске и Орла не знал». Помолчала и, оживившись, спросила: — Почему Синегор слесарит в Одессе?!
— Так он же слесарь!
— С чего это! Он — ветеринарный врач… Я хорошо его знаю, дружила с сестрой. — Мария остановила удивленный взгляд на незнакомце. — Кто вы?
Молодой человек отпрянул. Посмотрел дико, машинально завязал шерстяной шарф.
— А вы?
— Мечтаю стать революционеркой! В свое время Заичневский, мой дальний родственник, запретив думать об этом, охладил мои увлечения. — Придвинулась к молодому человеку и, наклонившись, доверительно попросила: — Литературу привезите в гостиницу. Я рассорилась с родственниками и временно проживаю там. Прочту с удовольствием. Площадь Полесская, напротив института Благородных девиц…
— Литературу в гостиницу?!
— А что особенного? Прошу, испытайте меня…
— Да вы с ума сошли!
— Тогда держите литературу на вокзале. Ведь у вас большие связи. Не могли бы сыскать рекомендательное письмо к госпоже Кириковой, начальнице института Благородных девиц?
— Госпожу Кирикову не имею чести знать! А Синегор?
— Ветеринарный врач! Он всегда мне нравился… Странный вопрос!
— Не ждите меня в гостинице, барышня, не играйте в революцию. Опасно!
И заскользил по обледеневшей лестнице. Мария с улыбкой смотрела на концы шарфа, разлетавшиеся в стороны.
Аделаида в тюрьме… Заичневский в тюрьме… Арцыбушева допрашивали… Леонида выслали… Что будет с нею? Мария протерла стекла очков, которые начала носить с недавних пор. Неужели погибнет организация, столь хорошо законспирированная?! Пришли новые люди, молодые, неопытные. Вот группа юнкера Романова… К несчастью, Заичневского спасти не удалось, жандармы пришли раньше. Но теперь, когда она знает суть обвинения, нужно ехать в Москву, предупредить людей…
Заичневский торопил ее, но неожиданно в Орле пришлось задержаться. Прибыл человек от Синегора. Мария насторожилась. Вероятно, сказывались последние аресты. У тюрьмы после свидания с Аделаидой Романовой ее остановил молодой человек. Наружность приятная, располагающая. Оказывается, привез транспорт литературы из Одессы, а Заичневский в тюрьме! Уже третий день мотается по Орлу, да, к счастью, додумался подежурить около тюрьмы. Наткнулся на нее. Незнакомец, заметив недоверие, начал ссылаться на сестер Кокишевых. На квартире этих сестер Заичневский читал реферат о французской революции, на котором была и она. Правильно, был такой случай. И все же она не узнавала его. Это впервые. Зрительная память никогда ей не изменяла. На конспиративную квартиру не повела. Транспорта из Одессы не ожидали. Но главное — беспокоил откровенный интерес незнакомца к Заичневскому. Он настаивал на встрече с ней, отказываться было рискованно. Подумала и выбрала Тургеневский бережок — место, столь любимое орловцами. Сидела в беседке с колоннами, покрытыми блестящим льдом.
С высокого обрыва открывался красивый вид. Город утопал в белой дымке. Высоко взметнулись золотыми куполами соборы. Сверкала Ока, берега казались бескрайними, сливаясь со снежными полями. Слышался глухой треск взламываемого льда. Плакали ивы, распушив бело-желтые почки.
Мария подставила солнцу лицо, радуясь теплу. Отливал золотом рыжий лисий мех воротника. По широкой лестнице, запорошенной снегом, поднимался вчерашний незнакомец. Низко надвинутая шапка скрывала его лицо. Короткая суконная куртка распахнулась. На шее болтался цветастый шарф.
— Хорошо, что избрали такое уединенное место, — весело сказал он, оглядываясь по сторонам.
— «Уединенное»! Да в ротонде вся молодежь встречается! Ока в ледоход прекрасна. Всю ночь не спала — слушала, как грохочет река, содрогается от взрывов. Экая силища! — мечтательно заметила Мария. — Стихия! Глаз не оторвать!
— Ближе к делу. За эти дни все осточертело. Бегал. Искал, — прервал ее молодой человек. — Вот письмо от Синегора.
Письмо было коротким. Синегор рекомендовал молодого человека, просил ввести его в организацию, а как гостинец принять транспорт из пятнадцати брошюр — статьи Герцена и Огарева, изданные в Лондоне. Конечно, это капля в море, но голод на литературу большой. Транспорт оказался в багаже. Оставлен на вокзале, запрятанный в бельевой корзине. Молодой человек выразил желание развезти литературу по местам, на которые она укажет. Говорил скороговоркой, словно хотел поскорее закончить неприятную часть. Девушка, насторожившись, молчала, не проявляя интереса к литературе.
— Как там Синегор? — полюбопытствовала она, чтобы поддержать разговор.
— Неплохо. Слесарит в мастерской, обосновался солидно. Синегор дал явку к Кобылянскому на Верхнегостиную улицу, да за мною какие-то молодцы закружили… Решил не рисковать — сразу к Заичневскому.
— А что вас испугало?! — небрежно спросила Мария, ожидая, что незнакомец назовет ответную фразу пароля: «Бойцы вспоминали минувшие дни, где вжарких сраженьях сражались они».
— Всю дорогу твердил явку от Одессы до Орла. Пароль забыл, а Верхнегостиную улицу запомнил… — Молодой человек виновато развел руками.
Мария смотрела на него с интересом. Явка названа точно. Квартира Кобылянского в недавнем времени использовалась для явок. Но как можно забыть пароль, хотя бы назвал девиз организации! Ora è sempre!.. Впрочем, такие случаи бывают. Мария это испытала, приехав за литературой в Петербург. Счастье, что на улице наткнулась на Наталью Оловенникову.
— Мастерская у Синегора за Дюковским садом, — с удивительной точностью заметил незнакомец.
Яснева не перебивала, вопросов не задавала, слушала, подперев подбородок рукой.
— Синегор добром вспоминал вас. Очевидно, дружили, — заметил молодой человек; руки его теребили концы шарфа.
Это было неправдой. Синегора знала понаслышке. Из Курска в Одессу его направил Заичневский, чтобы организовать доставку литературы морским путем.
Молодой человек говорил оживленно. Сообщал детали, факты. И эта нарочитая точность настораживала.
— Синегор советовал разыскать вас, если Заичневского не окажется в городе.
— Я никогда из Орла не выезжаю… Только при чем здесь Заичневский?!
Молодой человек непонимающе посмотрел на нее и продолжал разговор:
— Синегор очень предусмотрителен, нарисовал карту города, чтобы избежать лишних расспросов. Стрелкой обозначил путь от вокзала до Верхнегостиной улицы.
— Синегор хорошо знает Орел, — удовлетворенно заметила Мария, а сама подумала: «Опять неправда: Синегор работал в Курске и Орла не знал». Помолчала и, оживившись, спросила: — Почему Синегор слесарит в Одессе?!
— Так он же слесарь!
— С чего это! Он — ветеринарный врач… Я хорошо его знаю, дружила с сестрой. — Мария остановила удивленный взгляд на незнакомце. — Кто вы?
Молодой человек отпрянул. Посмотрел дико, машинально завязал шерстяной шарф.
— А вы?
— Мечтаю стать революционеркой! В свое время Заичневский, мой дальний родственник, запретив думать об этом, охладил мои увлечения. — Придвинулась к молодому человеку и, наклонившись, доверительно попросила: — Литературу привезите в гостиницу. Я рассорилась с родственниками и временно проживаю там. Прочту с удовольствием. Площадь Полесская, напротив института Благородных девиц…
— Литературу в гостиницу?!
— А что особенного? Прошу, испытайте меня…
— Да вы с ума сошли!
— Тогда держите литературу на вокзале. Ведь у вас большие связи. Не могли бы сыскать рекомендательное письмо к госпоже Кириковой, начальнице института Благородных девиц?
— Госпожу Кирикову не имею чести знать! А Синегор?
— Ветеринарный врач! Он всегда мне нравился… Странный вопрос!
— Не ждите меня в гостинице, барышня, не играйте в революцию. Опасно!
И заскользил по обледеневшей лестнице. Мария с улыбкой смотрела на концы шарфа, разлетавшиеся в стороны.
Старшая сестра
У развилки дороги виднелась черно-белая полосатая караульная будка. Мария остановила лихача. У шлагбаума прохаживался часовой с винтовкой. Рядом низкорослый юнкер. Дежурный по училищу юнкер с интересом рассматривал приближавшуюся даму. — Попросите юнкера Романова! — Дама поравнялась с караульной будкой. — Доложу офицеру! — вытянулся молоденький дежурный. — Офицеру? — мягко остановила его дама. — Сегодня у Леонида день рождения, дома приготовили ему сюрприз. — И, увидев, что юнкер колеблется, попросила: — Я — сестра Леонида. — Сегодня пятница, а свидания по воскресным дням! — Юнкер наклонил голову. — Порядок, сударыня! — Представьте, к вам приедет сестра за тысячу верст и ее не пропустят из-за формальностей?! — Но, сударыня… — Monsieur! Je veus voir mon frere![3] Мария развернула большую коробку, перевязанную красной лентой. Полыхнули глянцевитые маки. Стояла спокойная, гордая, в темно-голубом костюме, оттенявшем серый цвет глаз. Кокетливая шляпка на светлых волосах. — Прошу, monsieur! Время дорого, mon ami![4] Юнкер козырнул. Быстро пошел к красным казармам, видневшимся сквозь деревья. Мария не выпускала его из поля зрения. Смотрела, как поднялся по широким пологим ступеням, распахнул тяжелые двери. Показался Леонид, на ходу застегивавший шинель. Засмеялся, крепко пожал руку дежурному.
Леонид нетерпеливо вглядывался в поджидавшую его даму. «Верно, не узнал!» — решила Яснева, подняв шитую вуаль на поля шляпки. Юноша заулыбался. Высокий. Широкоплечий. Лицо с правильными чертами. Под выпуклым лбом выразительные глаза. Мягкая бородка и усики плохо уживались с молодостью.
— Наконец-то, mon frere! — бросилась Мария, прижала Леонида к груди и, не дав опомниться, поцеловала: — Поздравляю… Поздравляю…
Леонид краснел от смущения. Теребил пеструю ленту на коробке конфет. Умилялся дежурный. Девушка, увлекая Леонида в Лефортовский парк, приветливо подняла руку:
— Merci, mon ami![5]
В Лефортовском парке на дорожках, размытых вешними водами, проглядывала рыжая глина. Ноги утопали в вязкой грязи. Около уличного фонаря с разбитым стеклом прыгали черные грачи.
Яснева шла молча, слушала сбивчивый рассказ Леонида:
— Из Петербурга ждали великого князя. Начальство устроило обход, а потом начался обыск. Выворачивали тумбочки, просматривали вещи. — Леонид снял фуражку, провел платком по бобрику стриженых волос. — Обыск возмутил всех. Будущих офицеров обыскивали, как карманных воришек! С особым пристрастием господин полковник копался в моих личных вещах.
— Негодяи! А офицерская честь?
— Меня удаляют из училища! Бедная Аделаида… «Служить только одному делу, достижению известной цели»… Мало пришлось нам поговорить, мешала разница в возрасте, разъезды сестры, изливались больше в письмах. — Глаза Леонида полыхнули огнем. — Какие надежды возлагал на кружок саморазвития, на Петра Григорьевича… Не могу жить среди пустоты и пьянства. Мне нужна ваша поддержка.
— Удаляют из училища?!
— Да. Вызывал полковник. Потрясал расчерченными письмами Аделаиды. Посетовав о моей карьере, предложил выехать в Имеретинский сто пятьдесят седьмой пехотный полк.
— Где стоит полк? Под Смоленском?
— Нет! Под Саратовом. Как быть с кружком? Кто-то же должен остаться?
— Безусловно! А вам дадим надежные адреса в Саратове. Условие одно — осторожность! Я еще не сказала самого главного. Заичневский арестован…
— Арестован?! А сестра?
— Тоже… К несчастью, сохранились письма. Серьезная улика против Петра Григорьевича. Опять ссылка в Сибирь, кандалы, этап… Он немолод, болен. Как мы без него…
— Могу я помочь сестре? Заичневскому?..
— Помочь? Умным поведением на допросах, если что… Учтите! Заичневского никто не видел. Не знал! Нелегальные издания куплены на развале у Сухаревки. И прочая глупость!
— На развале у Сухаревки?! Разве там продают?
— А вам какое дело! Этим пусть интересуются господа хорошие! Прокламацию нашли в конке, можно в вагоне поезда, в библиотечной книге. Все дело случая! Не называть имен… Никого вы не знаете! Это первая заповедь!
— Как-то все обернется? Жаль сестру…
В Лефортовском парке стояли сосны в снегу, почерневшем от талых вод. От прогалин поднимался легкий пар, на обочине дороги пробивались кустики травы, по булыжникам звенели ручьи, завихряя в водовороте порыжевшие щепки.
Мария жадно вдыхала весенний запах леса. Густой. Смолистый. Любовалась деревьями, обсыпанными мелкой апрельской зеленью, набухшими почками на блестевших от вешнего сока березах.
— Завтра увидимся, Мария Петровна?
— Завтра? Кто знает! Будем сегодня обо всем договариваться….
— Прошу, monsieur! Время дорого, mon ami![4] Юнкер козырнул. Быстро пошел к красным казармам, видневшимся сквозь деревья. Мария не выпускала его из поля зрения. Смотрела, как поднялся по широким пологим ступеням, распахнул тяжелые двери. Показался Леонид, на ходу застегивавший шинель. Засмеялся, крепко пожал руку дежурному.
Леонид нетерпеливо вглядывался в поджидавшую его даму. «Верно, не узнал!» — решила Яснева, подняв шитую вуаль на поля шляпки. Юноша заулыбался. Высокий. Широкоплечий. Лицо с правильными чертами. Под выпуклым лбом выразительные глаза. Мягкая бородка и усики плохо уживались с молодостью.
— Наконец-то, mon frere! — бросилась Мария, прижала Леонида к груди и, не дав опомниться, поцеловала: — Поздравляю… Поздравляю…
Леонид краснел от смущения. Теребил пеструю ленту на коробке конфет. Умилялся дежурный. Девушка, увлекая Леонида в Лефортовский парк, приветливо подняла руку:
— Merci, mon ami![5]
В Лефортовском парке на дорожках, размытых вешними водами, проглядывала рыжая глина. Ноги утопали в вязкой грязи. Около уличного фонаря с разбитым стеклом прыгали черные грачи.
Яснева шла молча, слушала сбивчивый рассказ Леонида:
— Из Петербурга ждали великого князя. Начальство устроило обход, а потом начался обыск. Выворачивали тумбочки, просматривали вещи. — Леонид снял фуражку, провел платком по бобрику стриженых волос. — Обыск возмутил всех. Будущих офицеров обыскивали, как карманных воришек! С особым пристрастием господин полковник копался в моих личных вещах.
— Негодяи! А офицерская честь?
— Меня удаляют из училища! Бедная Аделаида… «Служить только одному делу, достижению известной цели»… Мало пришлось нам поговорить, мешала разница в возрасте, разъезды сестры, изливались больше в письмах. — Глаза Леонида полыхнули огнем. — Какие надежды возлагал на кружок саморазвития, на Петра Григорьевича… Не могу жить среди пустоты и пьянства. Мне нужна ваша поддержка.
— Удаляют из училища?!
— Да. Вызывал полковник. Потрясал расчерченными письмами Аделаиды. Посетовав о моей карьере, предложил выехать в Имеретинский сто пятьдесят седьмой пехотный полк.
— Где стоит полк? Под Смоленском?
— Нет! Под Саратовом. Как быть с кружком? Кто-то же должен остаться?
— Безусловно! А вам дадим надежные адреса в Саратове. Условие одно — осторожность! Я еще не сказала самого главного. Заичневский арестован…
— Арестован?! А сестра?
— Тоже… К несчастью, сохранились письма. Серьезная улика против Петра Григорьевича. Опять ссылка в Сибирь, кандалы, этап… Он немолод, болен. Как мы без него…
— Могу я помочь сестре? Заичневскому?..
— Помочь? Умным поведением на допросах, если что… Учтите! Заичневского никто не видел. Не знал! Нелегальные издания куплены на развале у Сухаревки. И прочая глупость!
— На развале у Сухаревки?! Разве там продают?
— А вам какое дело! Этим пусть интересуются господа хорошие! Прокламацию нашли в конке, можно в вагоне поезда, в библиотечной книге. Все дело случая! Не называть имен… Никого вы не знаете! Это первая заповедь!
— Как-то все обернется? Жаль сестру…
В Лефортовском парке стояли сосны в снегу, почерневшем от талых вод. От прогалин поднимался легкий пар, на обочине дороги пробивались кустики травы, по булыжникам звенели ручьи, завихряя в водовороте порыжевшие щепки.
Мария жадно вдыхала весенний запах леса. Густой. Смолистый. Любовалась деревьями, обсыпанными мелкой апрельской зеленью, набухшими почками на блестевших от вешнего сока березах.
— Завтра увидимся, Мария Петровна?
— Завтра? Кто знает! Будем сегодня обо всем договариваться….
Полковник Дудкин
— В море появилась кит-рыба, страшная, громаднющая. Подплыла к Соловецкому острову и чуть было не перевернула его со святой обителью. На небе показались два солнца и два месяца. В Курске выпал дождь из белок, а под Сабуровской крепостью осела стена. По Сибири пронеслась буря. Седые дубы с корнями бросала, словно малых детушек. Опосля троицына дня промелькнула комета в черных облаках. Весь народ орловский видел ее в полдень… Быть беде! Быть беде! — Старушка, маленькая, сухонькая, с огненными глазами, подняла худую руку: — Быть беде! — Нужно ждать мора!.. Агромаднейшего мора! — подтвердила ее собеседница, закутанная в старый платок. — Закаркали… Воронье проклятое! — не выдержала молодуха, укачивая грудного ребенка. — Что за радость добрых людей пугать! — Замолчи, бесстыжая! — резко оборвала ее старуха. — Молиться надо за грехи наши!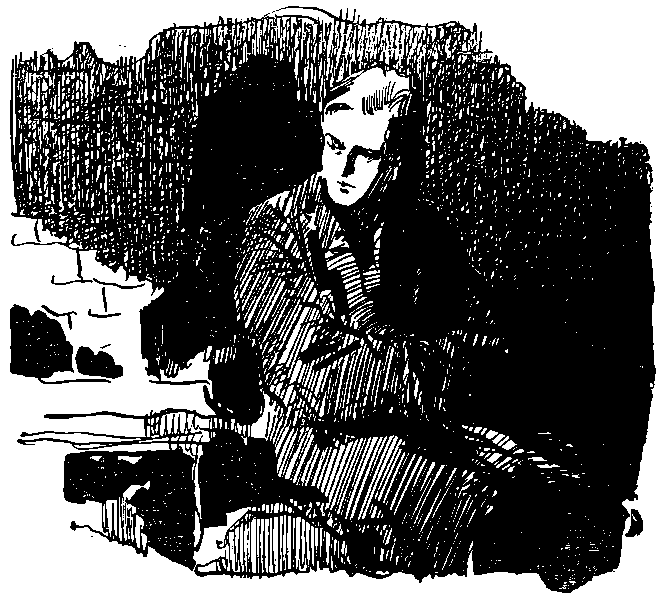 Яснева тихо следила за перебранкой арестанток. В камере, куда ее препроводили, содержались староверы. Нищие. Полуголодные. Фанатичные. В вечных ссорах. Их ждала ссылка на Север в глухие и гиблые места. Отправка задерживалась — подбирали партию…
Узкая камера, на стенах лишайник, на потолке набухла штукатурка от сырости, вздулась коростой, грозя обвалиться. Со средины потолка свисала лампа на низком шнуре. У почерневшего стола шаткая скамья. Вдоль стен деревянные нары с соломенными подушками, жесткими, вонючими. Под окном на полке глиняные миски. Рядом кружки. В крайней двенадцать ложек — по количеству арестанток. Узкий ящик с ломтями хлеба. В красном углу икона в железной оправе, строгая, безликая, с лампадой, трепещущей при каждом движении воздуха.
Женщины пристроились на нарах, слушали каторжанку, руки которой перехвачены тонкой цепью. Кажется, замешана в убийстве свекра. Глаза ее, карие, продолговатые, с тоской устремлены на новенькую, Ясневу. Из-под грязного халата виднеется холщовая рубаха с широким воротом. Рубаха из оческов, грубого холста, непростиранная, раздиравшая кожу до крови.
Яснева, которую администрация не посмела переодеть в тюремное платье, прислушивалась к разговору:
— А арестантики-то вчера бунтовали! Из-за рубах! Сняли рубахи да и ходили в чем мать родила. На проверке-то и строиться не захотели. Бегают с места на место. Унтер сосчитать не может! «Голый бунт»! Начальник тюрьмы прибежал, а они…
— Вот бы нам! Смеху-то! — предложила молодуха, перепеленывая ребёнка в старую рубаху.
— Пфу! Пфу! Оголтелые бесстыдницы! — затрясла головой старуха, поднимаясь с колен после молитвы. — Глазища-то вылупили, сатанинское отродье! Охальницы!
В камере захохотали. На старуху закричали, замахали руками.
— Придет господин начальник, а мы эти — Евы! — давясь от смеха, проговорила каторжанка. — Пускай попрыгает. Ведь мужикам-то исподнее сменили! Бунтуем завтра, бабоньки! Глядишь, одеяльце выдадут!
— Я поговорю с администрацией! — звонко сказала Мария. — По инструкции постельное белье положено!
— Эва, чего захотела… «По инструкции»! — издевалась каторжанка, простонав цепями. — Забудешь про инструкцию, коль помыкаешься с мое! Одна лишь забота — как бы по морде не смазали!
— Если меня ударят — убью! — тихо ответила Яснева. В голосе ее такая решимость, что арестантки умолкли.
— Грех! Грех убивать! — запричитала старуха, осенив себя двумя перстами. — Господь терпел и нам велел!
— Замолчи, бабка! Не лезь на рожон! — проворчала каторжанка, примирительно кивнув головой. — Кто политиков поймет?! Начальство и то побаивается!
Яснева отошла к окошку. Широкой полосой падал свет. Единственное место, где можно читать. Раскрыв томик Пушкина, который удалось пронести в тюрьму, старалась сдержать волнение. В томике записка, передали уголовные в перловой каше, голубой от медного котла. Почерк знакомый.
Яснева тихо следила за перебранкой арестанток. В камере, куда ее препроводили, содержались староверы. Нищие. Полуголодные. Фанатичные. В вечных ссорах. Их ждала ссылка на Север в глухие и гиблые места. Отправка задерживалась — подбирали партию…
Узкая камера, на стенах лишайник, на потолке набухла штукатурка от сырости, вздулась коростой, грозя обвалиться. Со средины потолка свисала лампа на низком шнуре. У почерневшего стола шаткая скамья. Вдоль стен деревянные нары с соломенными подушками, жесткими, вонючими. Под окном на полке глиняные миски. Рядом кружки. В крайней двенадцать ложек — по количеству арестанток. Узкий ящик с ломтями хлеба. В красном углу икона в железной оправе, строгая, безликая, с лампадой, трепещущей при каждом движении воздуха.
Женщины пристроились на нарах, слушали каторжанку, руки которой перехвачены тонкой цепью. Кажется, замешана в убийстве свекра. Глаза ее, карие, продолговатые, с тоской устремлены на новенькую, Ясневу. Из-под грязного халата виднеется холщовая рубаха с широким воротом. Рубаха из оческов, грубого холста, непростиранная, раздиравшая кожу до крови.
Яснева, которую администрация не посмела переодеть в тюремное платье, прислушивалась к разговору:
— А арестантики-то вчера бунтовали! Из-за рубах! Сняли рубахи да и ходили в чем мать родила. На проверке-то и строиться не захотели. Бегают с места на место. Унтер сосчитать не может! «Голый бунт»! Начальник тюрьмы прибежал, а они…
— Вот бы нам! Смеху-то! — предложила молодуха, перепеленывая ребёнка в старую рубаху.
— Пфу! Пфу! Оголтелые бесстыдницы! — затрясла головой старуха, поднимаясь с колен после молитвы. — Глазища-то вылупили, сатанинское отродье! Охальницы!
В камере захохотали. На старуху закричали, замахали руками.
— Придет господин начальник, а мы эти — Евы! — давясь от смеха, проговорила каторжанка. — Пускай попрыгает. Ведь мужикам-то исподнее сменили! Бунтуем завтра, бабоньки! Глядишь, одеяльце выдадут!
— Я поговорю с администрацией! — звонко сказала Мария. — По инструкции постельное белье положено!
— Эва, чего захотела… «По инструкции»! — издевалась каторжанка, простонав цепями. — Забудешь про инструкцию, коль помыкаешься с мое! Одна лишь забота — как бы по морде не смазали!
— Если меня ударят — убью! — тихо ответила Яснева. В голосе ее такая решимость, что арестантки умолкли.
— Грех! Грех убивать! — запричитала старуха, осенив себя двумя перстами. — Господь терпел и нам велел!
— Замолчи, бабка! Не лезь на рожон! — проворчала каторжанка, примирительно кивнув головой. — Кто политиков поймет?! Начальство и то побаивается!
Яснева отошла к окошку. Широкой полосой падал свет. Единственное место, где можно читать. Раскрыв томик Пушкина, который удалось пронести в тюрьму, старалась сдержать волнение. В томике записка, передали уголовные в перловой каше, голубой от медного котла. Почерк знакомый.
Осудили меня за восстание,
Принадлежность к союзу, хранение,
Нелегальных брошюр составление
И законов российских шатание,
А в награду за это страдание
Закатали другим в назидание,
Чтоб смирился бунтующий свет,—
На пятнадцать лет!
— «Яснева Мария, домашняя учительница, 28 лет, арестована 26 марта 1889 года, дочь титулярного советника, за счет костромского земства закончила курс учительской семинарии… Позднее в Москве Высшие женские курсы Герье… Привлечена к дознанию по статье 318 Уложения о наказаниях… Заключена под стражу в Орловском тюремном замке… — Полковник вскинул глаза, покрутил седой головой. — При аресте обнаружены гектографированные издания преступного содержания, как-то: «Программа Исполнительного Комитета «Народной воли», «Письмо Исполнительного Комитета Александру III», брошюра «В мире мерзости и запустения», литографированный каталог систематического чтения, рукопись «Николай Палкин»… Письма и фотографии, указывающие на преступную связь с Заичневским и Арцыбушевым…» Полковник откинулся в высоком кресле. Нахмурился. Глаза отчужденно и сердито поблескивали сквозь стекла золотого пенсне. — Ну-с, уважаемая! Кто бы ожидал! Вот и рекомендательное письмо пристава Халтурина! — Прошелся мелкими шажками по ковру, заложив старческие руки за спину. — Встреча-с! Яснева молчала, наслаждаясь светом, теплом. От яркого солнца болели глаза. Ей нездоровилось. Лихорадило, бил озноб, терзал кашель. — Так-с… «Как удар громовой» — в связи с убийством генерала Мезенцова… «Адское покушение на жизнь помазанника божьего»… Материалы самые рискованные, за хранение которых, а тем более за распространение каторга в лучшем случае. — Полковник шумно перелистывал папку. — А в худшем?! — Зря ершитесь! Вы больны, и тяжко. — Так освободите! — Только чистосердечное и правдивое показание облегчит участь! — Вы так добры ко мне, господин полковник. За любезность— любезность. Поищите предателей в другом месте! — Каждый понимает по-своему… — Безусловно! — Подумайте, — сухо заметил полковник, усаживаясь в высокое кресло и играя черным шнурком пенсне. — Откуда прокламации? — Нашла в вагоне поезда! — Я частенько разъезжаю, но почему-то мне они не попадаются. — Значит, не везло! И вы знаете, не только нашла прокламации, но и цинковый ящик. Кстати, о шрифте узнала только в жандармском управлении, когда его вскрыли. — До этого не догадывались?! — Не имею привычки заглядывать в чужие вещи! — А брать чужие вещи? А письма в Лондон? А шифрованная азбука под названием гамбетовская?.. — Господин случай великий шутник. Письма в Лондон нашла в книге из Публичной библиотеки. Не понимаю, о какой азбуке идет речь?! Гамбетовская?! Не представляю, что это такое! Но если вы утверждаете… Полковник выложил письма с колонками цифр. Красным карандашом повел по строкам. Мария наклонилась, принялась их рассматривать. Заныло сердце — письма из Лондона. Получила их недавно, думала передать Заичневскому… — Рад, что они вас заинтересовали! — усмехнулся полковник. — Потрудитесь расшифровать эти письма. — Расшифровать? Первый раз вижу… — Письма сами расшифруем! Пошлем в Петербург… Потребуется, конечно, время, а прочитать — прочтем! Я надеялся на вашу помощь. — Зря, зря… — Мария закашлялась. Полковник налил из кувшина воды. Придвинул стакан. — Значит, выступления Заичневского тоже не вы переписывали? — Полковник выдвинул ящик стола. — Это тоже не ваша рука? — Моя! К чему утруждать следствие! — удивленно повела плечами Мария. — Спросили бы сразу. К Заичневскому эта рукопись не имеет ни малейшего отношения. Просто переписала прокламацию, найденную в книге. — Романова их приписывает себе. — Что ж. Библиотекой может пользоваться каждый. Не понимаю вашей иронии! Мне бы хотелось получить свидание с Романовой. — Только этого не хватало! — зло парировал полковник. — Потрудитесь на меня не кричать! Очень обяжете! — упрямо сдвинула брови Яснева. — В противном случае на вопросы отвечать отказываюсь! — Последнее… Полковник веером распахнул снимки, взятые из правого ящика. Сердце Марии опять заныло. Друзья… Товарищи… Столько арестов за это время. Молча перебирала глянцевые фотографии, вглядывалась в дорогие лица. Юнкера пехотного училища… Курсистки с курсов Герье… Гимназисты… Полковник нюхал табак, терял терпение. А она вновь и вновь перебирала карточки. Наконец отложила две. — Кто такие? — мягко спросил полковник. Не знаю. Встречалась в тюрьме на прогулках. Метнув гневный взгляд, полковник помолчал, сдержался: — Подумайте — возможно, кого опознаете. Яснева снова принялась перебирать карточки. Протянула полковнику женский портрет. — Узнали? Встречала на балу в Дворянском собрании. Преотлично танцевала мазурку! — Достаточно! Наслушался ваших бредней. — Полковник с ненавистью смотрел на арестованную. — Возможность искупить вину чистосердечными показаниями вы не использовали! Что ж! Мария выпрямилась. Полковник нервно дернул шнурок.
Обвиняемые Заичневский и Арцыбушев по известному составленному ими плану с социально-революционными целями стремились образовать преступное сообщество, ближайшей задачей которого было группировать преимущественно из учащейся молодежи, и притом из разных сфер, в том числе и из круга лиц, состоящих на военной службе, кружки, в которых посредством тенденциозных чтений, сообщений и убеждений предполагали развить в членах кружков социально-революционные идеи и убеждения и такими средствами подготовлять молодых людей к будущей революционной деятельности. Внешним образом это преступное их намерение выразилось в образовании ими таких кружков в Москве, Орле и Курске, причем более резко выразилась эта деятельность и получила более прочное фактическое осуществление в Курске. План Заичневского, разделяемый и Арцыбушевым, по обнаруженным фактами дознания признакам характеризуется главным образом тем, что для революционных целей признается ими необходимым подготовлять из молодежи подходящий контингент лиц, которые бы, войдя в жизнь и заняв общественное положение, мог бы направить свою деятельность в революционном духе… …В кружок, сгруппированный Заичневским, входила Мария Яснева. С 1882 года она близко знакома с Заичневским, благодаря этим близким отношениям к последнему попала в кружок… Присутствовала в Москве на собрании, где Заичневский излагал свои взгляды… По Высочайшему повелению 22 августа 1890 года Яснева подчинена гласному надзору полиции на два года, вне местностей усиленной охраны, о чем было сообщено Орловскому губернатору, Московскому генерал-губернатору, Санкт-Петербургскому губернатору, Харьковскому губернатору, Войсковому наказному атаману войска Донского, Одесскому градоначальнику…
Мария Петровна сидела в низенькой комнате тюремной канцелярии, украшенной портретом государя императора, и читала приговор. Начальник тюрьмы, лысоватый, угрюмый, придвинул чернильницу, попросил расписаться. Аккуратно промокнул тяжелым прессом, рассмотрел завитки, поставленные Ясневой. Размеренным жестом достал из кожаного портфеля новую бумагу, положил ее перед осужденной.
…Ясневой как лицу, состоявшему под гласным строгим наблюдением, воспрещено, на общем основании, жительство в обеих столицах, С.-Петербургской губернии без срока, причем ограничение это может быть снято впоследствии по удостоверении местными властями ее безукоризненного поведения.
Начальник тюрьмы указательным пальцем провел черту. Мария вновь расписалась и поднялась. Значит, ссылка… Вернувшись в камеру, Мария долго сидела на койке. Неподвижно глядела на каменный пол, натертый графитом до блеска. Кажется, на полу вода, в которой отражается вся неприглядная обстановка: железная койка, кривоногая табуретка, шаткий стол. Кто-то из арестованных, проведя в камере пять лет, тщательно отполировал камень, спасаясь от безумия. Она тихо подошла к стене и, вынув из рукава арестантского бушлата гвоздь, начала по памяти решать алгебраические задачи. Резко ударила форточка. Часовой просвистел. Вызвал дежурного офицера, показал на стену, разрисованную формулами. Дежурный офицер, небритый, неряшливый, хрипло сказал: — Заниматься математикой и чертить стены, казенное имущество, по инструкции не полагается! — А что полагается? — насмешливо спросила Мария, не выпуская гвоздя из тонких пальцев. Офицер молча повернулся, хлопнул дверью. Загремел замок. Шаги удалялись. Мария села на койку, подавляя раздражение. «Что ж! Не плохо бы размяться». Подошла к окну, едва светящемуся сквозь лохмотья паутины. Глубоко вздохнула, широко разведя руки, выдохнула. Вдох-выдох… Вдох-выдох… Наклонилась, достав руками до скользкого пола. Голова чуть кружилась, ноги побаливали. «Дуреха, как ослабела… Возможно ли так запускать гимнастику?!» И опять наклон, наклон… Хлопнула форточка. Часовой кашлянул. Мария повернулась лицом к двери, не прекращая гимнастику. Часовой поднес ко рту свисток, болтавшийся на шнурке. Дежурный офицер явился неохотно. В камеру не заходил, лишь прокричал в форточку, сдерживая зевоту: — Заниматься гимнастикой по инструкции не полагается… Приказываю прекратить! — А что полагается?! — распрямилась Яснева. И опять захлопнулась форточка. Ржаво завизжала задвижка. Опять отдалялись шаги. Мария вытерла холодную испарину, прислонилась к столу. Взяла железную кружку, сделала несколько глотков. «Что ж! Отдохну… Сердце зашлось!» Она легла на койку, отвернулась к стене. Смотрела на расщелины, заляпанные глиной, словно заплатами, разгадывала фигуры, проступавшие поверх побелки. Сквозь дрему услышала свисток надзирателя, грохот запоров, раздраженный окрик: — Спать должно, обратясь лицом к двери! — Дежурный офицер помолчал и уныло добавил: — По инструкции прятать руки под одеяло не положено! Мария приподнялась, приложив платок к губам, сдерживая кашель, спросила: — А что полагается? Офицер повернулся на каблуках, вышел. Сердце девушки колотилось, ее душил гнев. Откашлявшись, вытерла кровь на губах. Сбросила одеяло, пропахшее мышиным пометом. Осторожно достала из-под подушки крошечные шахматные фигурки, сделанные из хлебного мякиша. Завести шахматы посоветовал Заичневский. Расчертила хлебным катышком стол на квадраты и начал расставлять фигурки. Конечно, требовалось изрядное воображение, чтобы в этих уродцах признать шахматных бойцов. Особенно нелепа королева. Белый хлеб в тюрьме — большая редкость. Пока-то соберешь шахматное войско! Спасибо добросердечной купчихе за крендель в воскресный день. Тогда разом закончила лепку. Шахматы она любила. Как часто, учительствуя в деревне, под вой ветра и стоны вьюги, разучивала партии с испанской защитой. Бережно передвигая фигуры, начала игру. Очарование разрушил офицер. Увлекшись, не заметила, как он подкрался: — Играть в азартные игры по инструкции не полагается! Офицер протянул руки, чтобы взять шахматы. Покориться! Яснева рванулась, сгребла их, запихнула в рот. Офицер сердито шевелил рыжими усами. Размеренно покачивался с пятки на носки. Арестантка торопливо заглатывала последнюю порцию. Смотрела уничтожающе, зло. Офицер вышел. Опять щелкнула форточка. Девушка скрестила руки на впалой груди и, не отрывая глаз от проклятой форточки, запела:
Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабил.
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу.
Кто осмелится сказать —
Велишь вешать и стрелять!
Самара
…Что же это за дикая расправа? И за что высылают? За что выбрасывают на улицу столько молодежи? За что лишают родину стольких работников? Кто дал правительству право губить Россию, заглушая в ней все честное… Из года в год повторяется подобная расправа. Из года в год правительство само создает кадры недовольных, само расшатывает свое основание. Расходившееся своеволие не знает предела, прикрывая произвол общим благом. Пусть же горячая вера, которой был так полон недавно умерший писатель, вера в то, что ни единая слеза не может пройти бесследно, что избранный правительством путь, облитый кровью, усеянный трупами, не может быть долог, — пусть эта горячая вера поддержит всех честных людей, уже давно отвернувшихся от своего правительства. Чем боле будет жертв, тем сильнее и громче будут проклятия, тем ближе день, когда русские люди потребуют отчета у своих вчерашних палачей. А сегодня этим палачам все-таки не следует забывать, что можно на штыки опираться, сидеть же на них — рискованно!!Яснева бережно держала в руках тонкий листок прокламации на смерть писателя Шелгунова. Она сняла очки, задумчиво посмотрела на собеседника. Долгов, пожилой человек с острой седой бородкой, слушал внимательно. — «Можно на штыки опираться, сидеть же на них рискованно!!»— повторил он последнюю фразу. — Что ж! Неплохо написано. Наконец-то дошла до нашей дыры! — Дыра?! После Орла Самара — столица! — Столица… Насмешили, голубушка. А как у вас со здоровьем? — Спасибо! Из тюрьмы еле выбралась. Кровь хлестала горлом. Друзья извелись, пока добились разрешения отправить меня на лечение в Ставрополь. Кумыс — преотличная вещь! Степи, горячее солнце, аромат трав… Правда, ни книг, ни газет! За эти два года, прошедшие после ареста в Орле, Яснева сильно изменилась: окрепла, поздоровела. Пышные русые волосы свободными волнами падали на плечи. Косы пришлось отрезать, сил не хватало ухаживать за ними в тюрьме… Высокий лоб чуть тронут загаром. Серые глаза под густыми бровями. Глухое платье из тяжелого шелка с высоким гипюровым воротником плотно облегало фигуру. — Да, лучшая красота — здоровье! — проговорил Долгов, подставляя гостье чашку крепкого чая. Она благодарно засмеялась. Сидели за вечерним чаем в крохотной гостиной, оклеенной цветными обоями. Обстановка в комнате простая. Стол под белой скатертью. Небольшое трюмо, рама выкрашена розовой краской. Диван с парусиновым чехлом. Плетеный коврик у двери. Самодельные стулья. Долгов был из народовольцев. Она взяла к нему явку, когда разрешили выбрать Самару для жительства. — Город мне нравится. Один Португалов чего стоит — белый балахон, белый зонт, калоши при солнце и черные очки. — Португалов — уникум. Доктор объявил войну холере. — Долгов добродушно гмыкнул. — Белая пыль на белом докторе, — засмеялась Мария. — В городе появилась холера. При голоде и неурожае — опасный сосед! Купцы Аржановы отливают двухсотпудовые колокола, в патриотическом усердии возводят медного истукана Александра Второго. А у земства нет денег ни на врачей, ни на лекарства…
 — Не найдется ли в Самаре гостеприимный дом? Как-то неуютно без друзей.
— Гостеприимных домов в Самаре найдется немало, но есть один особенный. Об Ульяновых слышали?
— Родственники Александра Ульянова?
— Да… прекрасные люди. Переехали из Казани. Поначалу жили на хуторе верстах в пятидесяти, а теперь обосновались в городе. Полиция этот дом не обходит вниманием… Советую приглядеться к Владимиру, младшему брату Александра.
— Народоволец, конечно?!
— Не берусь судить. Знаю одно — революционер безусловный!
— Введите меня в этот дом… Такая трагическая смерть. На пятерых осужденных три виселицы! Александр Ульянов должен был стоять и смотреть на мучения своих друзей. Тридцать минут… тридцать минут ожидания смерти! Какой ужас! Палачи… Теплая веревка… Садисты! Садисты…
— Да, в доме Ульяновых не говорят об Александре. Рана слишком глубокая… Мария Александровна едва вынесла это горе…
Долгов прошелся по комнате, помолчал.
— В Самаре и «старики» вам будут рады. Собираемся, живем прошлым. «Марксята» в этих домах не бывают. Скучно. Может, они и правы. Упрекают нас, «стариков», в отсталости, в незнании законов экономического развития… А мы их постигали на каторге!
— А Ульянов? Среди «марксят»? Хочется мне с ним познакомиться!
— Приходите в пятницу. Сначала к «старикам». Поговорим о французской революции — теме, близкой вам, как ученице Заичневского. Кстати, как здоровье Петра Григорьевича?
Девушка беспомощно развела руками. Нахмурилась. Серые большие глаза потемнели:
— Пока в каторжной тюрьме… Скоро отправят этапом. Он сильно прихварывает. Хотели освободить его под залог — отказали. Какой ум! И опять Сибирь!
— Не найдется ли в Самаре гостеприимный дом? Как-то неуютно без друзей.
— Гостеприимных домов в Самаре найдется немало, но есть один особенный. Об Ульяновых слышали?
— Родственники Александра Ульянова?
— Да… прекрасные люди. Переехали из Казани. Поначалу жили на хуторе верстах в пятидесяти, а теперь обосновались в городе. Полиция этот дом не обходит вниманием… Советую приглядеться к Владимиру, младшему брату Александра.
— Народоволец, конечно?!
— Не берусь судить. Знаю одно — революционер безусловный!
— Введите меня в этот дом… Такая трагическая смерть. На пятерых осужденных три виселицы! Александр Ульянов должен был стоять и смотреть на мучения своих друзей. Тридцать минут… тридцать минут ожидания смерти! Какой ужас! Палачи… Теплая веревка… Садисты! Садисты…
— Да, в доме Ульяновых не говорят об Александре. Рана слишком глубокая… Мария Александровна едва вынесла это горе…
Долгов прошелся по комнате, помолчал.
— В Самаре и «старики» вам будут рады. Собираемся, живем прошлым. «Марксята» в этих домах не бывают. Скучно. Может, они и правы. Упрекают нас, «стариков», в отсталости, в незнании законов экономического развития… А мы их постигали на каторге!
— А Ульянов? Среди «марксят»? Хочется мне с ним познакомиться!
— Приходите в пятницу. Сначала к «старикам». Поговорим о французской революции — теме, близкой вам, как ученице Заичневского. Кстати, как здоровье Петра Григорьевича?
Девушка беспомощно развела руками. Нахмурилась. Серые большие глаза потемнели:
— Пока в каторжной тюрьме… Скоро отправят этапом. Он сильно прихварывает. Хотели освободить его под залог — отказали. Какой ум! И опять Сибирь!
«У гармошки медны ножки»
Над Волгой висели застывшими клубами облака. Громоздились снежными айсбергами. Заходившее солнце опаляло их золотом. Мария в серой пелерине, наброшенной на плечи, стояла на берегу неподалеку от Струковского сада. Вдали заливалась саратовская гармоника, доносился грустный тягучий напев. Опускался густой туман. В вечерних сумерках проступали очертания деревьев. Поляна, зажатая кустарниками, казалась озером, покрытым рябью. За пригорком густой кисеей также висел туман. Плотный. Студенистый. Девушка сделала несколько шагов, чтобы попасть в пелену тумана, но туман отходил, укрывая деревья белой полосой. Вершины повисли в молочной мгле, грозя обрушиться на землю. Потянул ветерок. Туман ожил и отодвинулся назад, просачиваясь сквозь ветви, подобно лунному свету. Она раскинула руки — туман струился между пальцами, покрывая поляну крупными слезами росы. Поеживаясь от сырости, Яснева поднялась в Струковский сад с редкими уцелевшими листьями на деревьях. После знойного дня вечерняя свежесть казалась особенно приятной. Стояли тяжелые дни 1891 года. В Самаре голод и неурожай. Крестные ходы. Молебны. Дождей ждали, но дожди не шли. Зной выжигал хлеба, высушивал поля. Крестьяне, спасаясь от голода, тянулись в город. Забитые досками окна белели, будто могильные кресты, на заброшенных хатах. Город, заполненный народом, заставленный телегами, напоминал военный лагерь. На улицах вздувшиеся трупы лошадей. Бродят дети, нищие, опухшие от голода. — Тетенька! Подайте несчастному на пропитание!
Мария оглянулась. Мальчонка держался за материнскую юбку. Торчали пушистые вихры на большой голове. Блестели от голода глаза. Движения вялые, нерешительные. Женщина стояла молча, прижимая к груди ребенка, закутанного в грязное лоскутное одеяло. Она также была неестественно бледна. Те же запавшие глаза, заострившийся нос и посиневшие губы. Тот же горький взгляд.
— Откуда?! — У Марии перехватило голос.
— Теперича бездомные… Почто вспоминать! — Женщина безнадежно махнула рукой. — Тятенька смер, маменька смерла, а я вот с малыми сюда добралась… В дороге и муженек смер.
— Так с кем же вы здесь?
— Сродственник дальний на общественных работах…
— Берите! — Девушка отдала ридикюль, отошла быстрым шагом. В ушах тоскливое: «Тятенька смер, маменька смерла, муженек смер…»
По дорожке зашлепали босые ноги, как ладошки по воде. Мария обернулась. Мальчонка, путаясь в длинной холщовой рубахе, пытался ее догнать. Бежать он не мог, дышал тяжело, лицо покраснело. Она шагнула навстречу:
— Что случилось, малыш?! — погладила по вихрам. «Да, конечно, поблагодарить хочет!» Повернулась к матери, досадливо махнула рукой.
— Погодь! Погодь, барышня! — Женщина торопилась, часто останавливаясь, и с трудом переводила дыхание.
Мария присела на скамью. Женщина подошла к скамье, положила ребенка, будто узел, начала пеленать.
— Так откуда же родом? — Мария отодвинулась на край скамьи, уступив место.
С грустью смотрела она на младенца: вздувшийся животик, тонкие ножки, как увядшие стебельки. Лицо покрыто коростой, изрезано морщинами. Только глаза, голубые, ясные, напоминали материнские. Поиграла ленточкой. Ребенок схватил ее ручонками.
— Прости, касатка! Давеча сгоряча не хотела говорить. От горя — нищая стала! Ходишь день-деньской с протянутой ладонью, кусочничаешь!.. А мы ведь родом-то из Болван!
— Болван?! Что, село такое?! — улыбнулась Мария ее наивной гордости.
— Знамо, село. Знаменитое на всю губернию, а может, и более.
— Знаменитое! Чем же?
— Каменной бабушкой! Вот, касатка. На краю села стояла каменная бабушка! По пояс в землю вросла. Лицом на восток — каждый восход солнышка встречала. Лицо гладкое, хорошее, хотя глаз нет… То ли ветер их выветрил, то ли от горюшка закрыла навеки. Волосы в косу уложены кругом головы, — у нас так старухи носят. Скрестила на животе бабушка руки, тяжелые… Да и как им быть другими от крестьянской работы! В руках каменная чаша. Прохожий монеты клал. Бедняки их отдавали дьячку на помин души.
Мария слушала женщину с интересом. Она любила народные предания, да и женщина оживилась и будто помолодела.
— Бабушка стоит не одна. Кругом камни, седые да зеленые от мха. Не одну сотню лет лежат они под солнцем подле бабушки. Сказывают, камушки-то — овцы! Да-да, овцы! Когда-то бабушка пасла овец, помогала людям от хвори, лечила их травами. Мужики жили хорошо, даже овцы водились. Только злые да завистливые люди нашептали на бабушку богу напраслину. Рассердился бог и обратил бабушку в камень. Бог гневливый!
Яснева удивленно подняла густые брови — не часто услышишь такое от русской крестьянки. Отчаяние заставило ее сомневаться в извечной божественной справедливости.
— Бабушка и после своего превращения защищала село — уберегала посевы от градобития, спасала от засухи, предохраняла мужиков от холеры. Да случилась беда. Барин решил увезти нашу бабушку. Торговался на миру, деньги сулил. Дьячок ему вторил: мол, одни нехристи идолу поклоняются. Только мужики денег не взяли и бабушку не отдали… Увезли нашу бабушку темной ночью разбойники, а яму посыпали пеплом, ровно улетела на небо! Бог бабушку не любил и на небо ее не мог забрать. К тому же она охраняла от несчастья наше село! Как бабы голосили о бабушке, да что бабы — мужики и те… Ходоки разыскали ее. Стоит себе, сиротинушка, в господском парке у пруда. Оказывается, для похвальбы перед другими барами ее украли. — Женщина заплакала, размазывая слезы по худым щекам. — С тех пор начались в селе беды. Дожди прекратились. Засуха. Хлебушек не высеивали — не принимала его земля… Горюшко горькое! Лишились нашей заступницы, каменной бабушки, и не стало на белом свете села Болван…
Мария молчала. Не хотелось лишать женщину наивной веры. Каменная бабушка…
Женщина встала, низко поклонилась, схватила мальчонку за руку. Мария долго смотрела ей вслед. Виднелось цветастое одеяло да волочился мальчонка, держась за грязную юбку.
Голод. Вчера в доме акцизного чиновника, детей которого готовила в гимназию, Мария видела так называемый голодный хлеб. Черный, сухой, из гороховой муки и картошки, он чем-то напоминал торф. В домах считалось хорошим тоном иметь «голодный хлеб». В обществе устраивали «журфиксы». Благотворительность раздражала Марию, и она не принимала участия в этой шумихе. Голодающие искали работы. Осаждали дом губернатора на Дворянской улице. Но губернатор проводил все дни в постах и молитвах. Ханжа! Комнаты его белокаменного дома увешаны иконами. В церквах губернатор клал земные поклоны, ангелам на сводах посылал воздушные поцелуи! Где тут думать о помощи голодающим?
Недавно в город приезжал принц Ольденбургский, «холерный диктатор». Правительство, испугавшись голода, выделило деньги, но они уходили, как вода в песок. Начались бунты. Убивали докторов, перекатывались слухи, что господа нарочно травят бедняков… В общественных столовых давились за «голодным хлебом». Придумывались общественные работы. Заработок мизерный, и все же несметные толпы ждали этих мизерных грошей. В Самаре закладывали бухту для зимней стоянки пароходов. Во главе сиятельный болтун граф Ливен. Бездельник и интриган, граф даже у либералов имел дурную репутацию.
Однажды граф Ливен приехал на дамбу. Сухопарый. В белом шерстяном костюме. Граф осторожно, словно журавль, вышагивал по дамбе, покрытой глиной. Высокомерно поднял голову. Голодающие замерли. Граф осматривал работы! Шумел внизу весенний паводок. К дамбе вели тонкие дощечки. Граф слетел и барахтался в грязи. Инженеры кинулись, вытащили его. Граф укатил на рысаках — он сделал для голодающих даже невозможное!
Неподалеку от Марии прошла компания мастеровых. Парень с кудрявым чубом наигрывал на саратовской гармонике, окованной медью и увешанной колокольчиками. Сочным баритоном задористо выговаривал:
— Тетенька! Подайте несчастному на пропитание!
Мария оглянулась. Мальчонка держался за материнскую юбку. Торчали пушистые вихры на большой голове. Блестели от голода глаза. Движения вялые, нерешительные. Женщина стояла молча, прижимая к груди ребенка, закутанного в грязное лоскутное одеяло. Она также была неестественно бледна. Те же запавшие глаза, заострившийся нос и посиневшие губы. Тот же горький взгляд.
— Откуда?! — У Марии перехватило голос.
— Теперича бездомные… Почто вспоминать! — Женщина безнадежно махнула рукой. — Тятенька смер, маменька смерла, а я вот с малыми сюда добралась… В дороге и муженек смер.
— Так с кем же вы здесь?
— Сродственник дальний на общественных работах…
— Берите! — Девушка отдала ридикюль, отошла быстрым шагом. В ушах тоскливое: «Тятенька смер, маменька смерла, муженек смер…»
По дорожке зашлепали босые ноги, как ладошки по воде. Мария обернулась. Мальчонка, путаясь в длинной холщовой рубахе, пытался ее догнать. Бежать он не мог, дышал тяжело, лицо покраснело. Она шагнула навстречу:
— Что случилось, малыш?! — погладила по вихрам. «Да, конечно, поблагодарить хочет!» Повернулась к матери, досадливо махнула рукой.
— Погодь! Погодь, барышня! — Женщина торопилась, часто останавливаясь, и с трудом переводила дыхание.
Мария присела на скамью. Женщина подошла к скамье, положила ребенка, будто узел, начала пеленать.
— Так откуда же родом? — Мария отодвинулась на край скамьи, уступив место.
С грустью смотрела она на младенца: вздувшийся животик, тонкие ножки, как увядшие стебельки. Лицо покрыто коростой, изрезано морщинами. Только глаза, голубые, ясные, напоминали материнские. Поиграла ленточкой. Ребенок схватил ее ручонками.
— Прости, касатка! Давеча сгоряча не хотела говорить. От горя — нищая стала! Ходишь день-деньской с протянутой ладонью, кусочничаешь!.. А мы ведь родом-то из Болван!
— Болван?! Что, село такое?! — улыбнулась Мария ее наивной гордости.
— Знамо, село. Знаменитое на всю губернию, а может, и более.
— Знаменитое! Чем же?
— Каменной бабушкой! Вот, касатка. На краю села стояла каменная бабушка! По пояс в землю вросла. Лицом на восток — каждый восход солнышка встречала. Лицо гладкое, хорошее, хотя глаз нет… То ли ветер их выветрил, то ли от горюшка закрыла навеки. Волосы в косу уложены кругом головы, — у нас так старухи носят. Скрестила на животе бабушка руки, тяжелые… Да и как им быть другими от крестьянской работы! В руках каменная чаша. Прохожий монеты клал. Бедняки их отдавали дьячку на помин души.
Мария слушала женщину с интересом. Она любила народные предания, да и женщина оживилась и будто помолодела.
— Бабушка стоит не одна. Кругом камни, седые да зеленые от мха. Не одну сотню лет лежат они под солнцем подле бабушки. Сказывают, камушки-то — овцы! Да-да, овцы! Когда-то бабушка пасла овец, помогала людям от хвори, лечила их травами. Мужики жили хорошо, даже овцы водились. Только злые да завистливые люди нашептали на бабушку богу напраслину. Рассердился бог и обратил бабушку в камень. Бог гневливый!
Яснева удивленно подняла густые брови — не часто услышишь такое от русской крестьянки. Отчаяние заставило ее сомневаться в извечной божественной справедливости.
— Бабушка и после своего превращения защищала село — уберегала посевы от градобития, спасала от засухи, предохраняла мужиков от холеры. Да случилась беда. Барин решил увезти нашу бабушку. Торговался на миру, деньги сулил. Дьячок ему вторил: мол, одни нехристи идолу поклоняются. Только мужики денег не взяли и бабушку не отдали… Увезли нашу бабушку темной ночью разбойники, а яму посыпали пеплом, ровно улетела на небо! Бог бабушку не любил и на небо ее не мог забрать. К тому же она охраняла от несчастья наше село! Как бабы голосили о бабушке, да что бабы — мужики и те… Ходоки разыскали ее. Стоит себе, сиротинушка, в господском парке у пруда. Оказывается, для похвальбы перед другими барами ее украли. — Женщина заплакала, размазывая слезы по худым щекам. — С тех пор начались в селе беды. Дожди прекратились. Засуха. Хлебушек не высеивали — не принимала его земля… Горюшко горькое! Лишились нашей заступницы, каменной бабушки, и не стало на белом свете села Болван…
Мария молчала. Не хотелось лишать женщину наивной веры. Каменная бабушка…
Женщина встала, низко поклонилась, схватила мальчонку за руку. Мария долго смотрела ей вслед. Виднелось цветастое одеяло да волочился мальчонка, держась за грязную юбку.
Голод. Вчера в доме акцизного чиновника, детей которого готовила в гимназию, Мария видела так называемый голодный хлеб. Черный, сухой, из гороховой муки и картошки, он чем-то напоминал торф. В домах считалось хорошим тоном иметь «голодный хлеб». В обществе устраивали «журфиксы». Благотворительность раздражала Марию, и она не принимала участия в этой шумихе. Голодающие искали работы. Осаждали дом губернатора на Дворянской улице. Но губернатор проводил все дни в постах и молитвах. Ханжа! Комнаты его белокаменного дома увешаны иконами. В церквах губернатор клал земные поклоны, ангелам на сводах посылал воздушные поцелуи! Где тут думать о помощи голодающим?
Недавно в город приезжал принц Ольденбургский, «холерный диктатор». Правительство, испугавшись голода, выделило деньги, но они уходили, как вода в песок. Начались бунты. Убивали докторов, перекатывались слухи, что господа нарочно травят бедняков… В общественных столовых давились за «голодным хлебом». Придумывались общественные работы. Заработок мизерный, и все же несметные толпы ждали этих мизерных грошей. В Самаре закладывали бухту для зимней стоянки пароходов. Во главе сиятельный болтун граф Ливен. Бездельник и интриган, граф даже у либералов имел дурную репутацию.
Однажды граф Ливен приехал на дамбу. Сухопарый. В белом шерстяном костюме. Граф осторожно, словно журавль, вышагивал по дамбе, покрытой глиной. Высокомерно поднял голову. Голодающие замерли. Граф осматривал работы! Шумел внизу весенний паводок. К дамбе вели тонкие дощечки. Граф слетел и барахтался в грязи. Инженеры кинулись, вытащили его. Граф укатил на рысаках — он сделал для голодающих даже невозможное!
Неподалеку от Марии прошла компания мастеровых. Парень с кудрявым чубом наигрывал на саратовской гармонике, окованной медью и увешанной колокольчиками. Сочным баритоном задористо выговаривал:
Шурка, Шурка, где ты был?
На Самаре ямку рыл.
Ну, а польза есть иль вред?
Вам про это знать не след!
Как голодные живут?
Ах, отлично: пухнут, мрут.
Ну, и вредный же народ:
Князь толстеет, а он мрет.
Отчего же это так?
Князю рупь, а им пятак.
Значит, есть большой изъян?
Нет, «светлейший» вечно пьян!
«Мужайся! Мужайся!»
— Убейте! Замучьте! Моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила.
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит.
— Злодей! — закричали враги, закипев: —
Умрешь под мечами! — Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
 С грустью смотрела Мария на заброшенный домик. На ветру покачивался желоб, забитый ломкими сучьями и опавшими листьями, ударялся о железную бочку. От реки поднимался свежий ветер. Девушка зябко куталась в платок, поглубже засовывала руки в плюшевую муфту. Осень принесла дожди, по выжженная земля их не принимала. Так и стояли вдоль дорожки рыжие от глины лужи.
Мария ждала заката, который был так хорошо виден из забитого дворика. За изгородью прошла молоденькая девушка с тонкой гибкой талией, прошла торопливо, как большинство жителей, боясь неожиданных встреч.
Вечерняя заря захватила полнеба, заливая улочки розовым туманом. Проступали темные уступы деревьев да полуразвалившаяся труба дома, озаренного последними лучами. Вдали виднелась река, обмелевшая после засухи. Солнце еще не опустилось, но уже засверкал неясный рожок месяца. Ширился холодный ветер, вороша вороньи гнезда и разбрасывая пригоршни песка.
Девушка сидела в своей любимой позе, наклонив голову. Глаза ее задумчиво смотрели на затухавшее солнце. Закат не принес обычного успокоения. Она волновалась. Долгов, зашедший перед обедом, пригласил ее вечером к Ульяновым. Встреча с семьей Александра Ульянова, перед памятью которого преклонялась, тревожила ее.
— «Мы скажем всей России: смотрите, как умеют бороться и умирать твои революционеры! Мы глубоко запечатлели их славные имена в своих сердцах и будем воспитывать на их примере себя и лучших детей своей земли. Мир вашему праху, дорогие братья! Вы честно исполнили свой долг, вы твердой рукой поддержали знамя борьбы за свободу и правду! Глубокое спасибо вам и вечная память!» — прошептала Мария слова листовки, ходившей по рукам после казни.
С грустью смотрела Мария на заброшенный домик. На ветру покачивался желоб, забитый ломкими сучьями и опавшими листьями, ударялся о железную бочку. От реки поднимался свежий ветер. Девушка зябко куталась в платок, поглубже засовывала руки в плюшевую муфту. Осень принесла дожди, по выжженная земля их не принимала. Так и стояли вдоль дорожки рыжие от глины лужи.
Мария ждала заката, который был так хорошо виден из забитого дворика. За изгородью прошла молоденькая девушка с тонкой гибкой талией, прошла торопливо, как большинство жителей, боясь неожиданных встреч.
Вечерняя заря захватила полнеба, заливая улочки розовым туманом. Проступали темные уступы деревьев да полуразвалившаяся труба дома, озаренного последними лучами. Вдали виднелась река, обмелевшая после засухи. Солнце еще не опустилось, но уже засверкал неясный рожок месяца. Ширился холодный ветер, вороша вороньи гнезда и разбрасывая пригоршни песка.
Девушка сидела в своей любимой позе, наклонив голову. Глаза ее задумчиво смотрели на затухавшее солнце. Закат не принес обычного успокоения. Она волновалась. Долгов, зашедший перед обедом, пригласил ее вечером к Ульяновым. Встреча с семьей Александра Ульянова, перед памятью которого преклонялась, тревожила ее.
— «Мы скажем всей России: смотрите, как умеют бороться и умирать твои революционеры! Мы глубоко запечатлели их славные имена в своих сердцах и будем воспитывать на их примере себя и лучших детей своей земли. Мир вашему праху, дорогие братья! Вы честно исполнили свой долг, вы твердой рукой поддержали знамя борьбы за свободу и правду! Глубокое спасибо вам и вечная память!» — прошептала Мария слова листовки, ходившей по рукам после казни.
Мария закрывает глаза руками. Плачет. Она хорошо помнила те страшные дни, скупые сообщения газет о процессе над первомартовцами. Заговор обнаружили. Полиция проследила террористов на Невском. Метальщики с бомбами ждали выезда государя. Бомбы напоминали книги — большие, плоские. Александр, студент Петербургского университета, собственноручно набивал их динамитом, вставлял запалы… Государь не проехал мимо Аничкина дворца, изменив маршрут. Метальщиков арестовали, арестовали и Ульянова. На судебной скамье Александр держался с достоинством. Он понимал, за что умирал!Его портрет в нелегальных изданиях запомнился ей на всю жизнь. Черные вьющиеся волосы и тонкое, одухотворенное лицо. Крепко сжатый рот и трагические глаза. И вот теперь с семьей Александра Ульянова знакомилась Мария Петровна… Увидеть мать, которая смогла сказать сыну перед казнью: «Мужайся! Мужайся!»… — Я знала, что больше не увижу его… Не помню, как пришла домой. Легла. Чувствовала, что больше жить не могу. Никаких мыслей, одно желание — смерть. Да, смерть, чтобы ничего не чувствовать. Сколько лежала, не знаю. Вспомнила девочку… Ей-то всего было восемь. — Мария Александровна сокрушенно покачала головой. — Я забыла о ней, забыла обо всем… И тут я поняла: нельзя умирать, надо жить! Девушка с нежностью смотрела на Марию Александровну Ульянову. Невысокая. Худощавая. Густые седые волосы. Тонкое лицо. Суховатыми пальцами она быстро перебирала спицы с зеленой шерстью. Они сидели в просторной столовой с большим квадратным столом под хрустящей белоснежной скатертью, накрытым для вечернего чая — простые фарфоровые чашки, тарелочки, резная сухарница, вазочки с вишневым вареньем. Ульяновы жили скромно на пенсию, получаемую после смерти Ильи Николаевича. Яснева старалась как можно чаще бывать в этом радушном и гостеприимном доме. Нравилась атмосфера дружбы и уважения, царившая в семье, простой и строгий уклад. Сегодня Мария Александровна сделала исключение — заговорила о своем старшем сыне. У девушки не хватило мужества продолжить этот разговор. Но получилось невольно. Заговорили о Петербурге, и Мария Александровна вспомнила те страшные дни. Яснева молчала, подавленная мужеством и простотой этой женщины. Мария Александровна поняла ее состояние, пожала руку, зазвенев спицами, спросила: — Почему надумали выбрать Самару? — Случайно… Совершенно случайно! Хотела после тюрьмы задержаться в Твери. Близко к столицам, да и народу ссыльного хватает. Отказали. Разложила карту и решила, куда же мне двинуться под гласный надзор. Ведь столицы и еще двадцать два города — исключались! Решилась — Самара! В полиции даже обрадовались. Город слывет благонамеренным, хотя и прозывается «Русским Чикаго»! — «Русским Чикаго»?! — удивилась Мария Александровна, целуя в лоб свою дочь Анну, вошедшую в столовую. Анна пришла не одна. Вместе с ней был Скляренко, с которым Яснева уже оказалась знакома. — Любопытно, Самара стала претендовать на звание «Русского Чикаго», — повторила Мария Александровна, поглядывая на дочь. — Так мне сказал полковник Дудкин, когда я начала колебаться… В Орле с трудом отыскала явку к Долгову, а из Москвы прислали адрес доктора Португалова. — Лицо Марии порозовело от смеха. — Португалов поразил меня сразу. Идет по Дворянской среди пыльного облака, словно по пустыне. Белый балахон, белый капюшон надвинут на глаза, в руках огромный зонт, на ногах сапоги… Почему-то именно таким я представляла европейца в пустыне, когда училась в гимназии. Мария Александровна улыбнулась. — Человек он милейший! Посоветовал, как лучше устроиться, порекомендовал несколько уроков… — Заметив тревожный взгляд Марии Александровны, девушка быстро сказала: — Нет, теперь все позади. Так о Португалове… Чай пили из ведерного самовара, пили долго, вкусно. Попахивало дымком и клубничным вареньем. В гостиной на стенах в аккуратных рамах портреты классиков, а над ними славянской вязью: «Соль земли русской!» Меня очень развеселила эта надпись, а Португалов укоризненно покачал головой: «Вот, мол, невежда!» — Яснева заразительно рассмеялась. — Велись нудные разговоры о погоде, об архитектуре, о городских новостях… Собралась уходить, а Португалов вдруг начал превосходно рассказывать о парижской канализации, которую ему довелось осматривать в бытность во Франции. — Португалов — добряк и образованный человек. Правда, несколько старомоден, но это не такой уж большой грех! — заметила Анна. Она сидела за роялем, разбирала ноты, поджидая, когда вся семья соберется к вечернему чаю. Плотная, подобранная, в черном глухом платье. Лицо ее с крупными чертами было красиво. Густые коротко остриженные волосы открывали чистый лоб. Узкие черные глаза как-то по-особенному вспыхивали, когда она встречала взгляд матери. Помолчав, она продолжала: — Мы приехали в Самару в дни смерти Чернышевского. Все были потрясены. Но особенно разошлись страсти, когда доставили «Русские ведомости». В злополучном некрологе идеи Чернышевского назывались «заблуждениями», каторга — «искуплением»! Конечно, молодежь возмутилась. В Петербург полетели телеграммы о «лакействе перед правительством», «об осторожности, которая переходит в подлость»! — Потом решили устроить политическую демонстрацию. Радикалы, либералы высказывались за гражданскую панихиду. На кладбище собралось человек пятьдесят. В часовенке стоял, едва держась на ногах, пьяный попик с красным распухшим носом. Гнусаво отслужил панихиду «о блаженном успении и вечном покое новопредставленного раба божьего Николая» за пятерку… А потом конфуз — попик приглашал на сорокоуст! — Скляренко снял синие очки, протер их. Без очков лицо его стало мягче, приятнее. Скляренко нравился Яеневой. Знала, что выслали его за политику, знала о его дружбе с Ульяновыми. — Владимир долго хохотал над злосчастным сорокоустом… Когда пришло известие о смерти Шелгунова, то панихиды уже не служили, — продолжал густым баритоном Скляренко. — Мало толку от таких протестов! Либералы душу тешат! И по сей день Чернышевского упоминать в официальной печати невозможно. Как-то я просматривал «Юридический вестник» — там дошли до виртуозности: «автор очерков гоголевского периода русской литературы» — так теперь означается Чернышевский! — Возмутительно! Народ наш далек, чтобы понимать такое иносказание! Когда мы сумеем поднять уровень народный… Когда мы достигнем сплошной грамотности… — Мария подошла к Скляренко, предложив прокламацию. — Привезли из Петербурга. — Это хорошо! — Скляренко протянул руку, измазанную фиолетовой краской. — Не отмываются, проклятые! Спасибо, полиция в Самаре в первородном состоянии, а то несдобровать… О народе вы поете старую песню. — Почему?! Рабочий класс в России не стал политической силой. А мужик… — запальчиво возразила девушка. Скляренко досадливо перебил ее, даже не дослушав: — Не будете же вы кричать, как неумные ваши единомышленники, что «марксисты хотят обезземелить крестьян», «радуются разорению деревни» и «мечтают во что бы то ни стало превратить мужика в пролетариев»! — Скляренко резко взмахнул рукой, словно подчеркнул вздорность возражений. — Однажды в реферате я привел цифры о безлошадных крестьянах, так на меня пальцем показывали: «Вам их боли не понять, вам их не жалко! Вы сидите и спокойно констатируете эти явления!» Вот и поспорь с вашим братом! — А почему вы думаете, что я не разделяю этих взглядов?! — Мне кажется, что вы умнее. Впрочем, если я ошибаюсь, то сожалею… — Скляренко критически оглядел Ясневу. Она рассмеялась, махнув рукой, миролюбиво заметила: — Вы как-то нарочито оглупляете идеи народничества. — Просто говорю об этих «идеях» правду, — сердито заметил Скляренко. — Вы с ним не спорьте, Мария! — засмеялась Анна. — А то он кулаки пустит в ход! — Ну, уж и кулаки! — проворчал Скляренко. — Шпика-то исколотили, что ходил за вами?! Да как! Он и дорогу забыл! — Анна, шурша шелковым платьем, подсела к матери, начала разматывать шерсть. — Милый Скляренко заметил, что в дом, в котором он снимал комнату, въехал пренеприятный субъект. — Проходу не давал! Поганец! — недовольно подтвердил Скляренко, не замечая веселых искорок в черных глазах Анны. — Вот именно — шпик! Всякий разумный человек сделал бы вид, что ничего не произошло, или сменил бы квартиру… Но Алексей Павлович рассудил иначе. Прекрасным утром поднялся в комнату к жильцу, сжал пудовые кулачищи. Диалог оказался захватывающим: «Чем вы здесь занимаетесь?»— «Я… я… портной», — ответил шпик, заикаясь. «Ах, портной, так мне нужно сшить брюки. Беретесь? К вечеру принесу материал». Шпик онемел, с трудом выдавил: «Я не перевез мастерскую…» — «Так, значит, мастерскую не перевез, а сам уж шпионишь?! — навалился Скляренко. — Даю срок до вечера, чтобы духа твоего здесь не было… Не перевез! Прохвост. Повстречаемся!» Хлопнул дверью так, что штукатурка посыпалась, и сбежал по лестнице, громыхая сапогами. — И что же сделал шпик? — спросила Яснева. — Как — что?! Конечно, съехал. Алексей Павлович такими вещами не шутит — заведет в глухое место и… Бог силушкой не обидел! В столовой засмеялись. Ласково улыбалась Мария Александровна. Прикрыла рот ладошкой Маняша, худенькая гимназистка в коричневом форменном платье. Лишь Скляренко стоял насупленный, обиженный, как большой ребенок. Вид его был так потешен, что смех долго не утихал. Наконец засмеялся и сам Скляренко. — «Там, в кровавой борьбе в час сраженья, клянусь, буду первым я в первых рядах», — послышался в дверях сильный молодой голос с приятной картавостью. — Наконец-то, Володюшка! — отозвалась Мария Александровна, поднимаясь с кресла. — Не усидел… Здесь такое веселье! — Владимир поклонился, быстро подошел к матери, нежно поцеловал ее руку. Яснева пытливо рассматривала Владимира, о котором так была наслышана. Наконец-то довелось познакомиться, а то все его не заставала дома. Крепкий, сильный. В простой косоворотке, подпоясанной толстым витым шнуром. Карие глаза с огоньком. Высокий лоб. Выглядел он старше своих лет. — Вот и славно! Как поработалось, Володюшка?! — ласково спросила Мария Александровна, укладывая вязание в корзину для рукоделия. — Спасибо, мамочка! Хорошо! — Владимир подошел к Ясневой, изучающе взглянул на нее: — Надолго к нам? — От меня не зависит… Под гласный надзор на два года. Привлекалась по делу Заичневского. — Якобинка?! — сразу же заинтересовался Владимир. — Мы должны о многом поговорить. Это очень интересно… С якобинцами не встречался… — О многом хочется поговорить и мне! — значительно заметила Мария, не отрывая глаз от своего собеседника. — Все разговоры после чая! — Мария Александровна решительно замахала руками. — Прошу к столу…
— Значит, вы якобинка?! — Да, якобинка, и притом самая убежденная!.. Они шли по сонным улицам города. Яснева и Ульянов. Светила луна, полная, яркая, как в первые дни новолуния. Скованная морозцем земля похрустывала под ногами. Мария поглубже надвинула котиковую шапочку, прижала муфту. Владимир осторожно вел свою собеседницу под руку. За чаем у Ульяновых засиделись. Владимир разговаривал мало. Сражался со стариком Долговым в шахматы, был задумчив. Начали прощаться. Мария Александровна, взглянув на часы, всплеснула руками: как доберется до дома девушка! Время позднее, на улицах полно пьяных, да в темноте и ногу сломать недолго… Владимир вызвался проводить ее. Мария обрадовалась. На разговор она возлагала особенные надежды. — Проклятое земство! До какого состояния довели город: улицы залиты грязью, перерыты канавами, а купчины ставят царям монумент за монументом! — сердито сказала Мария, держась за руку спутника. Они остановились на краю канавы, разделявшей улицу, неподалеку от Струковского сада. Ноги девушки скользили по замерзшим комьям глины. — Ни конки, ни трамвая, ни зеленого кустика — ничего не увидишь в современном «Чикаго»! Все забито «минерашками», а попросту там водку продают… В Думе двадцать лет мусолят закон о прокладке водопровода! Даже милейший Долгов, земец и либерал, возмущается. — В Думе занимаются безвредным для государственного строя лужением умывальников! — Владимир помолчал и с сердцем добавил: — Народного бедствия стараются не замечать! — Чему удивляться?! Всего лишь десять лет тому назад на Троицкой площади стоял эшафот с позорным столбом… Средневековье! На грудь жертве привязывали доску, и пьяный палач в красной рубахе брал в руки кнут… — Голос Марии дрожал от возмущения. — Хозяйка моя с ужасом вспоминает по сей день… Нас спасет революция. Владимир молчал. Карие глаза в темноте казались почти черными. Мария говорила с жаром: — Революцию начнет молодежь. Народ поддержит. Россия должна покончить с вековой спячкой и развить капиталистическое производство. — Значит, в России нет собственного капиталистического производства?! А полтора миллиона рабочих?! — парировал Ульянов. — И все же у нас нет собственного производства… Нет противоречий, нет тех условий, которые позволили бы оторвать мужика от земли! — горячилась Мария. — Народники… — Народники фарисейски закрывают глаза на невозможное положение народа, считая, что достаточно усилий культурного общества и правительства. — Владимир, заметив протестующий жест девушки, повторил: — Да, и правительства, чтобы все направить на правильный путь. Некие господа, от которых вы впитали эту премудрость, прячут головы наподобие страусов, чтобы не видеть эксплуататоров, чтобы не видеть разорения народа. — Вы неправы! — Прав! Позорная трусость, нежелание понять, что единственный выход в классовой борьбе пролетариата, того пролетариата, рождение которого вы не признаете. Когда же об этом говорят социал-демократы, то в ответ — непристойные вопли… Нас упрекают в желании обезземелить народ! Где пределы лжи?! — Ульянов снял фуражку и обтер высокий лоб платком. Мария слушала напряженно, заинтересованно. Двадцать один год! Однако… — Михайловский острит, обливает грязью учение Маркса. С видом оскорбленной невинности возводит очи горе и спрашивает: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое учение?! Выхватывает из марксистской литературы сравнение Маркса с Дарвином и, жонглируя, вопрошает: «Несколько обобщающих, теснейшим образом связанных идей, венчающих целый Монблан фактического материала. Так где же собственная работа Маркса?!» — Голос Ульянова зазвенел от негодования. — А метод Маркса, открытый им в исторической науке?! Слона-то он и не приметил! — Я отдаю должное Марксу… Тут я не разделяю взглядов Михайловского, столь красочно обрисованного. Но ведь дело не в том, чтобы вырастить самобытную цивилизацию из российских недр, и не в том, чтобы перенести западную цивилизацию. Надо брать хорошее отовсюду, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос практического удобства. — Яснева твердо взглянула на Ульянова. — Практического удобства?! Брать хорошее отовсюду, и дело в шляпе! Браво! От средневековья — принадлежность средств производства работнику, от капитализма — свободу, равенство, культуру… Утопия и величайшее невежество… — Заметив, как нахмурилась Мария, резко бросил: — Дикое невежество! Отсутствие диалектики! Чтение народнической литературы оказывает дурное влияние на вас, Мария Петровна! У Михайловского дар, умение, блестящие попытки поговорить и ничего не сказать. — «Блестящие попытки поговорить и ничего не сказать»! — засмеялась Мария, прикрывая муфтой лицо от ветра. — С вами очень трудно спорить, просто-таки невозможно! — А вы спорьте, если чувствуете правоту! Есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор. — Владимир устало махнул рукой. — Это все к Михайловскому. Я занят работой утомительной, неблагодарной, черной… Собираю разбросанные там и сям гнусные намеки, сопоставляю их, мучительно ищу серьезного довода, чтобы выступить с принципиальной критикой врагов марксизма. Временами не в состоянии отвечать на тявканье — можно только пожимать плечами! — «В сущности общественная форма труда при капитализме сводится к тому, что несколько сот или тысяч рабочих точат, бьют, вертят, перекладывают, тянут и совершают еще множество других операций в одном помещении. Общий характер этого режима прекрасно выражается поговоркой: «Каждый за себя, а уж бог за всех», — блеснула цитатой Яснева. — Прекрасная память! Но при чем тут общественное производство?! — пожал плечами Ульянов. — Старые пошлости школьной экономии сводить общественные формы труда к работе в одном помещении. — А Маркс в «Капитале» говорит… — Маркс, марксизм… — Ульянов с легкой грустью продекламировал:
Wer wird nicht einen Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? Nein.
Wir wollen wenider erhoben
Undd fleissiger gelesen sein[6].
Этапный двор
Голубев потирал окоченевшие руки, блаженно прислонившись к русской печи. Невысокий. Худощавый. С лысеющим лбом. Темное пенсне криво сидело на тонком носу. На руках цепи, побелевшие от инея. От тепла лед оттаивал, капал на затоптанный пол. Заичневский в арестантском халате с бубновым тузом на спине копался в книгах, разложенных на грубо сколоченном столе. У двери на лавке дремал конвойный казак, облокотившись на ружье. Мария вынимала из плетеной корзины копченую колбасу и белые булки. Наконец-то после долгого пути ей посчастливилось догнать партию каторжан, с которой уходил в Сибирь Заичневский. — Вы подумайте, Петр Григорьевич! Замешкался бы на полчаса мой возница, и опять бы пришлось догонять партию. — Мария радостно уставляла стол яствами, давно не виданными Заичневский. — Толком никто не знает, куда гонят партию, когда ее можно ждать, а тут эти морозы… Ужас… Ведь всего лишь конец ноября. Я не сентиментальна, но готова плакать от счастья. — «Совсем уж мы не сентиментальный народ: мы — или богатыри, или зубоскалы» — так, кажется, у Писемского? — заметил Заичневский. — Морозам удивляться не приходится — Сибирь-матушка! Ветры… Стужа… Но больше всего досаждают пьяные казаки да отсутствие книг. Спасибо, судьба послала Василия Семеновича. У него хватило остроумия назваться моим племянником. И представьте — родственные отношения уважают, нас не разделяют, а когда я слег с пневмонией, то Василию Семеновичу разрешили ухаживать. Ни о чем так не тоскуешь в этапе, как о книгах! Яснева с тревогой поглядывала на осунувшееся и постаревшее лицо Петра Григорьевича, с нездоровой синевой под глазами, одутловатостью. Седой, совершенно седой. — Пересмотрю книги, Машенька, тогда начну слушать рассказ о России, а пока, поверьте, не могу! Руки от жадности дрожат. Как часто мне недоставало их. Нонешний этап — самый трудный изо всех. Сдаю, видно… — Петр Григорьевич в этапе восклицал, как император Август: «Вар, Вар, верни мне мои легионы!» — Голубев с нежностью посмотрел на Заичневского и, обернувшись к девушке, добавил: — То бишь, государь, государь, отдай мне мои книги! — Только глас мой остался гласом вопиющего в пустыне. Несмотря на опытность, на взятки, книги выкидывали из котомки. — Заичневский приподнял голову. — Скорее бы добраться до Иркутского острога… Вы, дружок, пока с Василием Семеновичем полюбезничайте. Человек он молодой и без дамского общества одичал. Заичневский прикрутил керосиновую лампу, сделал ровнее свет и, схватив булку, начал есть, не выпуская книгу из рук. Мария засмеялась: «Заичневский не изменился, все тот же. Теперь уже ничем его не отвлечь». Она закуталась в шерстяной платок и подошла к Василию Семеновичу, гревшемуся у русской печи.
— Промерз до костей. Ветер со льдом. Избил, искусал! Тулупы не выдали, хотя должны бы. Так и дрожали в возке, согревая друг друга телами. От тряски кружилась голова, укачивало, словно при морской болезни. Спасибо Петру Григорьевичу — он все порядки знает… С ним считаются, а то бы… — Голубев безнадежно качнул головой, закашлялся.
— «Чахотка, — сразу насторожилась Яснева. — Чахотка и ссылка в Сибирь!» Подала стакан с водой. Голубев смущенно улыбнулся.
— У меня здесь банка со снадобьями. Столетник, мед, сливочное масло. По столовой ложке три раза в день. Не спорьте! — прибавила, уловив его отрицательный жест. — Сама попала в Орловский тюремный замок больной. Спасли друзья вот этой отравой… В Сибирь привезла на всякий случай. Возьмусь за вас, Василий Семенович, благо никого лечить не приходилось после деревни. Там-то я врачевала, даже операцию сделала, и удачно!
Василий Семенович благодарно взглянул на нее, с недоверием покачал головой.
— В это средство нужно верить! Все натуральное — вреда нет…
— Меня при аресте надзиратели «химиком» окрестили. Взяли с последнего курса естественного факультета по делу Бруснева. До тюремщиков почему-то дошло, что я химик. Как-то вечерком надзиратели разговорились: «Начальство тебе химика посадило… Ты следи за арестантом». Я вслушивался, удивляясь учености блюстителей закона. «Что с того! Химик так химик!» — «Химик что нечистый! — вразумлял его напарник. — Из тюрьмы легко убежать может, пройдет сквозь стены… А если тарелку с кашей или миску с супом…» — «То?!» — «Уйдет! Как есть уйдет! А тебя, бедолагу, в Сибирь за содействие побегу!» — «За содействие побегу! — обалдело повторил мой надзиратель, верзила саженного роста. — Вот горе горькое!» С тех пор он даже ночами проверял прочность запоров. А позднее…
Василий Семенович замолчал. Девушка смеялась. Проснулся казак, посмотрел осоловелыми глазами, громыхнул ружьем.
— Чем же все закончилось?
— Лишили прогулок! — философски заметил Василий Семенович, проведя рукой по низко остриженному затылку.
— Дела… — протянула Мария.
— Кстати, мать всегда боялась тюрьмы, вернее, боялась за меня. Женщина она добрая, простая. Богатство к нам пришло нежданно. Отец был умельцем, золотые руки. На Всемирной выставке в Париже выстроил павильон в духе русской классики, изба искусной резьбы. Павильон произвел сенсацию. Посыпались заказы, деньги. Отец получил Большую золотую медаль и звание купца первой гильдии. Тогда он завел в Петербурге два больших дома на Суворовском, начал учить детей в гимназии. Вот тут-то и забеспокоилась моя мать. Гимназия, университет ее пугали. Голубев болезненно скривил рот.
— В университет поступил, когда от запоя умер отец. У знакомых встретил Бруснева. Из технологов. Встреча эта решила мою судьбу. У технологов образовался кружок саморазвития. Кстати, в дни покушения Александра Ульянова на квартиру Бруснева принесли лабораторию… Азотную кислоту… Селитру. После казни все это долго хранилось у Бруснева.
— Александр Ульянов… — Мария Петровна встрепенулась. — В Самаре познакомилась с его семьей. Брат его Владимир Ильич — удивительный человек. Эрудит и знаток Маркса!
— Интересно… Значит, не стал народником, как старший брат… Как все странно! После казни первомартовцев потянулись черные дни. Повальные аресты, в университете полиция… К счастью, вернулся из ссылки Карелин, народоволец, сдружился с Брусневым, жизнь закипела. Он хотел вербовать смелых террористов, а мы вырастить с Брусневым российского Бебеля!
— Российский Бебель!
— Завели конспиративную квартиру, на которой и хранили две пары штатского платья. Студенческие шинели городовые не любили встречать на окраинах. Занимались рабочие усердно, но с литературой подлинное бедствие. Создали кассу… Я ею заведовал до самого ареста. — Голубев помолчал и закончил: — Да, бедовали от недостатка литературы.
— «Дайте свободу русскому слову, уму нашему тесно в цензурных колодках!»
— Герцен прав! Цензура вытравила живую мысль из книг! — Василий Семенович взглянул на девушку. Лицо ее, обрамленное светлыми волосами, было красиво. Белый платок мягкими складками лежал на плечах. — «Как омуты и глубокие воды тянут человека темной ночью в неизвестную глубь — тянуло меня в Россию»… Я только теперь понял всю мудрость Герцена. Вы вернетесь в Россию, а я пойду дальше в Сибирь… Тяжко и грустно! Неужели больше мы не встретимся?!
— Почему?! — Мария подала теплый плед, набросила на его худые плечи. — Расскажите о себе… Мне хочется знать все.
Глаза Голубева засветились.
— На заводе Торнтона вспыхнула стачка. Наша группа напечатала на гектографе прокламацию, собрала деньги, даже газету выпустила. Верите ли, рабочие зачитали ее так, что хлопья одни остались.
— Славно!
— Славно… Но в эти дни приехал из Воронежа человек, стал через общих знакомых добиваться встречи… Человек оказался провокатором! И вот я здесь на пять лет.
— Многовато!
— Матушка словно в воду глядела. Сильно она плакала, когда меня отправляли этапом! Бедняжка… Арестовали накануне похорон Шелгунова. Я очень дружил с покойным. Обидно, не смог проводить его в последний путь… Как он дорожил рабочими, как радовался, когда получил, уже больной, от них адрес! За гробом Шелгунова рабочий слесарь нес венок: «Указателю пути к свободе и братству…»
Мария смотрела на Голубева широко раскрытыми глазами. Протянула руку. Было жалко этого тихого, больного человека.
— Рассказать, как я делала деньги в Орле? Денег нет, а деньги нужны. Надумала проводить вечера с платными буфетами, выручка — в партийную кассу. В одной из комнат гремели недозволенные речи, молодежь валила на эти вечера. Полиция?! — Мария хитро прищурила глаза. — Я приглашала пристава, когда брала разрешение на вечер. Пристав приходил, но его ждали специалисты… Отводили в боковушку у буфета и напаивали до чертиков. Однажды в конце вечера пристав вышел в публику благодарить за честь!
— И публика была довольна?!
— Конечно… Народ поговорил, и пристав при исполнении служебных обязанностей. Только счастье недолговечно. Прошли аресты, и те же либералы отказывались предоставлять свои квартиры. Началось комедиантство! Однажды кто-то из земцев пригласил молодежь. Хозяйка, нацепив бриллианты, угощала гостей чаем, печеньем. Но при разговоре о политике хозяйка падала в обморок! — Мария решила повеселить Василия Семеновича. — Даму выносили из гостиной на руках, бегала горничная с грелками, а потом выходил хозяин с постным лицом… Народ расходился злой, недовольный… Да, кстати, как это вы переодевались, когда шли к рабочим?
— Переодевались?! А на квартире у Бруснева. Надевали высокие сапоги, поношенное пальто. Любители брали сажу из трубы, мазали руки. Мастеровой! Камуфляж помогал… Так и шагаешь из конца в конец по Питеру. Однажды произошел курьез. Началась перепись. Студенты, конечно, кинулись подработать. Мне достался дом на Обводном канале, где проходили занятия кружка! Какая напасть! Дворник, безусловно, связан с охранкой, он-то и повел меня по дому, а там рабочее общежитие. Кружковцы от удивления руками развели. Обошлось, но переволновался! Когда арестовали…
— Заключение переносили тяжело? — спросила Мария, придвинувшись к Василию Семеновичу.
— Тяжело. Семью свою очень люблю, скучал без матушки, без сестер. Был один способ убить время — чистка посуды. От сырости зеленела, вид самый неказистый. Истолчешь кирпич да на суконную тряпку: час усердного труда — и таз горит червонным золотом. За тазом — кувшин для воды, суповая миска…
— Я в тюрьме лепила из хлеба шахматные фигурки и глотала при опасности…
Голубев оглянулся. Заичневский сидел за столом, погруженный в книги. Крупная голова его склонилась, седые кольца волос падали на глаза. Нетерпеливо взмахивая рукой, он подносил к близоруким глазам раскрытые страницы.
За окном, облепленным белым мхом, гулял ветер да уныло гудела непогода. Сонный казак встрепенулся. Увидел Заичневского, сладко зевнул и захрапел, облокотившись на ружье.
Заичневский прикрутил керосиновую лампу, сделал ровнее свет и, схватив булку, начал есть, не выпуская книгу из рук. Мария засмеялась: «Заичневский не изменился, все тот же. Теперь уже ничем его не отвлечь». Она закуталась в шерстяной платок и подошла к Василию Семеновичу, гревшемуся у русской печи.
— Промерз до костей. Ветер со льдом. Избил, искусал! Тулупы не выдали, хотя должны бы. Так и дрожали в возке, согревая друг друга телами. От тряски кружилась голова, укачивало, словно при морской болезни. Спасибо Петру Григорьевичу — он все порядки знает… С ним считаются, а то бы… — Голубев безнадежно качнул головой, закашлялся.
— «Чахотка, — сразу насторожилась Яснева. — Чахотка и ссылка в Сибирь!» Подала стакан с водой. Голубев смущенно улыбнулся.
— У меня здесь банка со снадобьями. Столетник, мед, сливочное масло. По столовой ложке три раза в день. Не спорьте! — прибавила, уловив его отрицательный жест. — Сама попала в Орловский тюремный замок больной. Спасли друзья вот этой отравой… В Сибирь привезла на всякий случай. Возьмусь за вас, Василий Семенович, благо никого лечить не приходилось после деревни. Там-то я врачевала, даже операцию сделала, и удачно!
Василий Семенович благодарно взглянул на нее, с недоверием покачал головой.
— В это средство нужно верить! Все натуральное — вреда нет…
— Меня при аресте надзиратели «химиком» окрестили. Взяли с последнего курса естественного факультета по делу Бруснева. До тюремщиков почему-то дошло, что я химик. Как-то вечерком надзиратели разговорились: «Начальство тебе химика посадило… Ты следи за арестантом». Я вслушивался, удивляясь учености блюстителей закона. «Что с того! Химик так химик!» — «Химик что нечистый! — вразумлял его напарник. — Из тюрьмы легко убежать может, пройдет сквозь стены… А если тарелку с кашей или миску с супом…» — «То?!» — «Уйдет! Как есть уйдет! А тебя, бедолагу, в Сибирь за содействие побегу!» — «За содействие побегу! — обалдело повторил мой надзиратель, верзила саженного роста. — Вот горе горькое!» С тех пор он даже ночами проверял прочность запоров. А позднее…
Василий Семенович замолчал. Девушка смеялась. Проснулся казак, посмотрел осоловелыми глазами, громыхнул ружьем.
— Чем же все закончилось?
— Лишили прогулок! — философски заметил Василий Семенович, проведя рукой по низко остриженному затылку.
— Дела… — протянула Мария.
— Кстати, мать всегда боялась тюрьмы, вернее, боялась за меня. Женщина она добрая, простая. Богатство к нам пришло нежданно. Отец был умельцем, золотые руки. На Всемирной выставке в Париже выстроил павильон в духе русской классики, изба искусной резьбы. Павильон произвел сенсацию. Посыпались заказы, деньги. Отец получил Большую золотую медаль и звание купца первой гильдии. Тогда он завел в Петербурге два больших дома на Суворовском, начал учить детей в гимназии. Вот тут-то и забеспокоилась моя мать. Гимназия, университет ее пугали. Голубев болезненно скривил рот.
— В университет поступил, когда от запоя умер отец. У знакомых встретил Бруснева. Из технологов. Встреча эта решила мою судьбу. У технологов образовался кружок саморазвития. Кстати, в дни покушения Александра Ульянова на квартиру Бруснева принесли лабораторию… Азотную кислоту… Селитру. После казни все это долго хранилось у Бруснева.
— Александр Ульянов… — Мария Петровна встрепенулась. — В Самаре познакомилась с его семьей. Брат его Владимир Ильич — удивительный человек. Эрудит и знаток Маркса!
— Интересно… Значит, не стал народником, как старший брат… Как все странно! После казни первомартовцев потянулись черные дни. Повальные аресты, в университете полиция… К счастью, вернулся из ссылки Карелин, народоволец, сдружился с Брусневым, жизнь закипела. Он хотел вербовать смелых террористов, а мы вырастить с Брусневым российского Бебеля!
— Российский Бебель!
— Завели конспиративную квартиру, на которой и хранили две пары штатского платья. Студенческие шинели городовые не любили встречать на окраинах. Занимались рабочие усердно, но с литературой подлинное бедствие. Создали кассу… Я ею заведовал до самого ареста. — Голубев помолчал и закончил: — Да, бедовали от недостатка литературы.
— «Дайте свободу русскому слову, уму нашему тесно в цензурных колодках!»
— Герцен прав! Цензура вытравила живую мысль из книг! — Василий Семенович взглянул на девушку. Лицо ее, обрамленное светлыми волосами, было красиво. Белый платок мягкими складками лежал на плечах. — «Как омуты и глубокие воды тянут человека темной ночью в неизвестную глубь — тянуло меня в Россию»… Я только теперь понял всю мудрость Герцена. Вы вернетесь в Россию, а я пойду дальше в Сибирь… Тяжко и грустно! Неужели больше мы не встретимся?!
— Почему?! — Мария подала теплый плед, набросила на его худые плечи. — Расскажите о себе… Мне хочется знать все.
Глаза Голубева засветились.
— На заводе Торнтона вспыхнула стачка. Наша группа напечатала на гектографе прокламацию, собрала деньги, даже газету выпустила. Верите ли, рабочие зачитали ее так, что хлопья одни остались.
— Славно!
— Славно… Но в эти дни приехал из Воронежа человек, стал через общих знакомых добиваться встречи… Человек оказался провокатором! И вот я здесь на пять лет.
— Многовато!
— Матушка словно в воду глядела. Сильно она плакала, когда меня отправляли этапом! Бедняжка… Арестовали накануне похорон Шелгунова. Я очень дружил с покойным. Обидно, не смог проводить его в последний путь… Как он дорожил рабочими, как радовался, когда получил, уже больной, от них адрес! За гробом Шелгунова рабочий слесарь нес венок: «Указателю пути к свободе и братству…»
Мария смотрела на Голубева широко раскрытыми глазами. Протянула руку. Было жалко этого тихого, больного человека.
— Рассказать, как я делала деньги в Орле? Денег нет, а деньги нужны. Надумала проводить вечера с платными буфетами, выручка — в партийную кассу. В одной из комнат гремели недозволенные речи, молодежь валила на эти вечера. Полиция?! — Мария хитро прищурила глаза. — Я приглашала пристава, когда брала разрешение на вечер. Пристав приходил, но его ждали специалисты… Отводили в боковушку у буфета и напаивали до чертиков. Однажды в конце вечера пристав вышел в публику благодарить за честь!
— И публика была довольна?!
— Конечно… Народ поговорил, и пристав при исполнении служебных обязанностей. Только счастье недолговечно. Прошли аресты, и те же либералы отказывались предоставлять свои квартиры. Началось комедиантство! Однажды кто-то из земцев пригласил молодежь. Хозяйка, нацепив бриллианты, угощала гостей чаем, печеньем. Но при разговоре о политике хозяйка падала в обморок! — Мария решила повеселить Василия Семеновича. — Даму выносили из гостиной на руках, бегала горничная с грелками, а потом выходил хозяин с постным лицом… Народ расходился злой, недовольный… Да, кстати, как это вы переодевались, когда шли к рабочим?
— Переодевались?! А на квартире у Бруснева. Надевали высокие сапоги, поношенное пальто. Любители брали сажу из трубы, мазали руки. Мастеровой! Камуфляж помогал… Так и шагаешь из конца в конец по Питеру. Однажды произошел курьез. Началась перепись. Студенты, конечно, кинулись подработать. Мне достался дом на Обводном канале, где проходили занятия кружка! Какая напасть! Дворник, безусловно, связан с охранкой, он-то и повел меня по дому, а там рабочее общежитие. Кружковцы от удивления руками развели. Обошлось, но переволновался! Когда арестовали…
— Заключение переносили тяжело? — спросила Мария, придвинувшись к Василию Семеновичу.
— Тяжело. Семью свою очень люблю, скучал без матушки, без сестер. Был один способ убить время — чистка посуды. От сырости зеленела, вид самый неказистый. Истолчешь кирпич да на суконную тряпку: час усердного труда — и таз горит червонным золотом. За тазом — кувшин для воды, суповая миска…
— Я в тюрьме лепила из хлеба шахматные фигурки и глотала при опасности…
Голубев оглянулся. Заичневский сидел за столом, погруженный в книги. Крупная голова его склонилась, седые кольца волос падали на глаза. Нетерпеливо взмахивая рукой, он подносил к близоруким глазам раскрытые страницы.
За окном, облепленным белым мхом, гулял ветер да уныло гудела непогода. Сонный казак встрепенулся. Увидел Заичневского, сладко зевнул и захрапел, облокотившись на ружье.
В Москве на Воздвиженке
Падал дрожащий неяркий свет от фонарей. Припудренные снегом липы Тверского бульвара отбрасывали ажурную тень на дорожки. На бархатном небе выделялись яркие звезды, серебрился месяц. На скамьях с выгнутыми ножками сидели старики, закутав подбородки шарфами. У памятника Пушкину стояла корзина живых цветов. Яснева перешагнула чугунные цепи, протянутые между старинными фонарями, и положила на цоколь красную розу. Пушкина любила Мария с детства. Теперь же стихи его приобрели особый вещий смысл, ими полны письма Василия Семеновича. После их встречи на Сибирском тракте повсюду находили ее письма. Все чаще в этих письмах мелькали пушкинские строки. Память у Василия Семеновича была поразительная. За те несколько дней, что им удалось провести вместе на постоялом дворе, он читал «Евгения Онегина». При расставании они ничего не говорили, не давали обещаний, но знали, что непременно найдут друг друга. Вернувшись в Самару, Яснева стала добиваться разрешения на переезд в Москву. В столице жила ее сестра, выславшая свидетельство о своей болезни. Мария в прошении указывала на материальные затруднения, но жандармское управление право на въезд не давало. После долгих хлопот оказалась в Твери. И на том спасибо! Тверь не так далеко от Москвы. Частенько, невзирая на запрещения, приезжала в столицу, восстанавливая связи, нарушенные арестом и ссылкой. Поездки ее особенно участились, когда в 1893 году в Москву переехала семья Ульяновых. Сколько счастливых и радостных часов провела она в их доме в Самаре, а теперь вот в Москве… Сегодня предстояла большая радость. Владимир Ульянов из Петербурга приехал навестить родных. Она договорилась встретиться и отправиться с ним на полулегальную вечеринку на Бронной. Там ждали Воронцова, известного народника. Устроители вечера попросили Ясневу привести кого-нибудь поинтереснее, чтобы поговорить смело «без замка на устах». Мария, подумав, отнесла приглашение Ульянову. Разгром якобинцев, потеря друзей сказались тяжело. Но главное было в другом — росло сомнение в правильности, а вернее, в жизненности якобинства. Вот почему так откровенен стал интерес к молодому Ульянову. Она искала с ним встреч, искала разговоров… Владимир Ильич остановился у сестры в Яковлевском переулке. Яснева с приятным волнением отворила дверь в небольшую прихожую. В прихожей царило веселое оживление. Оказывается, Анна Ильинична с мужем также уходила на полулегальную вечеринку. — Может быть, на ту же самую, что и мы?! — полюбопытствовала Анна Ильинична, поправляя перед зеркалом вуаль на английской шляпе. — Нет, не думаю! У нас собираются народовольцы. Очень конспиративно. Ограниченное число лиц. Всем надоела проповедь «малых дел», — многозначительно ответила Яснева, но, перехватив иронический взгляд Владимира Ильича, переменила тон. — Вам следует послушать москвичей. Думается, что вы единственный, кто знает, что сегодня нужно делать. Ульянов неопределенно пожал плечами. За это время, что они не виделись, он возмужал. Взгляд карих глаз стал строже, спокойнее. — И мы с Марком Тимофеевичем идем на разговор «без замка на устах». Дом Гирша кишмя кишит студентами — там и встреча. Обычно обстановка самая не конспиративная, хотя приглашения передают в темных углах шепотком. — Анна Ильинична натягивала черные перчатки. — Молодежь… У нас народ собирается солидный. Адрес передали вчера по всем правилам. — Мария Петровна растерянно взглянула на Анну Ильиничну. — Впрочем, встреча также в доме Гирша… Всякое бывает — то назначат вечер в квартире, а их в доме под одним номером две, то два входа в одну квартиру, и не поймешь, куда сунуться… Народ испуган, солидных квартир нет, вот и мечешься по полулегальным вечеринкам. У якобинцев конспирация была строгой! А современные народники… — Кстати, о современных народниках. — Анна Ильинична положила руку на плечо брата. — В Москве узнала, что по рукам ходит реферат о народничестве. Мне захотелось его получить. И тут меня озадачили вопросом: «Вам который?» Оказывается, по Москве их ходит несколько. «А например?» — полюбопытствовала я, не желая выказать невежества. «Например, Михайловский сел в калошу»!» Конечно, попросила, чтобы достали. — Получили? — заинтересовалась Яснева, вынимая из сумочки платок. — Любопытно. — Да, получила. Те самые синие тетради с критикой народников, их размножили на мимеографе, приложив многочисленные таблицы. Кстати, они мне хорошо знакомы. — Анна Ильинична приподняла густые брови, ласково взглянула на брата. Владимир Ильич довольно потер руки. Он закутывал шею шарфом, не желая огорчать мать, боявшуюся простуды. — Что ж, пошли, Мария Петровна! — Владимир Ильич поцеловал на прощанье сестру. — Мы выйдем через десять минут! — бросила вслед Анна Ильинична, поджидая мужа. Вдоль дома прохаживался шпик, прикрыв лицо воротником. У фонаря торчал его напарник, старательно вглядываясь в прохожих. Владимир Ильич надвинул черную шляпу, отвернулся. Яснева преспокойно обошла шпика. «Позор! Какая же здесь секретность!» — возмущалась в душе Мария Петровна. По сердитому взгляду Ульянова поняла, что он недоволен.
В прихожей лежала гора дамских жакетов, студенческих шинелей, зимних пальто. На подоконниках котелки, фуражки, мягкие шляпы. В углу белели ручки зонтов, набалдашники тростей.
Двери залы широко раскрыты. Народу много, слышались голоса, валил сизый дым. Мария Петровна отколола пелерину, раздумывая, куда бы положить ее, чтобы потом побыстрее разыскать. Неожиданно ее кто-то схватил за локоть. Мария Петровна оглянулась. Ба, Анна Ильинична! Оказывается, они с Елизаровым званы на этот же вечер!
— Народу труба непротолченая! — с сердцем сказала Анна Ильинична.
В большой зале, заставленной разномастными стульями и креслами, в красном углу сидел Воронцов. Темный сюртук облегал его полную фигуру. Редкие волосы едва прикрывали лысину, которую он поминутно вытирал белоснежным платком. Воронцов что-то говорил молодому человеку, устроителю вечера. Тот слушал внимательно, наклонив голову. Воронцов достал из кармана сигару. Покатал в пухлых ладонях, закурил.
К Воронцову относились почтительно. Молодежь здоровалась. Воронцов кивал. Многоопытная Яснева уселась на подоконник поближе к Воронцову. Главный разговор начнется здесь. Владимира Ильича она в суматохе потеряла. Очевидно, прошел в другую комнату. В квартире все двери распахнуты настежь. Попробуй разыскать в такой сутолоке!
На середину залы вышел невысокий тощий студент. Невнятным голосом начал читать реферат по земским вопросам, не отрывая близоруких глаз от исписанных листков. Читал долго, вяло. Молодежь перекочевывала из комнаты в комнату. Студент видел одного Воронцова, цитировал, ссылался на его статьи.
— Стоило собираться столь таинственно… Очередной реферат об аптечках да библиотеках! — с сердцем проговорил сосед Марии Петровны.
Яснева одобрительно засмеялась. Вот они «малые дела», которым многие отдали дань! Сосед, этот вихрастый студент, прав.
— Опять долгий сказ о красавице деревне, о злых волках-марксистах, задумавших разорить мужика! — Вихрастый студент откровенно зевнул.
— Новая серенада деревне… — Мария Петровна потеснилась, чтобы вихрастый студент удобнее устроился.
— Вот и я считаю, что нельзя говорить о деревне как едином и неделимом организме. В деревне есть кулак, в деревне есть бедняк… — громко закончил сосед, очевидно желая, чтобы на него обратили внимание.
— Тихо, господа! Не мешайте! — Воронцов недовольно посмотрел в их сторону.
Тощий студент возвысил голос.
— Аптечка… Культурный долг интеллигенции… Народ… Община… — доносилось до Марии Петровны.
«Скукота-то какая!»
— Народное землевладение — ключ крестьянской позиции, значение которой отлично понимают наши враги. Отсюда происходят нападки на общину, отсюда великое множество проектов об отрешении землевладельца от земли. — Воронцов выпрямился, звучным голосом бросая слова в притихшую публику.
Молодежь благоговейно молчала, придвинулась к Воронцову.
— Зачем затушевывать факт наличности в крестьянском хозяйстве труда за чужой счет!
Послышался сильный голос.
По легкой картавости Мария Петровна узнала Ульянова. Все повернули голову. Ульянов стоял у самой двери. Воронцов оторопело смотрел на него.
— Ульянов… Брат казненного Александра Ильича! — зашептали сзади.
— Молодой человек, не думайте, что мы вовсе не разбираемся в том, что происходит. Жизнь в деревне становится тяжелой, земли мало. Крестьяне уходят на заработки, оставляя дома только жен и детей.
— Но они выкупают свои наделы у помещиков. Почему вы главное внимание обращаете на то, что земли мало, а не на то, что эту землю продают?! — возразил Ульянов.
Кто-то засмеялся. На него зашикали. Вновь установилась тишина, которую уже давно Мария Петровна не встречала на вечерах. Воронцов был удивлен:
— Ваши выводы бездоказательны! Ваши утверждения голословны! Покажите, что дает право утверждать подобные вещи! Где ваши работы… Я выстрадал свои убеждения…
— Нельзя злоупотреблять такой несуразностью, как историческое первородство! — не утерпела Яснева, привстав с подоконника.
По залу пробежал смешок. Воронцов овладел собой и с излишней медлительностью, явно сдерживаясь, возразил Ульянову:
— Люди, заинтересованные в водворении буржуазного порядка, ежечасно твердят крестьянству, что виновата во всем община и круговая порука, переделы полей и мирские порядки, потворствующие лентяям и пьяницам…
— По мнению марксистов, причина не в общине, а в системе экономической организации России. Дело не в том, что ловкие люди ловят рыбу в мутной воде, а в том, что народ — это два друг другу противоположных, друг друга исключающих класса! — возвысил голос Ульянов.
Ульянов говорил быстро, свободно. Его слушали.
— Турнир отцов и детей! — прошептал восхищенно сосед Марии Петровны, погружая пятерню в густые вихры.
— Молодая буржуазия у нас действительно растет. — Воронцов подчеркивал слова круглыми жестами. — Выразить ее численность пока трудно, но можно думать, что численность уже значительна!
— Совершенно верно! Этот факт и служит одним из устоев марксистского понимания русской действительности, — удовлетворенно подхватил Ульянов, прищурив карие глаза. — Только факт этот марксисты понимают совершенно отлично от народников!
Владимир Ильич, полный задора и силы, спорил веско. С блеском. Симпатии большинства были на его стороне. Воронцов заметно нервничал…
— Близость народничества к либеральному обществу умилила многих, даже моего уважаемого оппонента. Из этого делается вывод о беспочвенности русского капитализма… — Ульянов шагнул вперед. — Близость эта является сильнейшим доводом против народничества, прямым подтверждением его мелкобуржуазности!
Воронцов вскинул короткие руки:
— Как вы смеете!
Спора Воронцов не выдержал. Сел, провел платком по лицу. Поднесли стакан воды. Он жадно выпил, стараясь не глядеть в сторону Ульянова. Яснева с трудом пробралась к Ульянову, пожала ему руку.
— Пожалуй, пора! — проговорил он. Вынул часы, щелкнул крышкой: — Ого!
Они прошли в переднюю. Там среди вороха вещей с трудом разыскали пальто. Он подал пелерину девушке. Раскопал зонтик. Лицо его было спокойно. Одни глаза выдавали волнение.
— С кем это я спорил? — озадачил он Ясневу.
— С Воронцовым! Забыла вас предупредить!
— С Воронцовым?! — удивленно приподнял брови Ульянов. — Что же не сказали?! Не стал бы так горячиться!
— Признаете его заслуги? — Девушка завязывала черные шнурки пелерины.
— Безусловно…
Вдоль дома прохаживался шпик, прикрыв лицо воротником. У фонаря торчал его напарник, старательно вглядываясь в прохожих. Владимир Ильич надвинул черную шляпу, отвернулся. Яснева преспокойно обошла шпика. «Позор! Какая же здесь секретность!» — возмущалась в душе Мария Петровна. По сердитому взгляду Ульянова поняла, что он недоволен.
В прихожей лежала гора дамских жакетов, студенческих шинелей, зимних пальто. На подоконниках котелки, фуражки, мягкие шляпы. В углу белели ручки зонтов, набалдашники тростей.
Двери залы широко раскрыты. Народу много, слышались голоса, валил сизый дым. Мария Петровна отколола пелерину, раздумывая, куда бы положить ее, чтобы потом побыстрее разыскать. Неожиданно ее кто-то схватил за локоть. Мария Петровна оглянулась. Ба, Анна Ильинична! Оказывается, они с Елизаровым званы на этот же вечер!
— Народу труба непротолченая! — с сердцем сказала Анна Ильинична.
В большой зале, заставленной разномастными стульями и креслами, в красном углу сидел Воронцов. Темный сюртук облегал его полную фигуру. Редкие волосы едва прикрывали лысину, которую он поминутно вытирал белоснежным платком. Воронцов что-то говорил молодому человеку, устроителю вечера. Тот слушал внимательно, наклонив голову. Воронцов достал из кармана сигару. Покатал в пухлых ладонях, закурил.
К Воронцову относились почтительно. Молодежь здоровалась. Воронцов кивал. Многоопытная Яснева уселась на подоконник поближе к Воронцову. Главный разговор начнется здесь. Владимира Ильича она в суматохе потеряла. Очевидно, прошел в другую комнату. В квартире все двери распахнуты настежь. Попробуй разыскать в такой сутолоке!
На середину залы вышел невысокий тощий студент. Невнятным голосом начал читать реферат по земским вопросам, не отрывая близоруких глаз от исписанных листков. Читал долго, вяло. Молодежь перекочевывала из комнаты в комнату. Студент видел одного Воронцова, цитировал, ссылался на его статьи.
— Стоило собираться столь таинственно… Очередной реферат об аптечках да библиотеках! — с сердцем проговорил сосед Марии Петровны.
Яснева одобрительно засмеялась. Вот они «малые дела», которым многие отдали дань! Сосед, этот вихрастый студент, прав.
— Опять долгий сказ о красавице деревне, о злых волках-марксистах, задумавших разорить мужика! — Вихрастый студент откровенно зевнул.
— Новая серенада деревне… — Мария Петровна потеснилась, чтобы вихрастый студент удобнее устроился.
— Вот и я считаю, что нельзя говорить о деревне как едином и неделимом организме. В деревне есть кулак, в деревне есть бедняк… — громко закончил сосед, очевидно желая, чтобы на него обратили внимание.
— Тихо, господа! Не мешайте! — Воронцов недовольно посмотрел в их сторону.
Тощий студент возвысил голос.
— Аптечка… Культурный долг интеллигенции… Народ… Община… — доносилось до Марии Петровны.
«Скукота-то какая!»
— Народное землевладение — ключ крестьянской позиции, значение которой отлично понимают наши враги. Отсюда происходят нападки на общину, отсюда великое множество проектов об отрешении землевладельца от земли. — Воронцов выпрямился, звучным голосом бросая слова в притихшую публику.
Молодежь благоговейно молчала, придвинулась к Воронцову.
— Зачем затушевывать факт наличности в крестьянском хозяйстве труда за чужой счет!
Послышался сильный голос.
По легкой картавости Мария Петровна узнала Ульянова. Все повернули голову. Ульянов стоял у самой двери. Воронцов оторопело смотрел на него.
— Ульянов… Брат казненного Александра Ильича! — зашептали сзади.
— Молодой человек, не думайте, что мы вовсе не разбираемся в том, что происходит. Жизнь в деревне становится тяжелой, земли мало. Крестьяне уходят на заработки, оставляя дома только жен и детей.
— Но они выкупают свои наделы у помещиков. Почему вы главное внимание обращаете на то, что земли мало, а не на то, что эту землю продают?! — возразил Ульянов.
Кто-то засмеялся. На него зашикали. Вновь установилась тишина, которую уже давно Мария Петровна не встречала на вечерах. Воронцов был удивлен:
— Ваши выводы бездоказательны! Ваши утверждения голословны! Покажите, что дает право утверждать подобные вещи! Где ваши работы… Я выстрадал свои убеждения…
— Нельзя злоупотреблять такой несуразностью, как историческое первородство! — не утерпела Яснева, привстав с подоконника.
По залу пробежал смешок. Воронцов овладел собой и с излишней медлительностью, явно сдерживаясь, возразил Ульянову:
— Люди, заинтересованные в водворении буржуазного порядка, ежечасно твердят крестьянству, что виновата во всем община и круговая порука, переделы полей и мирские порядки, потворствующие лентяям и пьяницам…
— По мнению марксистов, причина не в общине, а в системе экономической организации России. Дело не в том, что ловкие люди ловят рыбу в мутной воде, а в том, что народ — это два друг другу противоположных, друг друга исключающих класса! — возвысил голос Ульянов.
Ульянов говорил быстро, свободно. Его слушали.
— Турнир отцов и детей! — прошептал восхищенно сосед Марии Петровны, погружая пятерню в густые вихры.
— Молодая буржуазия у нас действительно растет. — Воронцов подчеркивал слова круглыми жестами. — Выразить ее численность пока трудно, но можно думать, что численность уже значительна!
— Совершенно верно! Этот факт и служит одним из устоев марксистского понимания русской действительности, — удовлетворенно подхватил Ульянов, прищурив карие глаза. — Только факт этот марксисты понимают совершенно отлично от народников!
Владимир Ильич, полный задора и силы, спорил веско. С блеском. Симпатии большинства были на его стороне. Воронцов заметно нервничал…
— Близость народничества к либеральному обществу умилила многих, даже моего уважаемого оппонента. Из этого делается вывод о беспочвенности русского капитализма… — Ульянов шагнул вперед. — Близость эта является сильнейшим доводом против народничества, прямым подтверждением его мелкобуржуазности!
Воронцов вскинул короткие руки:
— Как вы смеете!
Спора Воронцов не выдержал. Сел, провел платком по лицу. Поднесли стакан воды. Он жадно выпил, стараясь не глядеть в сторону Ульянова. Яснева с трудом пробралась к Ульянову, пожала ему руку.
— Пожалуй, пора! — проговорил он. Вынул часы, щелкнул крышкой: — Ого!
Они прошли в переднюю. Там среди вороха вещей с трудом разыскали пальто. Он подал пелерину девушке. Раскопал зонтик. Лицо его было спокойно. Одни глаза выдавали волнение.
— С кем это я спорил? — озадачил он Ясневу.
— С Воронцовым! Забыла вас предупредить!
— С Воронцовым?! — удивленно приподнял брови Ульянов. — Что же не сказали?! Не стал бы так горячиться!
— Признаете его заслуги? — Девушка завязывала черные шнурки пелерины.
— Безусловно…
Часть вторая
На Саратовском вокзале
По перрону прохаживалась публика. Нарядные дамы в весенних туалетах с большими шляпами под цветными вуалями. Молодежь в студенческих фуражках и потертых тужурках с медными пуговицами. Чуть поодаль рабочие в коротких полупальто и сапогах, грязных от распутицы. Бабы, закутанные в пестрые платки, с тяжелыми узлами за плечами. Крестьяне с мешками. Несмотря на поздний час, вокзал непривычно оживлен. Из окон ресторана доносилась музыка. Падал яркий свет. Виднелись захмелевшие купцы. Среди всей этой разношерстной толпы выделялись студенты с цветами и пакетами. Ждали московский поезд, в котором, как стало известно, должны проследовать в Сибирь участники студенческих беспорядков. Отправляли их с большими предосторожностями, боялись встреч, манифестаций… И все же молодежь узнала об их приезде, провожала в Сибирь… Мария Петровна Яснева была на вокзале задолго до назначенного часа. Как и все, она боялась, что станционное начальство, заметив скопление народа, поставит поезд на запасный путь. Сидела на скамье под железным навесом, прикрывавшим перрон. Сидела и ждала. Жизнь ее круто изменилась за последние годы. Вот уже пять лет, как она в Саратове. У нее семья, дети, дом. Как только Василия Семеновича освободили из Сибири, так они встретились. Из Иркутска, где он отбывал ссылку, приехал в Смоленск, вызвал ее… Потом они переехали в Саратов. Теперь у них две девочки. Василий Семенович служит секретарем земской управы, а она целиком на партийной работе… От раздумий ее отвлек Балмашев. Худощавый молодой человек с красивым продолговатым лицом и едва приметными усиками. Серые глаза его смотрели с редкостной серьезностью. Он обрадовался Марии Петровне, другу отца, подошел. — Читали о студенческих волнениях в Москве? — Балмашев нервно повел плечами, зябко поежился. — Много врагов у Ники-милушки, ох как много! Злонамеренный люд в России все прибывает… Ох как много его стало, тьма-тьмущая. Степан Балмашев, сын известного народовольца, в городе появился недавно. Он был студентом Киевского университета, в числе тех 183, отданных в солдаты «за участие в сходках и беспорядках, учиненных скопом». Балмашева заслали в полк, расквартированный в Смоленской губернии. Солдатчины не вынес, тяжело заболел, к тому же открылась чахотка… Балмашев получил по болезни отпуск и возвратился в Саратов. Жил уроками. На беду, отец его вновь попал в ссылку в Вятскую губернию и помогать больному сыну не мог. Балмашев снял студенческую фуражку с зеленым бархатным околышем, зажав ее в руке, распахнул поношенную шинель. «Нуждается, очень нуждается! — подумала Мария Петровна, не отводя пытливых глаз. — Да и болен…» — Нас отдавали в солдаты… Теперь иное время. Цивилизация! — Балмашев иронически улыбнулся. — Ника-милушка эшелонами гонит студентов в Сибирь! Вот она, награда за свободомыслие. Хорошую песенку услышал… Хотите?..В Боголепопа влепили!
Сам же виноват.
Сами же стрелять учили,
Вот вам за солдат!
Вминистерскую траншею
Залетел снаряд
И попал министру в шею,
Это за солдат.
Ордена, чины и ленты.
Целый воз наград —
Вот награда от студентов,
Я ужасно рад!
 Над паровозом клубился кольцами дымок. Слышалось тяжелое сопение. Прогромыхав колесами, выпуская струи пара, поезд замер у перрона.
К вагону третьего класса кинулась толпа. Запыхавшись от быстрого бега, Мария Петровна схватилась руками за холодные решетки. Приблизила лицо к стеклу. Все они, обросшие, запыленные, сливались для Марии Петровны в одно лицо — смеющееся, белозубое, озорное…
— С каких факультетов? — громко прокричали из-за ее спины.
— Химики!
— Технологи!
Городовой саженного роста шагнул к вагону. Мария Петровна, вцепившись в решетку, просила:
— Товарищи, опустите окна! Здесь для вас передачи! — И, повернувшись к жандарму, прибавила: — Мой брат в этом вагоне… Нужно отдать теплые вещи, провизию…
Окно опустили. Но у окна торчали стражники, из тех, кто сопровождал студентов в Сибирь. Незадача! Но что это?! Стражник получил увесистый толчок от веснушчатого студента. Ура! Стражника оттащили. В окно полетели свертки, книги, пакеты с продуктами.
— Господа! Господа! Прошу от поезда! — Ротмистр широко раскинул руки. За ним все тот же городовой саженного роста.
— Гоните прочь царских опричников!
— Долой рабов!
Вагон грохотал. Ротмистр засвистел. Из вагона, в котором нарастал шум, высунулось почти до половины молодое веснушчатое лицо. «Староста», — решила Мария Петровна.
— Песню! Песню! — стараясь перекричать гул, посоветовала она.
Студент понял, засмеялся, поднял руку и запел сочным баритоном:
Над паровозом клубился кольцами дымок. Слышалось тяжелое сопение. Прогромыхав колесами, выпуская струи пара, поезд замер у перрона.
К вагону третьего класса кинулась толпа. Запыхавшись от быстрого бега, Мария Петровна схватилась руками за холодные решетки. Приблизила лицо к стеклу. Все они, обросшие, запыленные, сливались для Марии Петровны в одно лицо — смеющееся, белозубое, озорное…
— С каких факультетов? — громко прокричали из-за ее спины.
— Химики!
— Технологи!
Городовой саженного роста шагнул к вагону. Мария Петровна, вцепившись в решетку, просила:
— Товарищи, опустите окна! Здесь для вас передачи! — И, повернувшись к жандарму, прибавила: — Мой брат в этом вагоне… Нужно отдать теплые вещи, провизию…
Окно опустили. Но у окна торчали стражники, из тех, кто сопровождал студентов в Сибирь. Незадача! Но что это?! Стражник получил увесистый толчок от веснушчатого студента. Ура! Стражника оттащили. В окно полетели свертки, книги, пакеты с продуктами.
— Господа! Господа! Прошу от поезда! — Ротмистр широко раскинул руки. За ним все тот же городовой саженного роста.
— Гоните прочь царских опричников!
— Долой рабов!
Вагон грохотал. Ротмистр засвистел. Из вагона, в котором нарастал шум, высунулось почти до половины молодое веснушчатое лицо. «Староста», — решила Мария Петровна.
— Песню! Песню! — стараясь перекричать гул, посоветовала она.
Студент понял, засмеялся, поднял руку и запел сочным баритоном:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры
Ненавистен нам царский чертог
Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем.
Адъютант великого князя
Апрель. На Невском прогуливались столичные франты. Короткое пальто, узкие брюки со штрипками. Проносились пролетки с закрытыми верхами по случаю ненастной погоды. Молодой человек, стройный, худощавый, в поношенном коричневом пальто, остановился у витрины магазина готового платья купца Сагалова. Манекены с застывшими улыбками зазывающе протягивали руки. Мертвые картонные пальцы сжимали перчатки. Молодой человек скучающим взглядом окинул витрину. Внимание его привлек блестящий военный мундир, увитый серебряными шнурами. Манекен задорно топорщил усы, улыбался напомаженным ртом. Молодой человек открыл дверь, вошел в магазин купца Сагалова. Зазвенел колокольчик, показался старший приказчик. Увидев покупателя, по привычке низко наклонил голову, бросил изучающий взгляд. Очевидно, покупатель не внушал доверия. Старший приказчик незаметно кивнул, к молодому человеку подлетел другой приказчик, такой же вежливый и предупредительный, но рангом пониже. — Прошу-с! — Приказчик, завитой, как оживший манекен, подвел молодого человека к витринам. Костюмы, фрачные пары, крылатки, вышедшие из моды, молодого человека не интересовали. Покупатель снял мягкую гороховую шляпу, взглянул на приказчика. «Нет, не солидный человек!» — окончательно подумал продавец, отметив залоснившийся бархатный воротник пальто и обтрепанные пуговицы. — Здесь несколько устаревшие пальто деми, — начал приказчик вкрадчиво и заметил: — Магазин поношенного платья, как и студенческих шинелей, не имеет… Их можно приобрести у купца Черепанова в гостином дворе… Казалось, покупатель не слушал продавца. Быстрым шагом перешел к витринам с военными мундирами. Уланские… Гусарские… Лейб-гвардии… Молодой человек заметно оживился, покрутил манекен в армейском мундире… — Мне нужна адъютантская форма… Сюртучная пара, пальто с погонами поручика-адъютанта по пехоте. Все отличного качества! Есть ли у вас готовая? — озадачил он приказчика. — Адъютантская форма для господина поручика?! — смекнул приказчик. Подставил лестницу, вскарабкался на верхнюю ступеньку, поспешно начал сбрасывать на прилавок коробки. Подошел старший приказчик. Заметив, как придирчиво рассматривает молодой человек офицерские шинели, стал помогать, расхваливая сукно. — Нет, только отличное качество… Цена не интересует… — мягким приятным голосом сказал молодой человек, отставляя коробки. — Есть ли у вас приличный закройщик, который за сутки изготовил бы мундир и шинель?! Старший приказчик наклонил голову с ровным пробором. Нажал кнопку звонка. Презрительно оглядел приказчика, который не сумел распознать настоящего клиента, и величественным жестом распахнул занавеску кабины. Явился закройщик с резиновым аршином. Начал снимать мерку. — Мундир для моего брата. Его произвели в адъютанты большой персоны, и мне хотелось сделать подарок… Мы — близнецы, фигуры одинаковые. Единственное условие — все лучшего покроя и качества… Тончайшее английское сукно! Мода! — Молодой человек протянул визитную карточку. — Быков… В Петербурге проездом из Гельсингфорса. Остановился в Северной гостинице… Да, получите задаток — сто рублей. Молодой человек небрежно бросил конверт с деньгами и, поклонившись ошеломленному приказчику, удалился. — Покупатель — всегда загадка! — нравоучительно поднял палец старший приказчик. — Кто бы ожидал серьезного клиента в молодом человеке?! Зря не предложили серебряную шашку и портупею… Наверняка взял бы для полного парада…К вечеру погода заметно исправилась. Перестал сыпать мокрый снег. С реки подул ветер, осушил Невский проспект. Заиграли в лучах заходящего солнца рекламы, витрины модных магазинов. Блестящий магазин купца Павловского издавна славился офицерскими вещами, редкостным оружием. У прилавка вишневого дерева стоял все тот же молодой человек. Стройный, худощавый. Только на сей раз на нем длинное серое пальто с черным кожаным воротником. Пальто не по росту, узко в плечах. Шляпа с большими полями закрывала лицо. Молодой человек влюбленно рассматривал браунинги в красных коробках, сверкающие сабли, золоченые ножны… На витрине за толстым стеклом мерцало оружие, подсвеченное синим светом. Приказчик, старый добродушный немец, открыл витрину и замшей протирал невидимую пыль. Из футляра достал браунинг, отливавший тяжелым блеском, начал обмахивать щеткой. Молодой человек закашлялся. — Что, приглядели покупку, сударь? — добродушно улыбаясь в усы, спросил приказчик, запирая витрину на ключ. — Да… Мне нужна офицерская фуражка с кокардой. — Молодой человек не отрывал глаз от оружия. Немец достал круглую коробку, предложил примерить фуражку. Передвинул зеркало. Молодой человек, едва взглянув в зеркало, попросил: — Не забудьте приделать кокарду… Еще шашку с темляком и серебряную портупею… Решил сделать подарок брату… Его произвели в адъютанты! — О! — искренне обрадовался немец и, незаметно оглядев молодого человека, переспросил: — Так портупею прикажете серебряную?! — Да, разумеется… Серебряную! — У нас лучшие бельгийские браунинги… Легкие, словно игрушки! Не хотите преподнести своему брату личное оружие? — Нет, оружием не интересуюсь! — неожиданно отрезал молодой человек. Немец завернул покупку и протянул чек с аккуратной колонкой цифр. Молодой человек достал портмоне, небрежно вытащил деньги. За столиком сидела рыжая кассирша в буклях. Она попыталась заглянуть в лицо, молодой человек отвернулся. Принял от приказчика коробку, сверток с портупеей и, вежливо ответив на поклон, направился к двери. В магазин заглянул жандармский офицер. Молодой человек неслышно захлопнул дверь.
В полдень в кафе мосье Жакле посетителей почти нет. Мраморный зал уставлен высокими лампами на витых ножках. От розовых абажуров падал мягкий свет. Мраморные столы окружены вызолоченными креслами. У дверей, украшенных резьбой, застыли официанты с накрахмаленными салфетками. Часы под стеклянным колпаком отбили двенадцать. Старый официант расставлял по столам букеты фиалок. Затем засеменил к мраморному столику и положил пачку свежих газет. Заслышав шаги, оглянулся. По мягкой дорожке неторопливо приближался блестящий офицер. Добротное драповое пальто с адъютантскими петлицами. Широкий серебряный пояс перетягивал тонкую талию. Длинная шашка била по лаковым сапогам. Офицер кивнул официанту, бросившемуся снимать шинель. — Чашку шоколада… Да, любезнейший, если будут спрашивать поручика Игнатова, позовите! — Офицер поднял руку в замшевой перчатке. — За мной должна прийти карета… Так скажите кучеру! Офицер расстегнул воротник шинели, положил на стол папку жатой кожи. Потом снял фуражку, провел рукой по завитым русым волосам. Развернул газету. На серебряном подносе официант подал шоколад, вазу с печеньем, сахарницу. Офицер кивком головы поблагодарил его, налил в чашку шоколад. Густой. Пахучий. Сделал несколько глотков. И опять официант подметил, что шоколад офицер пил без удовольствия! Шоколад мосье Жакле! — Карета подана! Карета подана, господин поручик! — повторил официант, убедившись, что офицер его не слушал. — Ну хорошо! — проговорил поручик, будто с огорчением. — Пожалуй, еще шоколаду…. Официант удовлетворенно ухмыльнулся, подал новый поднос. И опять неторопливо глотал офицер шоколад, и опять большие серые глаза стали задумчивы и печальны. Наконец офицер поднялся. Бросил на поднос серебряную монету. И, не взглянув в зеркало, удалился четким шагом.
Карета, запряженная рысаками, рванула. Офицер, прижав к груди черный жатый портфель, бросил прощальный взгляд по сторонам. Лошади бежали легко. Невский… Адмиралтейство с высокой золоченой иглой, сверкавшей на солнце. Позади осталась строгая Английская набережная с гранитными львами. Карета мягко покачивалась на рессорах. Офицер откинулся на подушках. Улицы… Площади… Набережные… Вдалеке наплывал Троицкий мост. Офицер вздрогнул и, открыв оконце, приказал кучеру: — В Государственный совет! Карета, оставив след дутых шин на снегу, повернула. Кучер в высоком цилиндре картинно держал ременный кнут. У Синего моста через Мойку, вспенившуюся от ледохода, возвышался Мариинский дворец, где заседал Государственный совет. Кучер вопросительно оглянулся на седока. — К левому подъезду! — глухо сказал молодой человек. Надвинулся громоздкий памятник. Николай Первый в гвардейском мундире восседал на массивном коне. Лицо офицера скривилось в усмешке. Кучер натянул вожжи, и карета замерла у парадного входа. Распахнулись двери, окованные медью. Вышел швейцар в белых чулках, увитый золотыми кантами, галунами. Придержал дверцу. Офицер легко соскочил на ковровую дорожку, расстеленную на снегу. — Будет ли егермейстер двора его императорского величества тайный советник Дмитрий Сергеевич Сипягин? — спросил офицер, переложив в правую руку портфель. — Господина министра внутренних дел Сипягина еще нет. — Швейцар расправил широкую бороду. — Но товарищ министра господин Дурново прибыли на заседание. Офицер глубоко вздохнул. Прощально оглянулся. Обошел швейцара, начал подниматься по лестнице. Весеннее солнце заливало дворец. Дробились отражения в многочисленных зеркалах. В золоченых рамах теснились картины итальянских мастеров. Сверкали узоры цветного паркета. Переливались хрустальные люстры. Офицер держался просто. Достойно. На вопрошающий взгляд швейцара заметил: — Прислан великим князем Сергеем Александровичем с важным пакетом к господину министру! Не известна ли причина, по которой задерживается Дмитрий Сергеевич? — Не могу знать! Обычно господин министр не опаздывает на заседание Государственного совета без крайности… — Швейцар любовался выправкой офицера. — Здесь ожидать министра неудобно… В швейцарской господин министр долго не остается… Только переодевается в мундир… Офицер мягко улыбнулся. Сбросил шинель на кресло. Темно-зеленый сюртук с белыми аксельбантами облегал его фигуру. Из-под сюртука виднелась крахмальная рубашка с перламутровыми запонками. «Видно, кто-то из новых у великого князя», — подумал швейцар, поднимая шинель. Офицер расстегнул портфель, вынул пакет с каллиграфической надписью. — Обязан передать лично. Времени у министра много не займу. — Помолчал и прибавил с достоинством: — Обстоятельства весьма важные! Швейцар с неудовольствием покачал головой. Офицер отчужденно сдвинул русые брови и замер у бюста Екатерины Второй. Серебристо прозвенел колокольчик. Дверь распахнулась. Протиснулся огромный Бобров, выездной лакей министра. За ним Сипягин. Невысокого роста. Тучный. Министр торопился, на ходу расстегивал шубу на бобровом меху. Лакей удалился и тотчас вынес расшитый золотом мундир в орденах. Министр вытер раскрасневшееся лицо платком. Швейцар снял шубу. Сипягин посетителя встретил неприветливо. Офицер вытянулся, ждал, пока на него обратят внимание. Наконец министр взглядом подозвал офицера. Тот подошел, звякнув шпорами, наклонил голову. — Ваше высокопревосходительство! Прислан великим князем Сергеем Александровичем… — Кем прислан? Кем?! — скрипучим голосом переспросил министр, повернув толстую шею. — Великим князем! — твердо ответил офицер, протянув левой рукой пакет.
 Правой рукой офицер вынул из кармана сюртука браунинг. Раздалось два выстрела, коротких, молниеносных. Качнулись хрустальные подвески на люстрах. Метнулись в зеркалах испуганные лица. Министр схватился за сердце. Медленно оседал, не спуская удивленного взгляда с офицера. Подскочил Бобров, огромный, словно разъяренный медведь. Облапил офицера, пытался вырвать браунинг. Офицер оружие не выпустил. Прогремели беспорядочные выстрелы. Три, один за другим.
Бобров заученным приемом вывернул офицеру руки. Откинул ногой браунинг. Из кармана офицерского сюртука выпала облатка с ядом. Бобров наступил сапогом, боясь, чтобы ее не поднял неизвестный.
Запыхавшись, вбежал в расшитом золотом мундире Дурново. Удивленно заморгал, воспаленными глазами. Увидев окровавленного министра, всплеснул руками:
— Что?! Что здесь случилось?!
Министр лежал на полу на разостланной шубе, подвернув руку. Дурново опустился на колени.
— Какое несчастье! Дмитрий Сергеевич, голубчик! Держать этого молодца… Держать покрепче! Врача! Врача! — прокричал Дурново.
Офицер, схваченный швейцарами, не пытался бежать. Смотрел на суматоху невозмутимо, как человек, исполнивший долг. Появился врач, короткий человек, с короткими руками. Приготовил шприц, ввел мускус под кожу… Быстрыми пальцами сдернул с министра галстук, разорвал батистовую рубаху.
Дурново поднялся, подошел к офицеру, спросил враждебно:
— Вы не офицер?
— Раз научили стрелять, значит, офицер! Балмашев. Прикажите меня не держать! Я никуда не уйду! Пули — вот единственно возможный язык для разговора с господином министром.
Дурново вертел конверт, который для него подняли с полу. Балмашев гордо вскинул голову, скрестив на груди руки. Дурново гневно смотрел на него.
— Адрес написан плохо! — желчно заметил товарищ министра, поворачивая конверт.
— Не беда! Конверт сделал свое дело. Не трудитесь, — сказал Балмашев, заметив, что Дурново пытается его распечатать. — Там две брошюры… Вряд ли они могут вас заинтересовать…
— За что вы его?
— За студентов!
Правой рукой офицер вынул из кармана сюртука браунинг. Раздалось два выстрела, коротких, молниеносных. Качнулись хрустальные подвески на люстрах. Метнулись в зеркалах испуганные лица. Министр схватился за сердце. Медленно оседал, не спуская удивленного взгляда с офицера. Подскочил Бобров, огромный, словно разъяренный медведь. Облапил офицера, пытался вырвать браунинг. Офицер оружие не выпустил. Прогремели беспорядочные выстрелы. Три, один за другим.
Бобров заученным приемом вывернул офицеру руки. Откинул ногой браунинг. Из кармана офицерского сюртука выпала облатка с ядом. Бобров наступил сапогом, боясь, чтобы ее не поднял неизвестный.
Запыхавшись, вбежал в расшитом золотом мундире Дурново. Удивленно заморгал, воспаленными глазами. Увидев окровавленного министра, всплеснул руками:
— Что?! Что здесь случилось?!
Министр лежал на полу на разостланной шубе, подвернув руку. Дурново опустился на колени.
— Какое несчастье! Дмитрий Сергеевич, голубчик! Держать этого молодца… Держать покрепче! Врача! Врача! — прокричал Дурново.
Офицер, схваченный швейцарами, не пытался бежать. Смотрел на суматоху невозмутимо, как человек, исполнивший долг. Появился врач, короткий человек, с короткими руками. Приготовил шприц, ввел мускус под кожу… Быстрыми пальцами сдернул с министра галстук, разорвал батистовую рубаху.
Дурново поднялся, подошел к офицеру, спросил враждебно:
— Вы не офицер?
— Раз научили стрелять, значит, офицер! Балмашев. Прикажите меня не держать! Я никуда не уйду! Пули — вот единственно возможный язык для разговора с господином министром.
Дурново вертел конверт, который для него подняли с полу. Балмашев гордо вскинул голову, скрестив на груди руки. Дурново гневно смотрел на него.
— Адрес написан плохо! — желчно заметил товарищ министра, поворачивая конверт.
— Не беда! Конверт сделал свое дело. Не трудитесь, — сказал Балмашев, заметив, что Дурново пытается его распечатать. — Там две брошюры… Вряд ли они могут вас заинтересовать…
— За что вы его?
— За студентов!
Обыск
Вся моя предыдущая деятельность привела меня к убеждению, что при тех репрессиях, которыми русское правительство, пользуется в борьбе с революционерами, мирная социалистическая работа невозможна, вследствие чего я вынужден был вступить на путь политического террора. Террористический способ борьбы я считаю жестоким и бесчеловечным, но единственным, к сожалению, возможным при современном самодержавном режиме. Насилие и произвол, широко практиковавшиеся политикой министра внутрених дел Сипягина, заставили меня остановить свой выбор на нем. Настоящий протокол написан с моих слов. На предлагаемый же вами вопрос; совершил ли я преступление самостоятельно или при участии других лиц, ровно, как и на другие, могущие последовать вопросы, я давать показания не желаю, а также не желаю подписать настоящий протокол, 3 апреля 1902 года.Василий Семенович снял пенсне, обхватил голову руками. Вечером перед сном он обнаружил в почтовом ящике письмо, в которое вложена прокламация. Единственное показание Балмашева и последнее слово на суде, написанные на тонкой папиросной бумаге фиолетовыми чернилами. Выстрел Балмашева всколыхнул Саратов. Голубев хорошо знал Балмашева, с отцом которого дружил. Мальчик… Худощавый… Больной… И вдруг стрелял с таким удивительным хладнокровием! А что изменилось?! Ничего! Министр уже назначен, а Балмашев казнен в Шлиссельбурге! Голубев перевернул прокламацию, торопливо начал читать последнее слово обвиняемого… Последнее…
Я получил прекрасное воспитание — в том смысле, что от меня никогда не скрывали правду и с малых лет приучали любить правду. Мой отец был за правду сослан. Я с трудом кончил гимназию, так как мне были ненавистны та ложь и фальшь, в которой нас держали. Я поступил в университет и стал деятельно заниматься пропагандой между товарищами, стараясь привлечь их к революционной деятельности. Меня исключили из университета. Я стал заниматься пропагандой среди солдат. И тогда-то я убедился, что одними словами ничего не поделаешь, что нужно дело, нужны факты. У меня явилась идея убить одного из тех людей, которые особенно много причиняют зла. Я обещал вам открыть на суде сообщников своих. Хорошо, я их назову — это правительство. Если в вас есть хоть капля справедливости, вы должны привлечь к ответственности вместе со мной и правительство.
Привлечь к ответственности правительство! Василий Семенович сбросил плед, которым были укутаны его ноги, поднялся. Нет, он не верил, вернее, давно потерял уверенность в возможность силой вырвать у правительства уступки. Нужно с правительством как-то договориться, используя легальные формы борьбы… Довольно безрассудных жертв! Довольно! Невысокий дом в три окна, где поселился Василий Семенович, стоял на углу Соборной и Малой Сергиевской. Парадное под резным навесом. Окна в нарядных наличниках. Дом оказался удобным. Большие светлые комнаты с высокими потолками. Кафельные печи в зеленых цветах. Под кабинет Василий Семенович оборудовал угловую комнату с двумя окнами, затененными липами. Между окон в простенке старинный письменный стол. Глубокое кресло, столь любимое для отдыха. Шкафы с книгами. Дом казался ему таким удобным еще и потому, что на Малой Сергиевской находилась земская управа, а он — секретарь управы. К кабинету примыкала детская. Леля и Катя… Мария Петровна пыталась перевести детскую в более тихие комнаты, выходившие во двор, но Василий Семенович не разрешил. Девочек любил самозабвенно. Леля и Катя… После пяти лет ссылки, голода и лишений — наконец-то семья, собственный угол, приличное содержание. Хотелось жить спокойно, заниматься работой, семьей… К тому же ссылка его напугала. Кто он? Песчинка в грозном океане. Его сотрут, раздавят… Чернышевский, не ему ровня, провел на каторге семь лет, из которых два года был закован в кандалы! Два года в Петропавловской крепости в ожидании суда, семь лет каторги и двенадцать лет ссылки!.. Более двадцати лет неволи! Сразу же после переезда в Саратов Василий Семенович повел Марию Петровну на Воскресенское кладбище. Там в скромной часовенке из разноцветных стекол, заставленной железными венками, погребен великий Чернышевский. У часовенки отдыхала Ольга Сократовна, его жена, все еще красивая женщина. Мария Петровна низко поклонилась Ольге Сократовне. Обнажил голову и Василий Семенович. Ольга Сократовна не удивилась. Могилу Чернышевского посещали многие. Она ответила на поклон, поблагодарила за белые розы. Притихшие, они отошли в глубину кладбища. Молчали, взявшись за руки. С особым чувством они выбирали дом на Соборной улице. Здесь умер Чернышевский, возвратившись из изгнания. Вернее, дом выбирала Мария Петровна. Условие одно — дом должен иметь два выхода. Василий Семенович сразу понял его назначение. Он искал покоя, тишины, она — борьбы, бури. Он возлагал надежды на земцев, на легальные формы, она — на революцию, на партию. Так разошлись их пути? Где? Когда? Он не смог бы ответить. В сердце его поселилась тревога. Мысли о жене… Мысли о детях… Его девочки. Леля и Катя… Долгими ночами, работая в кабинете, заходил в их комнату поправить одеяла, послушать сонное дыхание. Они живы, они счастливы. А первая… Смерти ее забыть Василий Семенович не мог. Несчастье случилось в первый год женитьбы. После ссылки в Усть-Удинске он получил проходное свидетельство, смог возвратиться в Россию. В Петербурге, откуда он родом, поселиться не разрешили. Поехал в Смоленск, где находился Заичневский, также отбывший ссылку. Оттуда написал Марии Петровне. Майским днем с волнением подходил к номерам Алтухина, в котором остановилась приехавшая из Саратова Мария Петровна. Лицо охлаждала влажная сирень. Душистые белые грозди напоминали свадебный букет. Май! Воздух опьянял ароматом распускавшихся деревьев, первых цветов. Мария Петровна открыла дверь и замерла на пороге. Беспомощно прижал руки к груди. Серое платье оттеняло глаза. Огромные. Глубокие. Поняла, что пришел навсегда… Такой и запомнил ее, такой и берег в своем сердце. Жить в Смоленске оказалось трудно. Квартиру сняли на Петропавловской улице. Полуподвал при городской больнице. Василий Семенович устроился фельдшером. Платили гроши. Бедствовали, голодали. Уроков Марии Петровне достать не удалось ввиду политической неблагонадежности. Но всего тяжелее — надзор полиции. Постоянный. Ежечасный. Однажды опасно заболела мать. Получив телеграмму, выехал в Петербург. И сразу его взяли в клещи филеры, наглые, жадные. Сопровождали открыто, передавая от одного к другому словно вещь. Поездка превратилась в пытку. Он стоял у постели больной матери, а в дверь ломились жандармы с понятыми. Проверили документы, потащили в участок, предложив покинуть столицу в двадцать четыре часа. В Смоленске на перроне встретила Мария Петровна. Она ждала ребенка! И опять наглые, откровенные взгляды филеров! Можно прийти в отчаяние! Девочку спасти не удалось, умерла от менингита… Теперь они в Саратове. Удалось достигнуть известного положения: служба в земской управе, литературная слава. А покоя нет. Мария Петровна член комитета РСДРП, на ее руках связи, явки, транспортировка нелегальщины. Конечно, о многом она не говорит, но он догадывается… И отсюда вечный страх — потерять жену, потерять жизнь! От раздумий Василия Семеновича отвлек звонок. Взглянул на часы. Три. Кто в такой поздний час? Кто?! Сердце заколотилось, выступил липкий, холодный пот. Он подошел к окну. Сквозь ставни ничего не смог разглядеть. Но услышал, как по мокрому от дождя листу прошуршала пролетка, осторожное покашливание. Ясно, что у парадного притаились люди. Бесшумно открылась дверь. Мария Петровна, накинув шаль на ночную рубаху, прошла в детскую. Под шалью нарядная кукла, сверток… Василий Семенович болезненно поморщился, не ответил на ее улыбку. Звонок дрожал от яростного напряжения. Проснулась кухарка. Полураздетая заглянула в кабинет, испуганно крестясь. — Марфуша! Откройте дверь… Узнайте, кому понадобилось ломиться ночью? — проговорила Мария Петровна, отсчитывая в рюмку сердечные капли Василию Семеновичу. — Ты полежи на диване… Обойдется! Василий Семенович глядел на нее тоскующими глазами. Боже! А если не обойдется?! Если ее увезут?! Что будет с девочками?! Что будет с ним?! — Обыск, Мария Петровна! — простонала кухарка. Василий Семенович замер. Ждал. Дверь распахнулась, и жандармский ротмистр, похрустывая ремнями, переступил порог. — По постановлению полицмейстера вынуждены произвести обыск! — Ротмистр поднес руку к козырьку фуражки. Покажите ордер! — потребовала Мария Петровна, закрывая грудь шалью. — Болен муж… Вы явились в три часа ночи. Застали нас в постели… К сожалению, я не одета!
 Мария Петровна уложила мужа на диван, сделала холодный компресс на сердце. Торопливо поднялась и пошла мимо оторопевшего ротмистра. Вернулась скоро в зеленом капоте и кружевном чепце, с забранными русыми волосами. Ротмистр нерешительно переминался. Действительно, обыски в доме Голубевых участились… Человек уважаемый, семейный. Поговаривают, правда, что все зло в жене.
— Приступайте! Но прошу помнить: муж сердечник, а рядом — детская… Одной — четыре, другой — шесть! Могут испугаться ночного переполоха, — заметила Мария Петровна. Ротмистр пожал плечами, коротко бросил:
— Начинайте! Прежде всего — кабинет!
На середину комнаты ротмистр выставил стул, положил фуражку. Начал осматриваться. Три книжных шкафа. Хватит перебирать до утра. Книги перебирал неохотно. Немецкие… Английские… Французские… Энциклопедия Брокгауза… Справочники… Земские сборники… В большинстве книг закладки, выписки, подчеркнутые абзацы. Брови ротмистра удивленно взлетели вверх. Бельтов «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии».
— Бельтов?! — переспросил ротмистр. — Бельтов?! Сердце Василия Семеновича дрогнуло. Бельтов — псевдоним Плеханова! Хранение запрещенной литературы! Как это он недоглядел? Да, в корешок еще заделал прокламацию о Балмашеве…
— Бельтов — известный исследователь в области искусства и религии. Книги его имеют широкое обращение среди интеллигентов, — вступилась Мария Петровна. — Ты взял из библиотеки Народной аудитории?! Знаю, наверняка просрочил… Нужно утром вернуть.
Ротмистр повернул книгу, угрюмо поставил на полку. Василий Семенович облегченно вздохнул. Пронесло! И опять руки ротмистра перебирали шкаф. Росла на полу гора книг. Мария Петровна не выдержала:
— Может быть, целесообразнее ставить просмотренные книги на прежнее место? Тем более, что ничего предосудительного они не содержат… Вы же образованный человек и знаете, как трудно приводить библиотеку в порядок. К тому же Василий Семенович — педант!
Ротмистр кивнул. Городовые начали рассовывать книги по полкам. Ставили косо, переворачивая корешки и путая авторов. Василий Семенович морщился, Мария Петровна презрительно щурила глаза. Обыск продолжался. Выдвинули ящик письменного стола. Шуршали бумагами тонкие пальцы ротмистра.
— Ради бога! Осторожнее — мои записи… Тезисы… Я по том год не разберусь… Статьи по земским вопросам. — Василий Семенович умолял.
Ротмистр звучно захлопнул крышку. От удара выпал ключ, звякнул о пол. Ротмистр поднялся, хрустнул пальцами. С кабинетом закончено. Нужно переходить в детскую комнату. Василий Семенович приподнялся на локти. Жандармы в детскую! Разбудят Лелю и Катю! Испугают! Мария Петровна стояла с серым лицом. Не вытерпела, шагнула наперерез.
— Неужели начнете тормошить девочек? — Голос ее задрожал от возмущения.
— К сожалению, вынужден! — отрезал ротмистр, отстранив ее от двери.
В детской тихо горел ночник. Сказочный гном колпачком прикрыл горящую свечу. Чуть слышно бормотала спящая Катя. Положив розовую ладонь под пухлую щеку, сладко всхрапывала Леля. Старшая. Няня, молоденькая девушка, недавно приехавшая из деревни, боязливо натянула на глаза байковое одеяло.
Ротмистр взмахнул рукой. Щупленький жандарм внес зажженную лампу. Уронил колпачок сказочный гном. Леля привстала, испуганно смотрела на чужих людей. На подушке рядышком лежала кукла. Большая. Нарядная. С закрытыми глазами. Леля хорошо помнила, что спать ее укладывали без куклы. Значит, принесла мама. Да, конечно. Мама ее всегда хвалила, долго целовала, если она, разбуженная ночью, брала куклу на руки. А сегодня?! Леля вопросительно поглядела на маму, встревоженную, непривычно серьезную. Придвинула куклу поближе, не понимая, что происходит вокруг. Чужие люди выкидывали белье из пузатого шкафа, перекладывали вещи нянюшки. Кто-то толкнул красный мяч, он покатился, путаясь под ногами. Разрушили горку из игрушек, за которой так следила мама. Лишь один ванька-встанька улыбался нарисованным ртом. Нянюшка, открыв обитый железом сундук, торопливо выбрасывала ситцевые кофты, хрустящие юбки в оборках. Леле стало страшно от чужих и неприветливых людей, от грубых рук и разбросанных игрушек. Почему же мама, всесильная мама, не выгонит их из спальни?! Шум разбудил и Катю. Обычно улыбчивое лицо удивленно вытянулось. Катя начала плакать слезами-горошинками. Мама не подошла к Кате, а молча стояла у косяка двери. Леле стало еще страшнее. Вот так же возьмут ее куклу, которую она даже Кате не доверяет, возьмут и бросят… На полу лежал плюшевый мишка, матрешка, цветные кубики. Нянюшкину постель раскидывали жадные руки. Вот они уже на Катиной кровати. Сдернули кружевные занавески, перевернули матрац. Катя отчаянно закричала. Няня взяла девочку, сердито оттолкнула жандарма. Леля боялась этих жадных рук. Она поднялась, держась за деревянную спинку. Опустила ноги на холодный пол, подумала и взяла куклу. К Лелиной постели подошел ротмистр. Девочка стиснула куклу и сердито посмотрела.
— Помогите! Люди добрые! Детей обыскивают! — в голос запричитала кухарка. — Обыск в детской! Обыск!
— Прекратить! В гостиную! Один на кухню! — резко прервал причитания кухарки ротмистр.
— Пожалуйте! По-жа-луй-те на кухню! За тараканами на печку! Ничего недозволенного не держим! Может, клопов али мышей усмотрите! — бушевала кухарка, подперев крутые бока.
— Уймись, чертова баба! — с сердцем прикрикнул щупленький жандарм.
Однако унять кухарку оказалось нелегко. С кухни доносился ее громкий голос:
— Вот кадка с углем… Чугунок со щами!
Мария Петровна не могла сдержать улыбки. Она также уходила из детской. Но прежде чем уйти, подошла к Леле, крепко ее поцеловала.
Кухарка Марфуша разорялась остервенело. Путая русские и украинские слова, она с грохотом выкидывала кастрюли, сверкавшие начищенной медью. Обычно Марфуша гордилась блеском своих кастрюль, но сегодня она их перекидывала с завидной легкостью и умением.
— Медный таз, пан жандарм! — Марфуша выразительно громыхнула по начищенному дну. На мгновение лицо ее стало испуганным. — Прости господи! Рыбные судки утаила…
С нарочитой поспешностью опрокинула продолговатые кастрюли, вываливала тушеную морковь… Марфуша не унималась. Пересчитывала обливные миски, похожие как близнецы, перебрасывала поварешку, ножи. Жандарм шарил в кухонном буфете, звенел посудой, хлопал дверцами. Марфуша, чувствительно толкнув его, прошла к чулану. Сняла с дверцы замок, который вешали от девочек.
— Здесь дрова для плиты… Вечор наколол дворник. Эти поленья для сушки. — Марфуша спрятала руки под фартук.
Ротмистр отстранил ее. Мария Петровна стояла с непроницаемым лицом. Сверху лежало полено. Березовое в черных разводах. Полено как другие. И все же особенное — с искровскими листовками. Найдут — долгий арест… Ротмистр устало махнул рукой. На помощь бросился жандарм. Начал перекидывать дрова, выгребать щепки. Поленья покатились на кухню. Мария Петровна внимательно следила за обыском в чулане. Почему с такой тщательностью они там копаются?! Может быть, что-то известно… Дрова загородили проход, Жандарм стал их выбрасывать в коридор. Березовое полено, то самое в черных разводах, подкатилось к ногам Марфуши. Кухарка вскрикнула, отдернула ногу. В чулане крюками приподнимали половицы. И опять тревога — под половицами закопана литература. Получила ее недавно, переправить в Солдатскую слободку не успела… Половицы не поддавались. Спасибо Канатчикову! Спасибо! А то беда — свертки в клеенке едва припорошены землей…
— Марфуша! А полено-то сухое! — заметила Мария Петровна, небрежно ткнув его ногой. — Завтра, а вернее, сегодня распилите… Прикажите дворнику… Уже седьмой час!
Марфуша ничего не сказала, но в душе удивилась. Мария Петровна никогда в такие мелочи не вмешивалась. Кухарка жила в доме не первый год и вопросов задавать не стала. Мария Петровна откровенно зевала. Ротмистр вылез из чулана, взглянул на часы. Действительно, обыск длится четыре часа!
— Заканчивай! — Ротмистр натянул перчатку, улыбнулся Марии Петровне. — Душевно рад, что все благополучно. Разрешите откланяться!
— Думаю, что ненадолго! — презрительно сжала губы Мария Петровна и, круто повернувшись, прошла в детскую.
Мария Петровна уложила мужа на диван, сделала холодный компресс на сердце. Торопливо поднялась и пошла мимо оторопевшего ротмистра. Вернулась скоро в зеленом капоте и кружевном чепце, с забранными русыми волосами. Ротмистр нерешительно переминался. Действительно, обыски в доме Голубевых участились… Человек уважаемый, семейный. Поговаривают, правда, что все зло в жене.
— Приступайте! Но прошу помнить: муж сердечник, а рядом — детская… Одной — четыре, другой — шесть! Могут испугаться ночного переполоха, — заметила Мария Петровна. Ротмистр пожал плечами, коротко бросил:
— Начинайте! Прежде всего — кабинет!
На середину комнаты ротмистр выставил стул, положил фуражку. Начал осматриваться. Три книжных шкафа. Хватит перебирать до утра. Книги перебирал неохотно. Немецкие… Английские… Французские… Энциклопедия Брокгауза… Справочники… Земские сборники… В большинстве книг закладки, выписки, подчеркнутые абзацы. Брови ротмистра удивленно взлетели вверх. Бельтов «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии».
— Бельтов?! — переспросил ротмистр. — Бельтов?! Сердце Василия Семеновича дрогнуло. Бельтов — псевдоним Плеханова! Хранение запрещенной литературы! Как это он недоглядел? Да, в корешок еще заделал прокламацию о Балмашеве…
— Бельтов — известный исследователь в области искусства и религии. Книги его имеют широкое обращение среди интеллигентов, — вступилась Мария Петровна. — Ты взял из библиотеки Народной аудитории?! Знаю, наверняка просрочил… Нужно утром вернуть.
Ротмистр повернул книгу, угрюмо поставил на полку. Василий Семенович облегченно вздохнул. Пронесло! И опять руки ротмистра перебирали шкаф. Росла на полу гора книг. Мария Петровна не выдержала:
— Может быть, целесообразнее ставить просмотренные книги на прежнее место? Тем более, что ничего предосудительного они не содержат… Вы же образованный человек и знаете, как трудно приводить библиотеку в порядок. К тому же Василий Семенович — педант!
Ротмистр кивнул. Городовые начали рассовывать книги по полкам. Ставили косо, переворачивая корешки и путая авторов. Василий Семенович морщился, Мария Петровна презрительно щурила глаза. Обыск продолжался. Выдвинули ящик письменного стола. Шуршали бумагами тонкие пальцы ротмистра.
— Ради бога! Осторожнее — мои записи… Тезисы… Я по том год не разберусь… Статьи по земским вопросам. — Василий Семенович умолял.
Ротмистр звучно захлопнул крышку. От удара выпал ключ, звякнул о пол. Ротмистр поднялся, хрустнул пальцами. С кабинетом закончено. Нужно переходить в детскую комнату. Василий Семенович приподнялся на локти. Жандармы в детскую! Разбудят Лелю и Катю! Испугают! Мария Петровна стояла с серым лицом. Не вытерпела, шагнула наперерез.
— Неужели начнете тормошить девочек? — Голос ее задрожал от возмущения.
— К сожалению, вынужден! — отрезал ротмистр, отстранив ее от двери.
В детской тихо горел ночник. Сказочный гном колпачком прикрыл горящую свечу. Чуть слышно бормотала спящая Катя. Положив розовую ладонь под пухлую щеку, сладко всхрапывала Леля. Старшая. Няня, молоденькая девушка, недавно приехавшая из деревни, боязливо натянула на глаза байковое одеяло.
Ротмистр взмахнул рукой. Щупленький жандарм внес зажженную лампу. Уронил колпачок сказочный гном. Леля привстала, испуганно смотрела на чужих людей. На подушке рядышком лежала кукла. Большая. Нарядная. С закрытыми глазами. Леля хорошо помнила, что спать ее укладывали без куклы. Значит, принесла мама. Да, конечно. Мама ее всегда хвалила, долго целовала, если она, разбуженная ночью, брала куклу на руки. А сегодня?! Леля вопросительно поглядела на маму, встревоженную, непривычно серьезную. Придвинула куклу поближе, не понимая, что происходит вокруг. Чужие люди выкидывали белье из пузатого шкафа, перекладывали вещи нянюшки. Кто-то толкнул красный мяч, он покатился, путаясь под ногами. Разрушили горку из игрушек, за которой так следила мама. Лишь один ванька-встанька улыбался нарисованным ртом. Нянюшка, открыв обитый железом сундук, торопливо выбрасывала ситцевые кофты, хрустящие юбки в оборках. Леле стало страшно от чужих и неприветливых людей, от грубых рук и разбросанных игрушек. Почему же мама, всесильная мама, не выгонит их из спальни?! Шум разбудил и Катю. Обычно улыбчивое лицо удивленно вытянулось. Катя начала плакать слезами-горошинками. Мама не подошла к Кате, а молча стояла у косяка двери. Леле стало еще страшнее. Вот так же возьмут ее куклу, которую она даже Кате не доверяет, возьмут и бросят… На полу лежал плюшевый мишка, матрешка, цветные кубики. Нянюшкину постель раскидывали жадные руки. Вот они уже на Катиной кровати. Сдернули кружевные занавески, перевернули матрац. Катя отчаянно закричала. Няня взяла девочку, сердито оттолкнула жандарма. Леля боялась этих жадных рук. Она поднялась, держась за деревянную спинку. Опустила ноги на холодный пол, подумала и взяла куклу. К Лелиной постели подошел ротмистр. Девочка стиснула куклу и сердито посмотрела.
— Помогите! Люди добрые! Детей обыскивают! — в голос запричитала кухарка. — Обыск в детской! Обыск!
— Прекратить! В гостиную! Один на кухню! — резко прервал причитания кухарки ротмистр.
— Пожалуйте! По-жа-луй-те на кухню! За тараканами на печку! Ничего недозволенного не держим! Может, клопов али мышей усмотрите! — бушевала кухарка, подперев крутые бока.
— Уймись, чертова баба! — с сердцем прикрикнул щупленький жандарм.
Однако унять кухарку оказалось нелегко. С кухни доносился ее громкий голос:
— Вот кадка с углем… Чугунок со щами!
Мария Петровна не могла сдержать улыбки. Она также уходила из детской. Но прежде чем уйти, подошла к Леле, крепко ее поцеловала.
Кухарка Марфуша разорялась остервенело. Путая русские и украинские слова, она с грохотом выкидывала кастрюли, сверкавшие начищенной медью. Обычно Марфуша гордилась блеском своих кастрюль, но сегодня она их перекидывала с завидной легкостью и умением.
— Медный таз, пан жандарм! — Марфуша выразительно громыхнула по начищенному дну. На мгновение лицо ее стало испуганным. — Прости господи! Рыбные судки утаила…
С нарочитой поспешностью опрокинула продолговатые кастрюли, вываливала тушеную морковь… Марфуша не унималась. Пересчитывала обливные миски, похожие как близнецы, перебрасывала поварешку, ножи. Жандарм шарил в кухонном буфете, звенел посудой, хлопал дверцами. Марфуша, чувствительно толкнув его, прошла к чулану. Сняла с дверцы замок, который вешали от девочек.
— Здесь дрова для плиты… Вечор наколол дворник. Эти поленья для сушки. — Марфуша спрятала руки под фартук.
Ротмистр отстранил ее. Мария Петровна стояла с непроницаемым лицом. Сверху лежало полено. Березовое в черных разводах. Полено как другие. И все же особенное — с искровскими листовками. Найдут — долгий арест… Ротмистр устало махнул рукой. На помощь бросился жандарм. Начал перекидывать дрова, выгребать щепки. Поленья покатились на кухню. Мария Петровна внимательно следила за обыском в чулане. Почему с такой тщательностью они там копаются?! Может быть, что-то известно… Дрова загородили проход, Жандарм стал их выбрасывать в коридор. Березовое полено, то самое в черных разводах, подкатилось к ногам Марфуши. Кухарка вскрикнула, отдернула ногу. В чулане крюками приподнимали половицы. И опять тревога — под половицами закопана литература. Получила ее недавно, переправить в Солдатскую слободку не успела… Половицы не поддавались. Спасибо Канатчикову! Спасибо! А то беда — свертки в клеенке едва припорошены землей…
— Марфуша! А полено-то сухое! — заметила Мария Петровна, небрежно ткнув его ногой. — Завтра, а вернее, сегодня распилите… Прикажите дворнику… Уже седьмой час!
Марфуша ничего не сказала, но в душе удивилась. Мария Петровна никогда в такие мелочи не вмешивалась. Кухарка жила в доме не первый год и вопросов задавать не стала. Мария Петровна откровенно зевала. Ротмистр вылез из чулана, взглянул на часы. Действительно, обыск длится четыре часа!
— Заканчивай! — Ротмистр натянул перчатку, улыбнулся Марии Петровне. — Душевно рад, что все благополучно. Разрешите откланяться!
— Думаю, что ненадолго! — презрительно сжала губы Мария Петровна и, круто повернувшись, прошла в детскую.
Мастерская «пряток»
Тесовые ворота пахли смолой. Покосилась вывеска, вырисованная славянской вязью. Ворота закрыты. Над калиткой болтался колокольчик. Сквозь редкую изгородь виднелся невысокий дом, столь обычный для городской окраины. Над домом скворечник. Скворечник раскачивался, как только выпрыгивал черный, словно антрацит, скворец. Апрельский ветерок сгонял грязь с дорожки, проложенной к дому. Краснели набухшие почки деревьев, выпуская крошечные листы. В глубине двора у разбросанных досок зеленела кустиками трава. У мастерской стояла подвода, на которую нагружали буфет. Канатчиков, владелец мастерской, в холщовом фартуке помогал мастеровым увязывать покупку. Покупатель, приказчик в сапогах с калошами, осторожно подкладывал солому под буфет, боясь, как бы не повредили дорогой. Вздыхал, шумно торговался, хотя покупка ему явно нравилась. — Десятка! Мать честная, десятка! — Цепкие пальцы вновь и вновь приоткрывали крышку. — А работы-то сколько, милой! — беззлобно отвечал Канатчиков. — Смотри, какие швы… А дверца! Играет! Листочки будто живые. Материал сухой, простоит сто годов… Внукам пойдет… — Работка подходящая, но денежки… — Мне эти деньги на толкуне дадут с лихвой… Хочется удружить хорошему человеку… Подожду чуток, а там под пасху пятнадцать рубликов отхвачу. — Канатчиков провел рукой по лакированной дверке. Приказчик полез в карман поддевки с двойным рядом пуговиц. Достал деньги. Подержав в потной ладони, отдал. Канатчиков попробовал кредитку на ощупь, посмотрел на свет. Наконец ударили по рукам. Послышался ржавый скрип запоров на воротах, и телега выехала на пыльную горбатую улицу.
Мария Петровна сидела на скамеечке, не вмешивалась в сделку. На ней потертый сак и черный кружевной шарф. В руках кошелка с зеленой петрушкой. Одеждой, внешностью напоминала кухарку из хорошего дома.
— Скуповат, хозяин! Так всю клиентуру растеряешь! Беднягу в пот загнал! — Мария Петровна одобрительно покачала головой и неожиданно закончила: — Молодец!
— Такой уж народец навязался на мою душу! Лобазная крыса! Все канючит, канючит! — Канатчиков потрогал светлую ниточку усов. — Счастье, что заказы со стороны берем редко. Своей работы завались.
— Нет, со стороны нужно брать… Непременно! Так конспиративнее, правдоподобнее. — Мария Петровна озабоченно спросила: — Мое полено готово?!
— Завтра, хозяюшка, доставим! — Канатчиков кивнул на ступенчатый костер березовых дров. — Так говорите, при обыске спасло поленце…
— Спасло! Поэтому хочу запастись ещё одним. — Она хитро улыбнулась и шутливо закончила: — Если мой заказ не готов, то и вам придется подождать!
— Нет, уже не уйдете! Воеводин, спускай пса! — Канатчиков подошел к калитке, навесил крюк.
Из конуры большими прыжками вывалился лохматый пес и затряс тяжелой цепью. Сонно зевнул, потянулся, шаром подкатился к Марии Петровне. С разбегу лизнул ее в губы. Мария Петровна отстранилась, засмеялась. Потрепала рукой по жестким космам. Шарик прижал уши, отскочил и вновь вихрем налетел на Марию Петровну.
— Тут словами не отделаешься! — улыбнулся Канатчиков. — Сами виноваты, испортили собаку! Никакой злости не хватит!
Пес стоял на задних лапах, умильно крутил хвостом, тихо скулил. В зеленоватых с рыжими искорками глазах преданность, ожидание.
— Получай, разбойник! — Мария Петровна вынула из корзины кулек с обрезками, критически взглянула на пса. — Больно толстоват, братец!
— Ну, опять баловство! — нахмурился Канатчиков. — Кругом собаки, как тигры. Злые, поджарые. А наш — карикатура.
— Зато видом берет! Гора — не кобель. Летит снежным комом, цепью гремит… Разорвет! — Воеводин погрузил пальцы в собачью шерсть… — Тут купец соблазнялся, хотел Шарика за лютость украсть! Еле спасли…
Воеводин, молодой паренек, частенько захаживал в мастерскую. МарияПетровна его любила. В городе появился недавно: выслали из южной губернии под гласный надзор полиции.
— Счастье, что соседские куры забредают ненароком. Тут Шарик кидается так, что цепь стонет. А лает?! Ужас наводит на всю округу. — Воеводин поднял кольцо, болтавшееся на конце цепи, прикрепил к проволоке, протянутой вдоль забора.
Шарик неохотно поплелся к конуре, опустив лохматую голову и поджав хвост.
Мария Петровна улыбнулась. На лице усталость. Она долго копалась в корзине, пока не достала пакет в серой бумаге, напоминавший магазинную покупку.
— Получайте. Двадцать прокламаций… Это Воеводину для завода Гантке… Еще десять номеров «Искры». — Мария Петровна прищурила глаза и добавила: — Газету нужно беречь, отдавать только в надежные руки. Денег нет. Бумаги нет. С типографией туго…
Воеводин понимающе кивнул головой, запрятал сверток в пахучие стружки, но огорчения своего скрыть не сумел:
— Что так мало?! Ребята зачитываются «Искрой»…
— Неприятность! Дали одному молодцу, а сверток с литературой оказался в полиции.
— Провокатор?! — насторожился Воеводин.
— Нет, стечение обстоятельств. Человек он честный! Когда-то работал под Саратовом в мастерской у попа. Потом пришлось скрыться. Решил, что все забылось, — время давнее. Мы его снабдили литературой и отправили на побывку. Попадья приняла неласково, задумала недоброе. Вот он вечерком перетащил цветастый узел с литературой в огород, зарыл между грядками, да чертова попадья разыскала… Ночью откопала узел, передала в полицию. Теперь жди следствия, а главное — такая добыча охранке! Сотня листовок, десяток брошюр…
— Да, неудача! Если парень надежный, то горевать нечего. — Воеводин по привычке взъерошил волнистые густые волосы. — Были бы кости, а мясо будет!
— Снявши голову, по волосам не плачут! — в тон ему ответила Мария Петровна. — Обойдется… Только вот листовок недостает!
Воеводин почесал затылок. Вздохнул.
— Показывайте, что придумали… Кстати, тут двадцать рублей на материал. Знаю, что мало, — отрезала Мария Петровна, не дав возразить Канатчикову. — Денег нет! Касса пустая! Завтра в Коммерческом клубе вечер. Наверняка соберем. Тогда и вам выделим. А пока говорить не о чем!
— Так от вечера до вечера и тянем… — досадливо заметил Канатчиков. — Да, о событиях в Народной аудитории слышали?!
— Были в Народной аудитории?! — удивилась Мария Петровна. — К сожалению, попасть не удалось: девочка заболела.
— Мне, как хозяину, посещать богопротивные вечера не полагается, а вот Воеводин целый вечер там проторчал.
— Ну, уж вечер… Билеты раздали на заводе дамы-благотворительницы. Ребята сначала не хотели идти, но мы приложили руку. Концерт длинный, скучный… Кто-то начал шутить, что, мол, пора бы скрипачу перепилить скрипку. А дамы млели, глаза закатывали от восторга. — Воеводин рассказывал шутливо, обстоятельно. — Потом не выдержали, сбежали. Поднялись на второй этаж в библиотеку да пустили по рукам прокламации. Концерт закончился. Народ повалил в буфет. Мы и надумали… Закрыли поплотнее дверь, да как грянем: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!»
— Вот так концерт! — довольно заметил Канатчиков.
Распорядитель с белым бантом влетел как угорелый. Замахал руками, обманули, мол, его доверие. Опять загудела железная лестница. Городовой! Тонкий, худой, глиста в обмороке. Только и виду, что одна шашка… «Что за песни, молодец?» — прошипел гусаком, Я дурачком прикинулся: «Где, мол, песни?! Ничего не слышу». Даже руку к уху приложил. Тут студенты пробегали, я к ним: «Господин городовой какие-то песни услышал!» Те от удивления даже присели. Тот позеленел от злости. «Доложу по начальству… Вызову наряд!» Мы, конечно, благодарим! сами, мол, порядок любим! Так с песнями и спустились в зал. Тут снял я шапку и по кругу: «Пожалуйста, деньги для недостаточных студентов». Народ смекнул, и полетели денежки, как осенние листочки. Пора и честь знать… Ушел…
— Нельзя было рисковать, деньги нужно вынести! — вразумлял его Канатчиков, продолжая, как поняла Мария Петровна, старый разговор. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж!
— Понятно, а обидно!
— В какую часть отвели? Может быть, удастся помочь? — заметила Мария Петровна.
— В первую часть, на Немецкую… Ругайте не ругайте, а если бы не деньги — не утерпел. — Воеводин тряхнул головой.
— Придет время — покажешь кулаки! — примирительно заметил Канатчиков. — А пока потерпи…
— Держите деньги, Мария Петровна. — Воеводин подхватил полено, выбил кляп, достал узелок. — Только, чур, для «Искры»… Пятьдесят шесть рублев и трехалтынный.
— Спасибо! — Мария Петровна с удовольствием запрятала деньги на дно корзины.
— Голиаф! — довольно рассмеялся Канатчиков. — Одной рукой бревно поднимает! — И, заметив рассеянный взгляд Воеводина, пояснил: — Силач!
— Думаю, полено легковато! Наверняка много выдолбили, — обеспокоенно заметила Мария Петровна. — Всякое может случиться — нужно вес сохранять.
— А вы попробуйте! — Канатчиков подкатил полено. Мария Петровна нагнулась. Подняла. На щеках появился румянец. Сказала с укором:
— Жадничаете! Тайник хотите побольше сделать, а зря! Провалите народ при обысках и расшифруете такую идею… Вынимайте древесины поменьше. Вес! Вес не забывайте!
Мария Петровна отставила корзину, начала обходить мастерскую. Верстаки, присыпанные кудрявыми стружками, которые с хрустом давились под ногами. Токарный станок в пыльных опилках. Запах свежей смолы и скипидара. А вот и «мебель» для нужд социал-демократов. Обеденный стол с отвинчивающимися ножками. В ножках — тайник. Полки с двойными стенками для посуды, передняя вынималась, если знать секрет. Но подлинного искусства достигли в производстве бочек. Вот они, бочки, гнутые из толстых клепок. Бочка залита водой, а в двойном дне — литература! Неожиданно Мария Петровна подняла глаза, удивленно пожала плечами: в красном углу мастерской — портрет Карла Маркса!
— О конспирации совершенно забыли! — сердито обронила она. — На самом видном месте — портрет Карла Маркса!
— Как возможно! — возмутился Канатчиков. — Забыть о конспирации!..
— Воеводин быстро подошел и перевернул портрет. На Марию Петровну смотрели пустые водянистые глаза Николая Второго! Канатчиков торжествовал, усмехаясь. Мария Петровна не выдержала, махнула рукой. Воеводин хохотал.
В Саратов Канатчикова выслали из Петербурга. Приехал и стал «хозяином» мастерской по производству мебели для партийных нужд. Мысль о создании такой мастерской вынашивалась долго. Мария Петровна, привыкшая к строгой конспирации у Заичневского, оказалась весьма изобретательной. Мастерскую она любила. Да и так подумать — скольких спасли от ареста тайники столярной мастерской! Конечно, получать «Искру» из-за границы дело сложное, перевозка требовала подлинного искусства, но сохранить и уберечь ее при обысках — задача немаловажная! В мастерскую открыли доступ немногим, все же Марию Петровну не покидало беспокойство.
— Шпиков не видно? — спросила при прощании, старательно закрывая корзину петрушкой.
— Как сказать?! Завертелись около нас «клиенты». Вчера пришел один заказывать диван. Отказали, не делаем. Пожалуйте, через дорогу к Фирюбину… Так гад уходить со двора не хотел, крутился, высматривал. — Канатчиков невесело пошутил: — Решил уж Шарика спустить…
— Давно началось? — глухо спросила Мария Петровна.
— Да с недельку!
— Наверняка с демонстрацией связано, а шпиков привели с Зеленого острова… На сходке были?
Канатчиков виновато молчал. Воеводин отвел глаза. Что спрашивать — конечно, были…
— Мастерская не может провалиться… Понимаете, не может! Удвойте осторожность. — Мария Петровна будто постарела, глаза потускнели, у рта глубокие складки. — В случае опасности нелегальщину разнесите по известным адресам… Да что вас учить — ученые! — И, желая переменить разговор, спросила: — Так когда мне привезете полено?
— Завтра… Завтра доставим. — Канатчиков толкнул ногой доски. — Может быть, бочку прихватить?
— Давайте, не помешает.
Приказчик полез в карман поддевки с двойным рядом пуговиц. Достал деньги. Подержав в потной ладони, отдал. Канатчиков попробовал кредитку на ощупь, посмотрел на свет. Наконец ударили по рукам. Послышался ржавый скрип запоров на воротах, и телега выехала на пыльную горбатую улицу.
Мария Петровна сидела на скамеечке, не вмешивалась в сделку. На ней потертый сак и черный кружевной шарф. В руках кошелка с зеленой петрушкой. Одеждой, внешностью напоминала кухарку из хорошего дома.
— Скуповат, хозяин! Так всю клиентуру растеряешь! Беднягу в пот загнал! — Мария Петровна одобрительно покачала головой и неожиданно закончила: — Молодец!
— Такой уж народец навязался на мою душу! Лобазная крыса! Все канючит, канючит! — Канатчиков потрогал светлую ниточку усов. — Счастье, что заказы со стороны берем редко. Своей работы завались.
— Нет, со стороны нужно брать… Непременно! Так конспиративнее, правдоподобнее. — Мария Петровна озабоченно спросила: — Мое полено готово?!
— Завтра, хозяюшка, доставим! — Канатчиков кивнул на ступенчатый костер березовых дров. — Так говорите, при обыске спасло поленце…
— Спасло! Поэтому хочу запастись ещё одним. — Она хитро улыбнулась и шутливо закончила: — Если мой заказ не готов, то и вам придется подождать!
— Нет, уже не уйдете! Воеводин, спускай пса! — Канатчиков подошел к калитке, навесил крюк.
Из конуры большими прыжками вывалился лохматый пес и затряс тяжелой цепью. Сонно зевнул, потянулся, шаром подкатился к Марии Петровне. С разбегу лизнул ее в губы. Мария Петровна отстранилась, засмеялась. Потрепала рукой по жестким космам. Шарик прижал уши, отскочил и вновь вихрем налетел на Марию Петровну.
— Тут словами не отделаешься! — улыбнулся Канатчиков. — Сами виноваты, испортили собаку! Никакой злости не хватит!
Пес стоял на задних лапах, умильно крутил хвостом, тихо скулил. В зеленоватых с рыжими искорками глазах преданность, ожидание.
— Получай, разбойник! — Мария Петровна вынула из корзины кулек с обрезками, критически взглянула на пса. — Больно толстоват, братец!
— Ну, опять баловство! — нахмурился Канатчиков. — Кругом собаки, как тигры. Злые, поджарые. А наш — карикатура.
— Зато видом берет! Гора — не кобель. Летит снежным комом, цепью гремит… Разорвет! — Воеводин погрузил пальцы в собачью шерсть… — Тут купец соблазнялся, хотел Шарика за лютость украсть! Еле спасли…
Воеводин, молодой паренек, частенько захаживал в мастерскую. МарияПетровна его любила. В городе появился недавно: выслали из южной губернии под гласный надзор полиции.
— Счастье, что соседские куры забредают ненароком. Тут Шарик кидается так, что цепь стонет. А лает?! Ужас наводит на всю округу. — Воеводин поднял кольцо, болтавшееся на конце цепи, прикрепил к проволоке, протянутой вдоль забора.
Шарик неохотно поплелся к конуре, опустив лохматую голову и поджав хвост.
Мария Петровна улыбнулась. На лице усталость. Она долго копалась в корзине, пока не достала пакет в серой бумаге, напоминавший магазинную покупку.
— Получайте. Двадцать прокламаций… Это Воеводину для завода Гантке… Еще десять номеров «Искры». — Мария Петровна прищурила глаза и добавила: — Газету нужно беречь, отдавать только в надежные руки. Денег нет. Бумаги нет. С типографией туго…
Воеводин понимающе кивнул головой, запрятал сверток в пахучие стружки, но огорчения своего скрыть не сумел:
— Что так мало?! Ребята зачитываются «Искрой»…
— Неприятность! Дали одному молодцу, а сверток с литературой оказался в полиции.
— Провокатор?! — насторожился Воеводин.
— Нет, стечение обстоятельств. Человек он честный! Когда-то работал под Саратовом в мастерской у попа. Потом пришлось скрыться. Решил, что все забылось, — время давнее. Мы его снабдили литературой и отправили на побывку. Попадья приняла неласково, задумала недоброе. Вот он вечерком перетащил цветастый узел с литературой в огород, зарыл между грядками, да чертова попадья разыскала… Ночью откопала узел, передала в полицию. Теперь жди следствия, а главное — такая добыча охранке! Сотня листовок, десяток брошюр…
— Да, неудача! Если парень надежный, то горевать нечего. — Воеводин по привычке взъерошил волнистые густые волосы. — Были бы кости, а мясо будет!
— Снявши голову, по волосам не плачут! — в тон ему ответила Мария Петровна. — Обойдется… Только вот листовок недостает!
Воеводин почесал затылок. Вздохнул.
— Показывайте, что придумали… Кстати, тут двадцать рублей на материал. Знаю, что мало, — отрезала Мария Петровна, не дав возразить Канатчикову. — Денег нет! Касса пустая! Завтра в Коммерческом клубе вечер. Наверняка соберем. Тогда и вам выделим. А пока говорить не о чем!
— Так от вечера до вечера и тянем… — досадливо заметил Канатчиков. — Да, о событиях в Народной аудитории слышали?!
— Были в Народной аудитории?! — удивилась Мария Петровна. — К сожалению, попасть не удалось: девочка заболела.
— Мне, как хозяину, посещать богопротивные вечера не полагается, а вот Воеводин целый вечер там проторчал.
— Ну, уж вечер… Билеты раздали на заводе дамы-благотворительницы. Ребята сначала не хотели идти, но мы приложили руку. Концерт длинный, скучный… Кто-то начал шутить, что, мол, пора бы скрипачу перепилить скрипку. А дамы млели, глаза закатывали от восторга. — Воеводин рассказывал шутливо, обстоятельно. — Потом не выдержали, сбежали. Поднялись на второй этаж в библиотеку да пустили по рукам прокламации. Концерт закончился. Народ повалил в буфет. Мы и надумали… Закрыли поплотнее дверь, да как грянем: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!»
— Вот так концерт! — довольно заметил Канатчиков.
Распорядитель с белым бантом влетел как угорелый. Замахал руками, обманули, мол, его доверие. Опять загудела железная лестница. Городовой! Тонкий, худой, глиста в обмороке. Только и виду, что одна шашка… «Что за песни, молодец?» — прошипел гусаком, Я дурачком прикинулся: «Где, мол, песни?! Ничего не слышу». Даже руку к уху приложил. Тут студенты пробегали, я к ним: «Господин городовой какие-то песни услышал!» Те от удивления даже присели. Тот позеленел от злости. «Доложу по начальству… Вызову наряд!» Мы, конечно, благодарим! сами, мол, порядок любим! Так с песнями и спустились в зал. Тут снял я шапку и по кругу: «Пожалуйста, деньги для недостаточных студентов». Народ смекнул, и полетели денежки, как осенние листочки. Пора и честь знать… Ушел…
— Нельзя было рисковать, деньги нужно вынести! — вразумлял его Канатчиков, продолжая, как поняла Мария Петровна, старый разговор. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж!
— Понятно, а обидно!
— В какую часть отвели? Может быть, удастся помочь? — заметила Мария Петровна.
— В первую часть, на Немецкую… Ругайте не ругайте, а если бы не деньги — не утерпел. — Воеводин тряхнул головой.
— Придет время — покажешь кулаки! — примирительно заметил Канатчиков. — А пока потерпи…
— Держите деньги, Мария Петровна. — Воеводин подхватил полено, выбил кляп, достал узелок. — Только, чур, для «Искры»… Пятьдесят шесть рублев и трехалтынный.
— Спасибо! — Мария Петровна с удовольствием запрятала деньги на дно корзины.
— Голиаф! — довольно рассмеялся Канатчиков. — Одной рукой бревно поднимает! — И, заметив рассеянный взгляд Воеводина, пояснил: — Силач!
— Думаю, полено легковато! Наверняка много выдолбили, — обеспокоенно заметила Мария Петровна. — Всякое может случиться — нужно вес сохранять.
— А вы попробуйте! — Канатчиков подкатил полено. Мария Петровна нагнулась. Подняла. На щеках появился румянец. Сказала с укором:
— Жадничаете! Тайник хотите побольше сделать, а зря! Провалите народ при обысках и расшифруете такую идею… Вынимайте древесины поменьше. Вес! Вес не забывайте!
Мария Петровна отставила корзину, начала обходить мастерскую. Верстаки, присыпанные кудрявыми стружками, которые с хрустом давились под ногами. Токарный станок в пыльных опилках. Запах свежей смолы и скипидара. А вот и «мебель» для нужд социал-демократов. Обеденный стол с отвинчивающимися ножками. В ножках — тайник. Полки с двойными стенками для посуды, передняя вынималась, если знать секрет. Но подлинного искусства достигли в производстве бочек. Вот они, бочки, гнутые из толстых клепок. Бочка залита водой, а в двойном дне — литература! Неожиданно Мария Петровна подняла глаза, удивленно пожала плечами: в красном углу мастерской — портрет Карла Маркса!
— О конспирации совершенно забыли! — сердито обронила она. — На самом видном месте — портрет Карла Маркса!
— Как возможно! — возмутился Канатчиков. — Забыть о конспирации!..
— Воеводин быстро подошел и перевернул портрет. На Марию Петровну смотрели пустые водянистые глаза Николая Второго! Канатчиков торжествовал, усмехаясь. Мария Петровна не выдержала, махнула рукой. Воеводин хохотал.
В Саратов Канатчикова выслали из Петербурга. Приехал и стал «хозяином» мастерской по производству мебели для партийных нужд. Мысль о создании такой мастерской вынашивалась долго. Мария Петровна, привыкшая к строгой конспирации у Заичневского, оказалась весьма изобретательной. Мастерскую она любила. Да и так подумать — скольких спасли от ареста тайники столярной мастерской! Конечно, получать «Искру» из-за границы дело сложное, перевозка требовала подлинного искусства, но сохранить и уберечь ее при обысках — задача немаловажная! В мастерскую открыли доступ немногим, все же Марию Петровну не покидало беспокойство.
— Шпиков не видно? — спросила при прощании, старательно закрывая корзину петрушкой.
— Как сказать?! Завертелись около нас «клиенты». Вчера пришел один заказывать диван. Отказали, не делаем. Пожалуйте, через дорогу к Фирюбину… Так гад уходить со двора не хотел, крутился, высматривал. — Канатчиков невесело пошутил: — Решил уж Шарика спустить…
— Давно началось? — глухо спросила Мария Петровна.
— Да с недельку!
— Наверняка с демонстрацией связано, а шпиков привели с Зеленого острова… На сходке были?
Канатчиков виновато молчал. Воеводин отвел глаза. Что спрашивать — конечно, были…
— Мастерская не может провалиться… Понимаете, не может! Удвойте осторожность. — Мария Петровна будто постарела, глаза потускнели, у рта глубокие складки. — В случае опасности нелегальщину разнесите по известным адресам… Да что вас учить — ученые! — И, желая переменить разговор, спросила: — Так когда мне привезете полено?
— Завтра… Завтра доставим. — Канатчиков толкнул ногой доски. — Может быть, бочку прихватить?
— Давайте, не помешает.
Трое вышли последними
Казалось, такие игрушечные проулки и дома, прикрытые утренним туманом, существуют только в сказках. Дома в два окошка с вросшими в землю наличниками и покосившимися крылечками. Лавочки, скрытые бузиной, в зеленых чешуйках. Узенькие тропки к дому в один кирпич. На всем чернота от копоти и толстых слоев пыли, чернота от времени и дождей. Мария Петровна осторожно шла вдоль улочки, зажатой заборами. Бил косой дождь, по-весеннему теплый и липкий, от которого не спасал старенький зонт. Крупные капли падали за воротник жакета, застилали глаза. Доносился звук колотушки да ленивый перебрех собак. В тишине журчала вода по желобам, глухо ударялась по распухшим кадкам. Послышались-голоса. Мария Петровна осторожно открыла калитку, слилась с черными стенами забора. Всхлипывала грязь под копытами, виднелись расплывчатые силуэты. — Есть кто? Выходи! — Есть, есть, ваше благородие! — Грязь зачавкала громче, показался сторож с колотушкой. — Никаких личностей не обнаружил… — Смотри не дрыхни! — Жандарм перегнулся в седле. — В эти чертовы закутки и не заедешь… Проверим через часок… И опять захлюпала грязь. Сторож чиркнул спичкой. Лениво зевнул, перекрестил рот. Мария Петровна смотрела на его оплывшее лицо, подсвеченное огоньком. Дождь загасил спичку. Сторож ударил в колотушку и медленно двинулся вперед, заглядывая в окна, залитые дождем. «Пронесло! — облегченно вздохнула Мария Петровна, вытирая мокрое лицо. — Словно сошли с ума: весь город заполонили патрулями, караульщиками…» Заскользила быстрее, опасаясь напороться на жандармов. Капли дождя все сильнее и сильнее били по лицу. Огляделась. Кажется, дорога правильная. Третий проулок от станции. У дома корыто под желобом. Значит, здесь. По желобу весело плескалась вода, оставляя пенистые пузыри. Калитка поддалась легко, без скрипа. Женщина прошла по тропке к дому, прикрытому косой пеленой дождя. Постучала трижды, отрывисто, торопливо. Приоткрылась занавеска в крайнем окошке. Робкий свет закачался на чахлой рябине, припавшей к забору. На крыльце вырос человек. Мария Петровна переступила порог. Глаза с трудом привыкли к темноте. Дверь закрыли на засов, провели в горенку. — Ба, знакомые все лица! — рассмеялась Мария Петровна. — Святая троица! — Жаркий денек… — Воеводин крепко пожал руку. — Все ушли, осталась наша троица. — А сколько ушло? — Восемь троек… Как говорили, каждая через двадцать минут. Мария Петровна подошла к столу. На клеенке разложены афиши, отпечатанные на гектографе: рабочий с красным знаменем звал на первомайскую демонстрацию. Мария Петровна провела рукой по шершавой бумаге, задержала взгляд на фигуре рабочего. Потрескивали дрова в русской печке. Попахивало дымком и чуть подгорелым хлебом. Пожилая женщина старательно размешивала клейстер большой ложкой. Воеводин раскладывал листовки, поплевывал на пальцы. — Зря рискуете, Мария Петровна! — сказал с укором. — Сами справимся… Как братва налетела на листовки, афиши брали с бою! Работали споро. Листовки рассовывали по карманам пиджаков, афиши убирали за пазуху: — Предельная осторожность! Город переполнен казаками, словно ожидают бунт… Еле добралась… Патрули… Дворники… Шпики… — Мария Петровна, обхватив тряпкой чугун, начала разливать клейстер по жестяным банкам. Кажется, предусмотрели все. В банках через ушки продели длинные шнуры. Из-под ремней топорщились щетиной плотные самодельные кисти. Порядок твердый и проверен неоднократно: первый старательно намазывает клейстером заборы, второй нахлобучивает листовки, третий прикрывает отряд, рассовывая воззвания под двери домов. — Афиши развешивайте по самым людным местам… Намазывайте гуще, чтобы сдирать было труднее. — Мария Петровна говорила негромко. — Доберитесь до Верхнего базара: день праздничный, наверняка народу соберется много… Да и соборы рядышком — богомольцы повалят. Листовки расклеивайте по рабочим кварталам и на виду. С типографией худо, жаль, если труд пропадет попусту. Воеводин взял кисти для клейстера, потрогал щетину. Его напарник, черноглазый паренек, через плечо повесил банку с клейстером, натянул дождевик. Отобрал кисть у Воеводина, положив в наружный карман. «Конечно, так сподручнее!» — подумала Мария Петровна. Третьим был новенький. Нерешительный, медлительный. Взглянув на Воеводина, начал торопливо рассовывать листовки под ремень. Воеводин вытащил их, хлопнул паренька по плечу: — Чудило! А если удирать придется, что останется от твоих прокламаций… Нет, уж мажь заборы, а я пойду первым. Паренек старательно припрятал банку. «Ничего, привыкнет!» — решила Мария Петровна, помогая ему натянуть старенькое пальто. Подошла хозяйка, сунула каждому по куску хлеба, посыпанного крупной солью, а Воеводину еще и луковицу.
— Что ж! Через десять минут можно выходить! Да, а по том домой… Мало ли что может случиться — хозяйка подтвердит: спали и к смутьянам отношения не имеете. — Мария Петровна задумалась и спросила: — А клея-то хватит?
Воеводин заглянул в свою банку, присвистнул, покрутил головой:
— Правда… Мы же не визитные карточки оставляем, а афиши с приглашением на маевку! Клейстеру кот наплакал. Добавляй, Петровна!
Старушка засуетилась. Подбросила поленце в печь, начала кипятить воду, чтобы заварить клейстер. Воеводин подсел поближе к огню, закрутил цигарку.
— Хороший сегодня день! Демонстрация! Листовки! — Голос звенел от радости.
Мария Петровна взяла листовку, повертела, краска оставляла жирный отпечаток на руках, читала вслух:
Паренек старательно припрятал банку. «Ничего, привыкнет!» — решила Мария Петровна, помогая ему натянуть старенькое пальто. Подошла хозяйка, сунула каждому по куску хлеба, посыпанного крупной солью, а Воеводину еще и луковицу.
— Что ж! Через десять минут можно выходить! Да, а по том домой… Мало ли что может случиться — хозяйка подтвердит: спали и к смутьянам отношения не имеете. — Мария Петровна задумалась и спросила: — А клея-то хватит?
Воеводин заглянул в свою банку, присвистнул, покрутил головой:
— Правда… Мы же не визитные карточки оставляем, а афиши с приглашением на маевку! Клейстеру кот наплакал. Добавляй, Петровна!
Старушка засуетилась. Подбросила поленце в печь, начала кипятить воду, чтобы заварить клейстер. Воеводин подсел поближе к огню, закрутил цигарку.
— Хороший сегодня день! Демонстрация! Листовки! — Голос звенел от радости.
Мария Петровна взяла листовку, повертела, краска оставляла жирный отпечаток на руках, читала вслух:
— Товарищи! Оглянитесь кругом себя! 1 Мая, весна, природа разорвала оковы зимы и теперь торжествует победу над холодом и мраком. А рядом наша жизнь, серая и неприглядная, наша родина — смрадная душная тюрьма, где миллионы рабов-тружеников задыхаются в тисках произвола и невежества! Тем ближе, тем дороже нам этот день.
— Здорово… Весна… Природа разорвала оковы… — Воеводин мечтательно подпер подбородок рукой. — Вот только про цепи капитализма нет ничего… Мария Петровна потрепала его по вихрам. Поправила очки и вновь послышался ее ровный спокойный голос:
— …В России капиталистический гнет сильнее, чем в других странах: его поддерживает более могучее правительство, правительство самодержавное. Уничтожение этого правительства есть первый шаг к освобождению русского пролетариата. На демонстрации в честь 1 Мая мы открыто заявим: «Долой самодержавие! Да здравствует народное правление! Да здравствует политическая свобода!» В России голод и безработица: одни работают до изнеможения, другие благодаря этому не находят заработка. Мы потребуем: «Работы безработным». Саратовские рабочие решили отложить празднование 1 Мая до ближайшего воскресенья. Приглашаем вас, товарищи, все саратовские рабочие и ремесленники, приглашаем всех, кому дорога свобода и справедливость и ненавистно зло и насилие, на демонстрацию 5 мая в 12 ч. дня на Соборную площадь. Пусть приниженные рабочие гордо поднимут свою голову, пусть голодные труженики бросят укор сытым тунеядцам, пусть все бесправные потребуют себе прав!
Воеводин вслушивался в такие знакомые и каждый раз новые слова. Конечно, эти драгоценные листовки нужно расклеивать наверняка и непременно на полицейское управление, неподалеку от Липок. Рискованно. Только бы проскользнуть мимо гауптвахты, а там следи за часовым: зазевался голубчик у полосатой будки, а ты в то же мгновение бац листовку намертво на двери полицейского управления. Пускай утречком побесится господин полицеймейстер! Пока Марии Петровне ни слова, а то… — Смотри, Воеводин, без лихачества! На двери участков листовки не наклеивай! А к полицейскому управлению и близ ко не подходи… — словно читая его мысли, заметила Мария Петровна. Лицо Воеводина вытянулось. Только в карих глазах полыхал лукавый блеск. Наклонился, чтобы скрыть улыбку. Мария Петровна заговорила строже, резче: — Не рискуй! В партии много дел, требующих настоящей смелости… Не форси! Стыдно… Кстати, перестань среди бела дня рассовывать солдатам листовки. Ребят вводишь в искушение! Александр Македонский! На Немецкой заприметил солдата, так сразу к нему бросился и за обшлаг листовку: «Почитай, служивый!» Солдат оторопел, а ты деру! Глупость одна! А если солдат не растеряется и тебя арестует? Пять лет тюрьмы! К чему?! Воеводин почесал в затылке. Узнала все же… Плохо. Он посмотрел на Марию Петровну сбоку и понял, что рассержена всерьез… Конечно, права. Больше форсу, чем смысла. Только надоело осторожничать. — Жаль, что вам не придется участвовать в маевке! — сказал, чтобы переменить разговор, встряхнув махру в цветастом кисете. — Хорошо хоть, на Зеленом острове послушали нашего брата… Страсти-то какие разгорелись! — Хитер! Далеко пойдешь! — откровенно расхохоталась Мария Петровна. — Дипломат… Дипломат… Собрание на Зеленом острове было памятным. От Бабушкина взвоза до острова добирались на лодках. На берегу в ресторане, Приволжском вокзале Барыкина, гремела музыка. Пьянствовали купцы. С реки вокзал был очень красивым — двухэтажный, резной, с шатровыми крышами и золочеными шпилями. Занавеси на лоджиях второго этажа натянулись парусом — отчего он казался белым, воздушным, как чайка в полете. В солнечных лучах рассыпались фонтаны. На широкой лестнице, заплетенной диким виноградом, плясали цыгане. А рядом покосившиеся домики, прилепленные друг к другу, словно ласточкины гнезда. Темнели крыши кабаков, вывески трактиров Миллионной улицы, заселенные волжской беднотой. На Зеленый остров Мария Петровна выезжала вместе с мужем Василием Семеновичем. Дул ветерок. Василий Семенович поднял воротник парусинового пиджака и недоуменно смотрел на пьяный разгул Приволжского вокзала Барыкина. Он не переносил шума, купеческого молодечества. От пристани отвалил пароход «Жертва». Расходились волны, лодку стало раскачивать. Мария Петровна опустила руку в воду, испытывая упругое течение и приятный холодок. Волга бурлила, полноводная, стремительная. «Быстрина», — сказал гребец и, поплевывая на заскорузлые ладони, приналег на весла… И здесь, в тихом домике, Воеводин опять заговорил о демонстрации, об оружии, о том, что волновало его и заботило. — Нет, нельзя идти без револьверов на башибузуков! Казачков, как всегда, подпоят и по нашим спинам запляшут нагайки! — Мальчишеский голос звенел от возмущения. — Нас будут лупить, а мы песни петь?! — В партии есть дисциплина. Приняли решение — не брать оружия! Значит, не брать! — Мария Петровна взглянула на огорченное лицо Воеводина, добавила мягче: — Хочется, чтобы решения выполняли сознательно. Оружия мало, с регулярными частями рабочим не справиться, да и боевой выучки нет. Первый же выстрел даст повод для расправы. Солдаты будут расстреливать демонстрантов, а царские суды приговаривать к виселицам! — Так и хвостист кричал на митинге! — горячился Воеводин; его смуглое лицо покраснело, стало бронзовым. — В голове дурака не дозрело, вот и кричит: мол, нужно выжидать… — Выжидать нечего! Демонстрация состоится — это большое дело! Но оружие положения не спасет, а вреда принесет много. Демонстрация превратится в избиение! — закончила Мария Петровна. — Рабочие под казачьи плети не пойдут! Драки мы не боимся! Лишь бы драка пошла на пользу революции! — Воеводин прихлопнул рукой по колену. — Камень, палки, гайки — все оружие! — Что ж! Нужно быть готовым! — Мария Петровна разлила клейстер. — Пора, товарищи! Встретимся в одиннадцать… Дверь хлопнула. Трое вышли последними. Прихватив пачку листовок, распрощалась с хозяйкой и Мария Петровна. Она также хотела до рассвета добраться домой. Листовки же разбросать у Архиерейской усадьбы, близ полицейского управления, места людного и шумного, куда запретила приближаться Воеводину.
Соборная площадь
У дома купца Бендера, богатого сарпинщика, Мария Петровна остановилась. Чадил уличный фонарь с конопляным маслом, забытый с ночи. На горбатом мостике, приподнимавшемся над канавой для стока воды, торчал городовой. Доносился звон конки с Московской улицы. У католического собора, серого, неприветливого, народ. Уныло позванивали колокола. Тащились возы на Верхний базар. По булыжнику цокали копыта. В полуциркульных окнах лавки Бендера красочные материи, дорогие сукна. Мария Петровна неторопливо зашла в магазин, придерживая большую корзину, с которой частенько ходила на рынок. Сегодня она оделась особенно тщательно: широкая потертая юбка, жакет с буфами, отделанный витым шнуром. Старомодный, с чужого плеча. Стоптанные полусапожки с задравшимися носами. Цветастый нарядный платок. Кухарка из богатого дома… Дом Бендера угловой, удобный для наблюдения: просторные окна, несколько выходов. Проплывали приказчики, словно призраки, среди висячих полотен сарпинки. Озабоченные. Усталые, которым так мало дела до всего происходящего. Она не спеша обошла полотна сарпинок и заторопилась к противоположному выходу. Сделала несколько шагов. Никого. Перешла на другую сторону. Мостовая поблескивала после утреннего дождя. Еще раз оглянулась. Дом Бендера украшала арка с громоздкой скульптурой «рыкающих львов», одна из городских достопримечательностей. На сером мраморе застыли львы, выставив огромные морды с обнаженными клыками. Эти рыкающие львы, аляповатые, громоздкие, обычно веселили ее, но сегодня она едва обратила на них внимание. Обогнув дом Бендера и минуя лавки, направилась на Верхний базар. Налево осталась городская биржа, красное двухэтажное здание, украшенное арками с городскими гербами— тремя звездообразными стерлядями. Вечерами эти гербы, освещенные фонарями, были особенно заметны. Сразу же от биржи начинались торговые ряды, каменные, крытые, построенные на века. За рядами виднелась церковь Петра и Павла в белых резных кокошниках. Рядом ночлежки. Ободранные, с отвалившейся штукатуркой. Номера. Убогие. Одноэтажные. С кривыми завлекательными вывесками. Из номеров выбегали мальчики с ведерными чайниками. Заливалась гармоника в трактире. Торговля в воскресный день шла бойко. Рядились покупатели, били по рукам. Гнусавили продавцы квасом. По лавчонкам со скобяным товаром ходили крестьяне, унизанные связками баранок. Ссорились торговки, нагловатые и бойкие. Млели в клетках откормленные гусыни с красными бусинками глаз… Базар жил своей обычной жизнью — стонал, кричал, плакал, ухал… Мария Петровна, купив саратовский калач, прошлась по рядам. Приценивалась, рядилась с торговками. Ударили часы на бирже. На толкуне появилась публика, столь непривычная для рынка. Студенты в зеленых тужурках с блестящими пуговицами. Рабочие в суконных пиджаках. Праздничные. Принаряженные. Фельдшерицы с кружевными зонтиками. Интеллигенты в дымчатых очках. Засновали затасканные шпики в шляпах с опущенными полями, «трехрублевые», как презрительно называли их рабочие. Кажется необычных посетителей заметил и городовой. Начал озираться по сторонам, нетерпеливо сжимая свисток, болтавшийся на толстом шнуре. Девушки собирались группами, переговаривались. Рабочие окружили старьевщика, разложившего на холстине свой небогатый товар. На базаре промелькнул Воеводин, свежий, подтянутый, будто и не знал бессонной ночи. Неприметно кивнул Марии Петровне, заторопился к лоткам. Кинул пятак слепому, нырнул в толпу. Вновь его заметила Мария Петровна в рядах, в которых кустари обычно продавали поделки из дерева: расписные матрешки, деревянные грибы, бочонки, палки, трости. Воеводин, наклонившись к продавцу, выхватил из груды разложенного товара тросточку, смешно помахал и отложил. Покопался в зонтиках и также отложил. Заинтересовавшись, она подошла поближе. — Нет, служивый… Покажи мне палку, которой бы от цепных собак можно отбиваться, — послышался его хрипловатый голос. — Поувесистей?! — с готовностью переспросил инвалид из отставных солдат. — Конечно! — Попробуй вот эту! — Легковата! — Воеводин подбросил палку. — Живу у черта на рогах — у Агафоновского поселка… Возвращаюсь с завода ночью. Темь. Грязь… А собак тьмуща… Злые, как торговки на рынке… — Эва! Эва! Не задевай, господин хороший! — шутливо надвинулась на Воеводина грудастая молодуха, пристукнув по корытцу валиком для белья. — Бабы — завсегда злее собак! — пробурчал инвалид. — Ах, не приметил! — Воеводин, лукаво посмеиваясь, вновь принялся перебирать палки. — Нашел! Он довольно ощупывал палку, суковатую, увесистую, настоящую дубину. Этими палками заинтересовалась не только Мария Петровна, но и рабочие. Перебросившись с ним короткими словами, молодежь окружила продавца. Начали разбирать палки, не торгуясь. Даже барышни покупали тросточки. Продавец растерялся от такого спроса на товар. — Слава богу! Отродясь эдакой торговли не припомню! — Инвалид перекрестился, уговаривал: — Добирайте, господа, тросточки… Легонькие, будто перышки… От тросточек большинство покупателей отказывалось, а палки расходились с небывалой быстротой. Опять отзвонили часы на бирже. Двенадцать. Мария Петровна перешла в зеленной ряд. Глаза ее настороженно и пытливо оглядывали толпу, разраставшуюся на Верхнем толкуне. Еще немного, и начнется… Пора! Высокий молодой человек пронзительно свистнул. Сигнала ждали все. Молодого человека окружили студенты, рабочие, интеллигенты. Кто-то из-за пазухи достал красное полотнище, водрузил на древко. Над толпой затрепетало знамя. Красное знамя в Саратове! Одно… Другое… Третье… Ветер расправил знамена, весело перекатывал красный шелк, отливавший на солнце тяжелым блеском. На груди у демонстрантов вспыхнули красные банты. Яркое солнце и блеск знамен… У Марии Петровны захватывало дыхание. — Долой самодержавие! Да здравствует социализм! — прокричали из толпы демонстрантов. Воеводин, смеющийся, счастливый, выхватил из кармана пачку прокламаций и веером бросил их вверх. Ветер подхватил, поиграл, медленно белыми голубями уложил на площадь. Листовки расхватывали, припрятывали. — Бунт, православные! Бунт… — истерично закричал шпик из «трехрублевых». — Студенты лавки громят… Базар шарахнулся. Качнулся. Толстая торговка опрокинула горшки. Густая сметана поползла по затоптанной пыли. Покатилась с лотков картошка. Закудахтали куры. Заметалась гусыня, роняя белый пух. Послышался крик. Топот бегущих. Но суматоха длилась недолго. Демонстранты стояли спокойно, и на базаре установилась выжидательная тишина. Черной птицей поплыло вверх полотнище. Траурное знамя в память казненного Степана Балмашева. Три красных и одно черное… Перекрывая базарный гул, взмыла над толпой широко и раздольно песня:Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
 Приказчик в коричневой чуйке вскочил на тумбу, взмахнул пудовым кулачищем. Крикнул глухо, зло:
— Бей смутьянов! Православные, круши!
Послышался свист, грязная ругань, и погромщики врезались в процессию. Воеводин выступил вперед, но его повалили на мостовую. Красномордый приказчик, выломав балясину из ограды, размахнулся. Воеводин увернулся, поднялся и кинулся с палкой, купленной на базаре. Наконец-то пригодилась! Замелькали кулаки, дубины, булыжники. Толпа шарахнулась. Закричала. Демонстранты сгрудились у знамен, стараясь уберечь их от наседавших городовых. Отбивались ожесточенно, упорно. Знамя, ближайшее к Марии Петровне, взметнулось пламенем и исчезло. Кто-то из демонстрантов спрятал его на груди. Демонстранты окружили черное полотнище, которое то взлетало вверх, то припадало к земле. Мария Петровна успела прочитать слова: «Балмашев казнен. Вечная память герою»… Траурным облаком шелестело знамя, которое городовые вырывали у невысокого человека, вцепившегося в него двумя руками. Подлетел приказчик, воровски ударил знаменосца со спины. Невысокий человек, избитый, окровавленный, падал, поднимался. На черное полотнище капала кровь.
Мария Петровна до боли сжала кулаки. Отвернулась, не в силах глядеть на начавшееся избиение. Но везде одно и то же. Городовой тащил за рукав девушку. Шляпа ее с весенними цветами валялась на мостовой, длинные косы били по плечам. Девушка царапалась и громко кричала. Из толпы на помощь бросился мастеровой, ударив палкой городового. Тот качнулся и отпустил девушку. Мастеровой, подбадриваемый криками, размахнулся и начал тузить городового. Девушка, обессиленная, лежала на тротуаре. Мария Петровна видела ее разгоряченное лицо, ужас в глазах. Девушку подхватили, укрыли в парадном.
Из дома Санина, неподалеку от гостиницы «Россия», вывалилась орава пьяных городовых. И опять замелькали кулаки; дубинки. Рабочие сплотились теснее, отбивались палками, выхваченными из недостроенного забора гостиницы. Дрались отчаянно, зло. Знамен уже нет. Одни укрыли, другие стали добычей охранки.
— Рас-хо-дись! — доносился крик до Марии Петровны. — Рас-хо-дись!
Только расходиться-то невозможно. Демонстранты в плотном кольце городовых, погромщиков, пьяных приказчиков. Прогрохотав, на Театральную площадь проехала артиллерия. Из дворов показались солдаты, припрятанные там заботливыми властями. По Немецкой улице гарцевали конные жандармы. Хорунжий с осоловелыми глазами поднял лошадь, направил в толпу, запрудившую тротуары. Между домами заметались крики отчаяния. Полиция, взявшись за руки, цепью наступала на горожан, прижимала к домам.
Марию Петровну вместе с другими зрителями теснили к парадному входу гостиницы «Россия». Зазвенели зеркальные стекла, трещали двери. Толпа опрокинула швейцара и потащила Марию Петровну на второй этаж. Промелькнули разрисованные стены, золоченые рамы картин… Толпа выплеснула ее на балкон, опоясывавший гостиницу вдоль второго этажа.
Мария Петровна жадно вдыхала воздух. В сутолоке она потеряла платок. Остановилась, потрясенная. Сверху побоище, разыгравшееся на улице, выглядело еще страшнее. Били правого, били виноватого. Городовые нападали на демонстрантов, а в воздухе падали листовки и гремела песня. Толстый купец, владелец бакалейной лавки, выхватил у мастерового листовку. Приподнял двумя пальцами, словно змею:
— Городовой! Городовой! Вот она — пакость!
Пьяный городовой тупо уставился на купчину. Неожиданно шагнул и широко размахнулся. Купчина попятился, выставив вперед руки и прикрыв глаза. Поскользнулся, упал. Городовой топтал его ногами, зло ругался:
— Сицилист проклятый! Всех перевешаю!
В толпе хохотали. Свистели мастеровые, желчно кричали:
— Получай, толстосум! Не фискаль!
Городовой рванул купчину за пальто и поволок к воротам дома Рыбкина. Туда заталкивали всех, заподозренных в участии в демонстрации.
На Александровской улице потасовка не затихала. Рабочие пустили в ход палки, купленные на базаре, городовые — шашки. Серебряная рукоять шашки обрушилась на человека в сером пальто, Мария Петровна увидела, как зашатался человек, взмахнув полами пальто, с трудом сохраняя равновесие, но устоял. Расправил плечи, чуть пригнул голову, шагнул вперед и выдернул шашку у городового. Вот он обнажил шашку, взмахнул, расплескивая блестящие широкие полосы. Полицейские отступили. К человеку в сером пальто пристроились демонстранты и пошли на прорыв.
Теперь уже конные жандармы очищали улицу от толпы, за ними стеной городовые. Людей заталкивали в парадные, у дверей вырастали дворники.
Александровская улица стала пустеть. У тополей с клейкими листами валялись шляпы, трости, зонтики, утратившие хозяев. Тяжело печатая шаг, промаршировал полк. Послышалась резкая команда, и солдаты заняли улицу.
Арестованных волокли к двору Рыбкина, укрытому старыми вязами. В глубине его у двухэтажного особняка торчала телега с поднятыми вверх оглоблями. У телеги — первые арестованные.
Тоненькая девушка в светлом платье перевязывала голову рабочему.
— Почему же?! Почему же началось избиение?! — доносился снизу ее звонкий голос. — Мы шли мирно, мы же не начинали драки?!
Мария Петровна стояла на балконе, выходившем во двор Рыбкина, следила за разыгравшейся трагедией.
— Мы вышли против них, а они начали избиение! Все вполне естественно! — пророкотал высокий мужчина, пытаясь пристегнуть оторванный рукав пальто булавкой. — Да-с, на войне как на войне!
— Но мы шли с мирными целями… Мы не нападали. Когда городовой ударил Петра, я бросилась объяснять… — защищалась девушка. — Думала, происходит досадное недоразумение.
— Наивно, весьма наивно! Но каковы рабочие! Сколько силы! — восхищался высокий мужчина, недоуменно поворачивая пенсне, пострадавшее в свалке. — Разбили, черти! Придется пользоваться как моноклем…
В калитке, открывавшейся как мышеловка, показался Воеводин. Очевидно, он сильно сопротивлялся. Но вот его подбросили, и он, широко раскинув руки, пролетел от самой калитки до телеги, у которой находились арестованные. Упасть ему не дали, подхватили товарищи.
— Чертушка! Чертушка! — тормошил его все тот же высокий мужчина. — Да становись же на ноги!
Воеводин поднялся, ощупал голову, выплюнул выбитый зуб. Почесал правый глаз с огромным кровоподтеком. Поежился. К нему заторопилась тоненькая девушка. Мокрым платком начала обтирать лицо.
— Братцы! Что на улицах! Народ надвигается от Липок… Такая же толпа и с Немецкой. Закрыть улицы солдаты не могут, хотя подвезли артиллерию. Полиция стоит в три ряда, а народ напирает. В солдат летят моченые яблоки, тухлые яйца, а уж сколько слов хороших… — Воеводин запнулся, по казал глазами на женщин.
Арестованные рассмеялись, требовали подробностей:
— Что же все-таки происходит?! Досказывай! Воеводин выпил воды из ведра, переданного из особняка студентами. Сидя на земле и блаженно щурясь от солнца, прерывисто дышал, но говорил:
— На Немецкую приехал губернатор в сопровождении полицеймейстера. Остановил пролетку и вошел в толпу, собравшуюся около ресторана. Длинный, тощий. Поднял руку в белой перчатке, попросил разойтись. Полицеймейстер не дышал, забежав вперед, раздвигал толпу. Конечно, толпа раздвигалась. Слушали сладкие слова молча, а потом опять смыкались стеной, как ни просил губернатор, — закончил Довольный Воеводин, жадно затягиваясь папироской. — Вот какие дела…
— Был на улице, а к губернатору не просунулся! — пошутил кто-то из арестованных.
Во дворе загрохотали. Воеводин, размазывая по широкоскулому лицу сочившуюся кровь, недоуменно пожал плечами:
— Почему не просунулся?! Меня тащили волоком, когда ко двору Рыбкина подъехал его высокопревосходительство…
Последние слова Воеводина покрылись хохотом. Рабочие от удовольствия даже присели. Хохотал и Воеводин. Глаза с хитрецой горели на смуглом лице.
— Что ж губернатор?! Понял, что за птицу поймали, — простонал от смеха студент, пытаясь пришить оторванную полу шинели.
Губернатор молчал, буравил меня глазами. А полицеймейстер, подлец, смеялся. Потом подозвал шпика с козлиной бородой, моего приятеля. Сколько раз поджидал его около дома, все о темной ночке мечтал… Да не удалось его проучить… Так этот козел что-то шепнул губернатору, тот махнул рукой. Меня подхватили и по воздуху перебросили к вам!
И опять во дворе хохот. Мария Петровна с балкона потеплевшими глазами смотрела на своих товарищей. Через официанта переслала арестованным корзину с провизией. Предложила чаевые, но тот чаевые не взял, более того, обиделся. Конечно, народ сочувствовал демонстрантам.
— Сволочи — фараоны! Зазнались! Поквитаемся! — не успокаивался Воеводин.
Как хорошо быть вместе с друзьями… Арест, неволя, суд, тюрьма — все не страшно, когда рядом друг! А она — в стороне! Жадными глазами впитывала происходящее. Главное — запомнить, переслать материалы в «Искру» к Ленину, тогда саратовская демонстрация, избиение арестованных станут фактом общероссийского значения.
— Держись, братва, не унывать! Нас еще по городу поведут в тюрьму! Новая демонстрация может получиться! — поддерживал друзей Воеводин.
Марии Петровне показалось, что он так громко кричал специально для нее. Она перегнулась через перила, лицо просветлело.
Приказчик в коричневой чуйке вскочил на тумбу, взмахнул пудовым кулачищем. Крикнул глухо, зло:
— Бей смутьянов! Православные, круши!
Послышался свист, грязная ругань, и погромщики врезались в процессию. Воеводин выступил вперед, но его повалили на мостовую. Красномордый приказчик, выломав балясину из ограды, размахнулся. Воеводин увернулся, поднялся и кинулся с палкой, купленной на базаре. Наконец-то пригодилась! Замелькали кулаки, дубины, булыжники. Толпа шарахнулась. Закричала. Демонстранты сгрудились у знамен, стараясь уберечь их от наседавших городовых. Отбивались ожесточенно, упорно. Знамя, ближайшее к Марии Петровне, взметнулось пламенем и исчезло. Кто-то из демонстрантов спрятал его на груди. Демонстранты окружили черное полотнище, которое то взлетало вверх, то припадало к земле. Мария Петровна успела прочитать слова: «Балмашев казнен. Вечная память герою»… Траурным облаком шелестело знамя, которое городовые вырывали у невысокого человека, вцепившегося в него двумя руками. Подлетел приказчик, воровски ударил знаменосца со спины. Невысокий человек, избитый, окровавленный, падал, поднимался. На черное полотнище капала кровь.
Мария Петровна до боли сжала кулаки. Отвернулась, не в силах глядеть на начавшееся избиение. Но везде одно и то же. Городовой тащил за рукав девушку. Шляпа ее с весенними цветами валялась на мостовой, длинные косы били по плечам. Девушка царапалась и громко кричала. Из толпы на помощь бросился мастеровой, ударив палкой городового. Тот качнулся и отпустил девушку. Мастеровой, подбадриваемый криками, размахнулся и начал тузить городового. Девушка, обессиленная, лежала на тротуаре. Мария Петровна видела ее разгоряченное лицо, ужас в глазах. Девушку подхватили, укрыли в парадном.
Из дома Санина, неподалеку от гостиницы «Россия», вывалилась орава пьяных городовых. И опять замелькали кулаки; дубинки. Рабочие сплотились теснее, отбивались палками, выхваченными из недостроенного забора гостиницы. Дрались отчаянно, зло. Знамен уже нет. Одни укрыли, другие стали добычей охранки.
— Рас-хо-дись! — доносился крик до Марии Петровны. — Рас-хо-дись!
Только расходиться-то невозможно. Демонстранты в плотном кольце городовых, погромщиков, пьяных приказчиков. Прогрохотав, на Театральную площадь проехала артиллерия. Из дворов показались солдаты, припрятанные там заботливыми властями. По Немецкой улице гарцевали конные жандармы. Хорунжий с осоловелыми глазами поднял лошадь, направил в толпу, запрудившую тротуары. Между домами заметались крики отчаяния. Полиция, взявшись за руки, цепью наступала на горожан, прижимала к домам.
Марию Петровну вместе с другими зрителями теснили к парадному входу гостиницы «Россия». Зазвенели зеркальные стекла, трещали двери. Толпа опрокинула швейцара и потащила Марию Петровну на второй этаж. Промелькнули разрисованные стены, золоченые рамы картин… Толпа выплеснула ее на балкон, опоясывавший гостиницу вдоль второго этажа.
Мария Петровна жадно вдыхала воздух. В сутолоке она потеряла платок. Остановилась, потрясенная. Сверху побоище, разыгравшееся на улице, выглядело еще страшнее. Били правого, били виноватого. Городовые нападали на демонстрантов, а в воздухе падали листовки и гремела песня. Толстый купец, владелец бакалейной лавки, выхватил у мастерового листовку. Приподнял двумя пальцами, словно змею:
— Городовой! Городовой! Вот она — пакость!
Пьяный городовой тупо уставился на купчину. Неожиданно шагнул и широко размахнулся. Купчина попятился, выставив вперед руки и прикрыв глаза. Поскользнулся, упал. Городовой топтал его ногами, зло ругался:
— Сицилист проклятый! Всех перевешаю!
В толпе хохотали. Свистели мастеровые, желчно кричали:
— Получай, толстосум! Не фискаль!
Городовой рванул купчину за пальто и поволок к воротам дома Рыбкина. Туда заталкивали всех, заподозренных в участии в демонстрации.
На Александровской улице потасовка не затихала. Рабочие пустили в ход палки, купленные на базаре, городовые — шашки. Серебряная рукоять шашки обрушилась на человека в сером пальто, Мария Петровна увидела, как зашатался человек, взмахнув полами пальто, с трудом сохраняя равновесие, но устоял. Расправил плечи, чуть пригнул голову, шагнул вперед и выдернул шашку у городового. Вот он обнажил шашку, взмахнул, расплескивая блестящие широкие полосы. Полицейские отступили. К человеку в сером пальто пристроились демонстранты и пошли на прорыв.
Теперь уже конные жандармы очищали улицу от толпы, за ними стеной городовые. Людей заталкивали в парадные, у дверей вырастали дворники.
Александровская улица стала пустеть. У тополей с клейкими листами валялись шляпы, трости, зонтики, утратившие хозяев. Тяжело печатая шаг, промаршировал полк. Послышалась резкая команда, и солдаты заняли улицу.
Арестованных волокли к двору Рыбкина, укрытому старыми вязами. В глубине его у двухэтажного особняка торчала телега с поднятыми вверх оглоблями. У телеги — первые арестованные.
Тоненькая девушка в светлом платье перевязывала голову рабочему.
— Почему же?! Почему же началось избиение?! — доносился снизу ее звонкий голос. — Мы шли мирно, мы же не начинали драки?!
Мария Петровна стояла на балконе, выходившем во двор Рыбкина, следила за разыгравшейся трагедией.
— Мы вышли против них, а они начали избиение! Все вполне естественно! — пророкотал высокий мужчина, пытаясь пристегнуть оторванный рукав пальто булавкой. — Да-с, на войне как на войне!
— Но мы шли с мирными целями… Мы не нападали. Когда городовой ударил Петра, я бросилась объяснять… — защищалась девушка. — Думала, происходит досадное недоразумение.
— Наивно, весьма наивно! Но каковы рабочие! Сколько силы! — восхищался высокий мужчина, недоуменно поворачивая пенсне, пострадавшее в свалке. — Разбили, черти! Придется пользоваться как моноклем…
В калитке, открывавшейся как мышеловка, показался Воеводин. Очевидно, он сильно сопротивлялся. Но вот его подбросили, и он, широко раскинув руки, пролетел от самой калитки до телеги, у которой находились арестованные. Упасть ему не дали, подхватили товарищи.
— Чертушка! Чертушка! — тормошил его все тот же высокий мужчина. — Да становись же на ноги!
Воеводин поднялся, ощупал голову, выплюнул выбитый зуб. Почесал правый глаз с огромным кровоподтеком. Поежился. К нему заторопилась тоненькая девушка. Мокрым платком начала обтирать лицо.
— Братцы! Что на улицах! Народ надвигается от Липок… Такая же толпа и с Немецкой. Закрыть улицы солдаты не могут, хотя подвезли артиллерию. Полиция стоит в три ряда, а народ напирает. В солдат летят моченые яблоки, тухлые яйца, а уж сколько слов хороших… — Воеводин запнулся, по казал глазами на женщин.
Арестованные рассмеялись, требовали подробностей:
— Что же все-таки происходит?! Досказывай! Воеводин выпил воды из ведра, переданного из особняка студентами. Сидя на земле и блаженно щурясь от солнца, прерывисто дышал, но говорил:
— На Немецкую приехал губернатор в сопровождении полицеймейстера. Остановил пролетку и вошел в толпу, собравшуюся около ресторана. Длинный, тощий. Поднял руку в белой перчатке, попросил разойтись. Полицеймейстер не дышал, забежав вперед, раздвигал толпу. Конечно, толпа раздвигалась. Слушали сладкие слова молча, а потом опять смыкались стеной, как ни просил губернатор, — закончил Довольный Воеводин, жадно затягиваясь папироской. — Вот какие дела…
— Был на улице, а к губернатору не просунулся! — пошутил кто-то из арестованных.
Во дворе загрохотали. Воеводин, размазывая по широкоскулому лицу сочившуюся кровь, недоуменно пожал плечами:
— Почему не просунулся?! Меня тащили волоком, когда ко двору Рыбкина подъехал его высокопревосходительство…
Последние слова Воеводина покрылись хохотом. Рабочие от удовольствия даже присели. Хохотал и Воеводин. Глаза с хитрецой горели на смуглом лице.
— Что ж губернатор?! Понял, что за птицу поймали, — простонал от смеха студент, пытаясь пришить оторванную полу шинели.
Губернатор молчал, буравил меня глазами. А полицеймейстер, подлец, смеялся. Потом подозвал шпика с козлиной бородой, моего приятеля. Сколько раз поджидал его около дома, все о темной ночке мечтал… Да не удалось его проучить… Так этот козел что-то шепнул губернатору, тот махнул рукой. Меня подхватили и по воздуху перебросили к вам!
И опять во дворе хохот. Мария Петровна с балкона потеплевшими глазами смотрела на своих товарищей. Через официанта переслала арестованным корзину с провизией. Предложила чаевые, но тот чаевые не взял, более того, обиделся. Конечно, народ сочувствовал демонстрантам.
— Сволочи — фараоны! Зазнались! Поквитаемся! — не успокаивался Воеводин.
Как хорошо быть вместе с друзьями… Арест, неволя, суд, тюрьма — все не страшно, когда рядом друг! А она — в стороне! Жадными глазами впитывала происходящее. Главное — запомнить, переслать материалы в «Искру» к Ленину, тогда саратовская демонстрация, избиение арестованных станут фактом общероссийского значения.
— Держись, братва, не унывать! Нас еще по городу поведут в тюрьму! Новая демонстрация может получиться! — поддерживал друзей Воеводин.
Марии Петровне показалось, что он так громко кричал специально для нее. Она перегнулась через перила, лицо просветлело.
Кондитерская Жана
В кондитерской Жана на углу Соборной площади непривычно шумно и людно. Мария Петровна с трудом отыскала свободный столик и усадила своих девочек: благо кондитерскую посещали частенько и семью Голубева, секретаря земской управы, здесь знали. Василий Семенович не одобрял желания жены провести часок в кондитерской, да из дома выбрались с трудом. Сквер Липки, вытянувшийся подковой, полиция закрыла. Около недостроенного памятника Александру Освободителю — в каре полиция, вдоль Немецкой улицы — шпалерами войска. Мостовая, зажатая солдатами и полицейскими, непривычно пустынна: ни извозчиков, ни конки, ни пешеходов. Казалось, весь Саратов высыпал на улицы. Даже Архиерейская усадьба, желтое двухэтажное здание, ломилась от публики. Молодежь висела гроздьями на балконах, на подоконниках музыкальной школы Экслера. А крыши… Удивительно, как они выдерживали: не только молодежь, но даже люди весьма солидного возраста торчали с полевыми биноклями. Мария Петровна, обычно столь невозмутимая, волновалась. Василий Семенович знал ее хорошо. Волнение проглядывало во всем: и в том, с какой нежностью обращалась с девочками, и в замедленной речи, и в нарочитой неторопливости движений. Да и одета щеголевато. Модный сиреневый жакет, отделанный белкой. Английская шляпа с круглыми полями. Сумка крокодиловой кожи. Говорила нараспев и только по-французски. Обычно она щегольством не отличалась… Сколько пришлось пережить, когда утром она ушла на Верхний базар! Конечно, всего Василий Семенович предположить не мог, но из прокламации явствовало, что демонстрация назначена на Соборной площади в двенадцать часов. Откуда было знать, что партийный комитет, боясь провала, назначил местом сбора Верхний базар, на который и отправилась Мария Петровна. Покупки жены явно затянулись. Пришла она во втором часу, возбужденная, с пустой корзиной, потеряв платок. Пришла и сразу потребовала, чтобы вся семья собиралась в кондитерскую Жана. Василий Семенович поначалу отказался. По городу ползли слухи об арестах, об избиении демонстрантов, но Мария Петровна сдвинула густые брови, и он понял — спорить бесполезно. Уйдет одна! У резной ограды Липок торчал городовой, на калитке — замок! Пришлось пробираться мимо Нового собора Александра Невского, увенчанного крестом. Увидев наплыв солдат и полиции, Василий Семенович понял, почему с такой тщательностью одевалась Мария Петровна — пропускали лишь чистую публику, и то с большим разбором. Мария Петровна щурила близорукие глаза и громко удивлялась: неужто они немогут зайти в кондитерскую Жана? Она даже начала кокетничать с офицером! Уж этого качества за ней Василий Семенович не знал… Девочки запросили шоколад. Мария Петровна картинно развела руками. Леля и Катя, наученные матерью, бабочками подлетели к офицеру. Тот сдался, прокричав по-французски, чтобы они никуда не выходили из кондитерской. Под сводчатыми потолками кондитерской, расписанной красными маками, стояли уютные столики. Официант, не спрашивая заказа, принес обычное — шоколад девочкам, ситро и мороженое для супругов. Расставляя крошечные чашечки, сокрушенно покачал головой: — В городе-то что творится… Мария Петровна пренебрежительно махнула рукой, процедив: — Образуется! — И, словно убеждая себя, повторила: — Да, образуется! Василий Семенович придвинул вазу с мороженым, поднес серебряную ложечку. Но тут случилось непредвиденное. Заслышав с улицы грохот барабанов, Мария Петровна поднялась и отрывисто сказала: — Смотри за девочками! — Возражения слушать не стала. Немецкая улица напоминала развороченный муравейник. Впереди арестованных, вытягивая носок, двигались солдаты с ружьями на плечах. Темнели гимнастерки и скаты шинелей. Роту вел молоденький поручик, которого явно смущал этот небывалый напор публики. За ротой, окружив тесным кольцом демонстрантов, также шли солдаты. Поблескивали на солнце штыки да золотые погоны офицеров. Арестованных было человек пятьдесят. Руки им приказали заложить за спину, как обычно конвоировали арестованных. Через штыки виднелись высокие женские шляпы, поломанные картузы. Арестованные шли гордо, смело вскинув головы, по четыре в ряд. На многих окровавленные бинты, повязки. Воеводин волочил ногу, подбитую в свалке. Тоненькая девушка, возмущавшаяся насилием, под мышкой несла кружевной зонтик. Мария Петровна, стоявшая на углу, горько усмехнулась: кружевной зонтик в тюрьме! — Арестованных доставят в полицейское управление! В полицейское управление! — доносились голоса. — Вести через весь город в тюрьму побоялись… С нежностью вглядывалась Мария Петровна в дорогие лица друзей, грудь разрывалась от боли и страдания. Воеводин звонким ломким голосом запел|Мрет в наши дни с голодухи рабочий,
Станем ли, братья, мы дольше молчать!
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим…
 Демонстранты, не обращая внимания на окрики конвоя, приветливо поднимали руки, улыбались, размахивали шляпами. Они не напоминали поверженных, нет, они были победителями. Смешно вступила в драку с мальчишками рота солдат, смешно громыхало по булыжнику артиллерийское орудие, которое почему-то везли за арестованными. Через двадцать шагов за процессией на сытых рысаках катила пролетка с полицеймейстером. Насмешки летели градом, словно камни. Улица клокотала, неистовствовала. У недостроенного памятника Александру Освободителю выросла толпа мастеровых, вооруженных булыжниками и палками. И тут по команде офицера процессия остановилась. Воеводин что-то кричал мастеровым, те радостно махали руками. Приветствия нарастали, крики, волнения.
— Кру-гом! Шагом арш! Ружье на пле-чо! — разрядила напряжение команда офицера.
Солдаты повернулись, не понимая смысла этой команды. Полицейское управление виднелось с площади. Да нет, испугались. В толпе заулюлюкали, засвистели, насмешливо захохотали. Теперь порядок шествия изменился. Впереди оказалась рота, ранее замыкавшая процессию. Далее арестованные в кольце солдат, к которым присоединились и полицейские. И опять рота солдат и пушка, подпрыгивавшая по булыжнику. Громыхнули барабаны, и взлетела песня:
Демонстранты, не обращая внимания на окрики конвоя, приветливо поднимали руки, улыбались, размахивали шляпами. Они не напоминали поверженных, нет, они были победителями. Смешно вступила в драку с мальчишками рота солдат, смешно громыхало по булыжнику артиллерийское орудие, которое почему-то везли за арестованными. Через двадцать шагов за процессией на сытых рысаках катила пролетка с полицеймейстером. Насмешки летели градом, словно камни. Улица клокотала, неистовствовала. У недостроенного памятника Александру Освободителю выросла толпа мастеровых, вооруженных булыжниками и палками. И тут по команде офицера процессия остановилась. Воеводин что-то кричал мастеровым, те радостно махали руками. Приветствия нарастали, крики, волнения.
— Кру-гом! Шагом арш! Ружье на пле-чо! — разрядила напряжение команда офицера.
Солдаты повернулись, не понимая смысла этой команды. Полицейское управление виднелось с площади. Да нет, испугались. В толпе заулюлюкали, засвистели, насмешливо захохотали. Теперь порядок шествия изменился. Впереди оказалась рота, ранее замыкавшая процессию. Далее арестованные в кольце солдат, к которым присоединились и полицейские. И опять рота солдат и пушка, подпрыгивавшая по булыжнику. Громыхнули барабаны, и взлетела песня:
Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс.
Мщенье и смерть всем царям-плутократам.
Близок победы торжественный час.
Ноябрьской ночью 1902 года по Саратову начались обыски и аресты. Не обошли и дом Голубевых на Соборной. Предстоял суд над участниками первомайской демонстрации. Губернатор депешей попросил расквартировать в городе казаков, боялся эксцессов. Арестованных привезли из Самары, в которой они находились во время следствия. Содержали в тюрьме при Окружном суде. Проникнуть на суд Мария Петровна не смогла. Пускали родственников, и то по специальным билетам. Но родственников удалось уговорить вести записи судебных заседаний. А ночью новый обыск… Вновь разбросанные книги. Василий Семенович, как всегда после обыска, недовольно косился на жену, жаловался на сердце. Она уговорила его пройтись в Липки с девочками: прогулки по саду всегда его успокаивали. Мария Петровна уселась за работу. Приходилось сличать записи, дополнять, готовить их для отправки в Женеву Ленину…
Председатель суда остановил Воеводина: — Господин Воеводин, мы видим, что вам неприятно русское правительство, но зачем вы так резко отзываетесь о нем? — Какое там неприятно! Я ненавижу это подлое самодержавное правительство и всю жизнь свою буду бороться против него. Я с радостью начал подготовлять демонстрацию, на которой во всеуслышание можно кричать: «Долой самодержавие!» И скоро вся рабочая масса повторит этот боевой клич, потому что, только перешагнув через труп монархии, русский рабочий может быть свободен и счастлив…
Перед Марией Петровной ожило скуластое лицо Воеводина с озорными глазами, упрямыми складками на чистом лбу и крепко сжатыми губами. Судьба его тревожила: парню нет и восемнадцати… Может быть, смягчат наказание? Нет, едва ли.
Я один из тех тысяч, которые с раннего детства обречены на непосильный труд и всевозможные лишения. 16 лет я был ни за что ни про что арестован и посажен в тюрьму, затем выслан из Екатеринослава, где я имел заработок, работая литейщиком на заводе, в Саратов, город мне незнакомый… Были дни, когда я не имел не только квартиры, но даже хлеба. …Мне, как и всему рабочему классу, не оставалось ничего другого, как выйти на улицу и кричать: «Долой капиталистов, долой самодержавие!..»
Мария Петровна делала пометки. Теперь все зашифровать и отправить в «Искру»… Она отложила перо. Попался Канатчиков. Что-то будет с ним? Ведь она предупреждала. У мастерской вертелись шпики. Канатчиков, почувствовав неладное, отнес гектограф и нелегальщину в надежное место. Ареста ждали, почистились основательно. Только портрет Николая Второго после долгих споров решили оставить… Ранним утром к мастерской подкатили полицейские пролетки. Ввалились жандармы. На складе лежала мебель, которую не удалось вывезти. Но о ней они, видно, не догадывались. Искали нелегальщину, листовки, прокламации, гектограф. Верно, кто-то донес. Канатчиков сидел спокойно. Курил. Жандармы поднимали крючьями половицы, выстукивали потолок, пока не отваливалась штукатурка, перекопали землю во дворе — разыскивали тайник. Шарик охрип от злости, сорвался с цепи и улегся у ног Канатчикова, воинственно скаля зубы. Обыск результатов не дал. Сняли портрет Николая Второго, на обратной стороне которого обнаружили Карла Маркса. Пристав чувствовал себя неловко, препровождая в участок портрет его императорского величества! Арестованных усадили в пролетки, напротив каждого — полицейский с маузером! Воеводин… Теперь Канатчиков…
Встреча с «Шикарной»
— Как славно отоспалась! — Зинаида Васильевна сладко потягивалась. Мария Петровна с радостью смотрела на свою старую приятельницу— Эссен. Агент «Искры» приехала в Саратов с паспортом Зинаиды Васильевны Дешиной. Стоял ноябрь 1903 года. Последний раз они виделись в Смоленске. Тогда Эссен арестовали, сослали в Сибирь… Эссен ввалилась ночью, перепугав Василия Семеновича, решившего, что опять с обыском явилась полиция. Поезд опоздал из-за беспорядков на железной дороге почти на сутки. Мария Петровна встретить ее не смогла. Да она и не предполагала, какого гостя должна встречать. — Ну, матушка, и грязища же в вашем дорогом Саратове! На вокзале остаться побоялась. Такая роскошная дама… Выплыла из вагона первого класса, за мной — кондуктор, увешанный коробками, как рождественский дед. И вдруг ночевать на станции, как бродяжка! — Эссен говорила быстро, чуть прищурив красивые серые глаза. — Послушай, как изощряются наши поэты в «Саратовском дневнике». — Мария Петровна обняла подругу.Уж если грязь, то грязь такая.
Что люди вязнут с головой,
Но, мать-природу обожая,
Знать не хотят о мостовой!
 — Что это у тебя? — поинтересовалась Эссен.
— Открытки выпускаем! — лукаво улыбнулась Мария Петровна. Придвинула пачку.
И правда, в пачках — открытки на глянцевой бумаге. Черным наплывом карикатурные контуры добропорядочных обывателей. Тонкий и толстый. Шляпы надвинуты на глаза. Под мышками зонты. Модные короткие пальто. Тонкий давал прикурить толстому. Рядом городовой с огромными усищами, большущей шашкой и револьвером. Подпись: «Разойтись! Стрелять буду! Толпой больше одного не собирайся!»
— Вот именно — «толпой больше одного»… — засмеялась Эссен.
— Да, остроумно.
— Ну рассказывай о себе! — Эссен намазывала маслом черный хлеб. — Представляешь, что со мной было, когда получила явку к Голубевой Марии Петровне!
— Рассказывать? К «Искре» меня привлек Арцыбушев. Ворвался ночью, вроде тебя. Бурно-пламенный. Глаза горят. Голос сиплый. В ссылке стал социал-демократом, а ушел по делу Заичневского! Он также из якобинцев. Мы с давних пор дружим. Помнишь, я ездила в Сибирь к Заичневскому, видела и Арцыбушева, говорила о знакомстве с Ульяновыми. Когда вышел первый номер «Искры», Арцыбушев и прикатил ко мне, предложив добывать деньги для издания газеты. Убеждать не пришлось. Народничество стало для меня делом прошлым. В те дни 1901 года я вступила в партию. Ждали «Искру». Надо было готовить адреса. В марте мы уже по этим адресам получали газету. Но тут Арцыбушева арестовали. Транспортировка литературы легла на меня…
— А как с деньгами?
— Деньги переводим регулярно. «Делать деньгу» поручено мне — концерты, платные вечера, сборы… Даже провинциальную звезду Касперовича привозила из Самары. К «Искре» тянутся многие. Дело доходит до курьезов. Граф Нессельроде, чудак и меломан, по двести рублей платит за прочтение каждого номера. У него библиотекарь Шустова, наш человек. Было время, когда «Искру» прятали в его особняке…
— Интересно!
— Скорее, здорово! — Мария Петровна была довольна. — Нессельроде — либерал, и интеллигенция изредка пользовалась его библиотекой. И я тоже, а заодно прихватывала свертки, ставила их среди античной литературы, до которой граф великий охотник, а потом уж разносила их по городу.
— А граф?
— Он доверял Шустовой… Ой как сложно было с первым транспортом! Пришло известие, а куда принять?! Обошла всех интеллигентов — рабочих пока не хотела впутывать, — отказываются: кто боится, кто бережет себя для большого дела! Вот когда пригодились мои два чулана с тайничками в полу… Потом дело разрослось, создали мастерскую, выпустили «прятки». У меня и сейчас есть полено, а Канатчикова из столярной посадили…
— Это вы славно придумали: мастерская «пряток»!
— Ну хватит обо мне! — возмутилась Мария Петровна. — Даже не рассказала толком, как удалось тебе бежать из Якутии. Слухи доходили фантастические!
— Ну уж, фантастические! Бежала из этого Олекминска, забытого богом и людьми. До железной дороги две с половиной тысячи. Друзья отговаривали — уйти из Якутии зимой! Верная смерть… Мороз… Голод… Полиция… И все же бежала! Поддержал Ольминский. Запеленали меня в шубу, словно куклу, и уложили на дно саней тайком от ямщика. В санях восседал Кудрин, с которым нас вместе судили. Молодец, приехал выручить с другого края света. Он ехал открыто, а я в гробу. — Эссен, перехватив испуганный взгляд Марии Петровны, добавила: — Ко дну саней приделали ящик, меня туда и затолкали. Настоящий гроб. Добирались без малого две недели. Кошмар! Вспомнить страшно! Потом добыли паспорт у монашенки. Такая сердобольная оказалась — предлагала даже кружку для сбора подаяний! Мария Петровна смеялась.
— А как же исправник? Неужели не дал телеграмму о розыске?!
— Вот тут-то потеха. Исправник проверять ссыльных по квартирам не ходил: куда денешься — тайга да глушь! Городок крошечный, единственная улица. Для камуфляжа ссыльные после побега стали прогуливаться по этой улице. Ходили шумно, громко переговаривались, называли меня… Да, да… Один товарищ, ты его не знаешь, надевал мою шубу, шапочку, а на лицо опускал густую вуаль. У бедняги отросла борода, с этой мужской добродетелью ему не хотелось расставаться. В моей комнате вечерами светился огонек. Маскарад прекратился после перехода границы… Исправник заболел от горя.
Мария Петровна восхищенно слушала — она понимала, какого мужества потребовал побег, столь шутливо рассказанный Эссен.
— Оказалась я в Женеве. Познакомилась с Лениным, по знакомилась с «Искрой». Владимир Ильич интересовался тобой, обрадовался, когда узнал, что мы дружны, обещался написать… — Эссен, заметив, как посветлела Мария Петровна, протянула руку. — Потом махнула в Петербург, вошла в комитет, но выдал провокатор. А законспирировалась блестяще: поселилась на Фонтанке с подлинным паспортом на имя Детиной. Приметы сходились: круглое лицо, нос и рот умеренный, волосы русые, рост средний. Хозяйка была от меня в восторге. Парижское произношение, парижские шляпки, дворянка по паспорту! В комнате пианино, на котором я с таким наслаждением играла. Но продержалась всего семь месяцев. Мой арест взбесил эту милую даму: дворянку, приехавшую учиться музыке, хватают, словно нигилистку! Меня ждала каторга за побег, но спас случай. Я отправилась в Киев, чтобы узнать правду из первых рук. Закончился Второй съезд, и в столицу доходили слухи о расколе, о борьбе с меньшевиками…
Закончил здесь 171
— В Киеве нашлись участники съезда?
— Конечно. Больше всех я сошлась с Землячкой… Работы невпроворот: надо было объездить комитеты с докладами о съезде пятнадцати городов — Петербург, Москва, Тула, Воронеж, Тверь… К вам последним закатилась: соберем комитет, сделаю доклад о съезде, главное — провести резолюцию, поддерживающую ленинское большинство! — Эссен вопросительно взглянула на Марию Петровну.
— Комитет у нас сильно изменился за это время, что я секретарствую. Думаю, все пройдет хорошо, «Искру» поддерживают многие, но меньшевиков хватает, и без борьбы не обойтись! Кстати, нужно подумать, как забрать твои вещи с вокзала… Четыре места…
— К сожалению, четыре… Шпики меня сопровождают открыто, теперь уж по два. Сажусь в поезд и знаю: в соседнем купе молодцы с квадратными челюстями, скоро возьмут, связи выявляют. — Эссен говорила спокойно, буднично. — Только я не так проста! Связей им не видать: шпики меня теряют на вокзалах, а находят при отъезде в поезде. Садимся ладком и едем рядком, как в сказке… Жаль, с паспортом Дешинои придется расстаться!
— Давай квитанции от вещей, багаж получим и укроем литературу. Ты здесь отдыхай. Обычно вещи получает моя Марфуша— я стала слишком заметна. Шпик только что не здоровается. Худенький, подслеповатый. Его даже Леля узнает — твой «спик»… А недавно такая неожиданность: в дом вломился студент, грохнул об пол корзину с литературой и отрезал: «Я от бесов!» Представляешь! Василий Семенович побледнел. В доме гости… Подхватила корзину и оттащила в детскую. Ох и досталось же ему, идиоту, взялся не за свое дело! Пришлось всю сеть будоражить — менять пароль, явки, шифр, писать за границу…
— Действительно, идиот! Какая чудесная кукла! — Эссен с удовольствием разглядывала куклу в кружеве оборок. — Лели?
— Да, Лели… Кукла эта, безусловно, замечательная. — Мария Петровна осторожно сняла парик из кудрявых черных волос. — Вот тут шифры, явки, пароли — все самое секретное. При обысках Леля всегда держит ее на руках… Ты отдыхай, а я побегу!
По дорожкам городского сада, усыпанным крупным желтым песком, прогуливалась Мария Петровна. В золоте осени стояли пушистые березы, затенявшие скамьи. Здесь все знакомо, привычно. Музыкальная раковина, в которой так часто играли ее девочки, прячась между скамеек. Цветник из георгинов, громыхавший по вечерам фонтан. Маленькие струйки воды выплескивали амуры, надув тугие, как шары, щеки. В бассейне карасей укрывали водяные лилии и круглые листья кувшинок. Мария Петровна присела на мраморный круг, раздвинула кувшинки и осторожно кидала хлеб, прихваченный из дому. Рыбы подплывали, смотрели круглыми выпученными глазами.
Мария Петровна, подняв воротник черного пальто, отошла к уединенной скамье. Недавно уехала Эссен, уехала раньше назначенного срока, едва не провалившись в Саратове.
На городском вокзале торчали шпики, жандармы. Конечно, Эссен ждали. Она запретила себя провожать. И все же Мария Петровна пришла, чтобы проследить за ее отъездом. Сидела на вокзале и держала на руках Катю. Почти перед самым отходом поезда Эссен появилась у вагона первого класса. Изящная. Надменная. Густая черная вуаль скрывала ее лицо. Она знаком подозвала дежурного жандарма и попросила посмотреть за коробками и желтым саком. Не спеша повернулась на каблуках и, шурша шелковой юбкой, направилась в буфетную. У топтавшегося шпика отвисла нижняя челюсть, он испуганно пятился — Эссен шла на него. Шпик не мог поверить, что эта роскошная дама и была предметом его забот. Как ни привыкла Мария Петровна к искусству перевоплощения, но Эссен поразила ее. Она стала словно выше ростом, изменила походку, говорила по-французски. Провожал ее крупный адвокат, столь же изысканно одетый. Марии Петровне пришлось долго упрашивать адвоката, прежде чем он согласился на эти проводы. Ударил вокзальный колокол. Эссен величественно протянула адвокату руку, презрительно кивнула жандарму. Проводник подавал ее коробки в купе. Лишь на минуту она оглянулась на притаившуюся Марию Петровну, блеснув серыми озорными глазами. Загудел паровоз, покатились вагоны. Эссен, чуть приподняв вуаль, приветливо взмахнула рукой. Смешно топтался шпик, переговариваясь с дежурным жандармом. Они о чем-то спорили. Жандарм недоуменно пожимал плечами и отрицательно качал головой.
Мария Петровна, рассмеявшись, крепко расцеловала Катю и двинулась в толпе зевак в город. Хорошо, что все обошлось. А могло быть…
После заседания комитета, на котором столь долго воевали с меньшевиками, они возвращались домой. Мария Петровна, взглянув на осунувшееся лицо Эссен, раздумывала, что бы такое приятное сделать для дорогой гостьи. Не пригласить ли друзей на музыкальный вечер? Эссен в редкие минуты отдыха не отходила от старенького пианино. Вдруг она почувствовала, как Эссен сжала ее руку, замерла у яркой афиши. В музыкальном училище Эсклера давали концерт камерной музыки. У Марии Петровны заныло сердце, когда увидела, какой жадностью полыхнули глаза подруги. А что на музыкальном вечере могла ей предложить Мария Петровна?! Поспорили: Эссен решила идти на концерт, она возражала, но потом уступила, хотя понимала все безрассудство. Василий Семенович взял билеты. Концерт превзошел ожидания. Гастролировал известный московский пианист. Прикрыв глаза, Эссен наслаждалась музыкой Бородина. Сидела праздничная, строгая, с побледневшим от волнения лицом. Тревога, не покидавшая Марию Петровну, постепенно улеглась, и она, успокоившись, все реже поглядывала на своих соседей. Музыка властно захватила и ее. Кажется, ничего не было подозрительного. Она даже радовалась, что они решились рискнуть. Эссен получила такое удовольствие! В антракте вышли в буфет. С гимназической непосредственностью Эссен ела мороженое, лениво переговаривалась с офицером. Прозвенел звонок. В зале в третьем ряду партера на соседнем кресле сидел жандармский ротмистр. Мария Петровна поежилась, как всегда в минуты опасности. Эссен невозмутимо попросила у соседа программу. Оправдывалось худшее предположение: ротмистр вынул из-за обшлага мундира карточку, взглянул быстро и чисто профессиональным жестом засунул обратно. «Сверяет!» — зло подумала Мария Петровна. Придвинулась к подруге, осторожно взяла у нее бинокль. Свет погас. Эссен поднялась, вышла в вестибюль. За ней Мария Петровна, вызывая недовольные возгласы. Они начали уже торопливо спускаться по лестнице, когда послышался звон шпор, гулко разносившийся в темноте. По чугунным ступеням сбегал ротмистр. До полуночи пришлось блуждать по темным переулкам и проходным дворам города, уходя от преследования.
— Что это у тебя? — поинтересовалась Эссен.
— Открытки выпускаем! — лукаво улыбнулась Мария Петровна. Придвинула пачку.
И правда, в пачках — открытки на глянцевой бумаге. Черным наплывом карикатурные контуры добропорядочных обывателей. Тонкий и толстый. Шляпы надвинуты на глаза. Под мышками зонты. Модные короткие пальто. Тонкий давал прикурить толстому. Рядом городовой с огромными усищами, большущей шашкой и револьвером. Подпись: «Разойтись! Стрелять буду! Толпой больше одного не собирайся!»
— Вот именно — «толпой больше одного»… — засмеялась Эссен.
— Да, остроумно.
— Ну рассказывай о себе! — Эссен намазывала маслом черный хлеб. — Представляешь, что со мной было, когда получила явку к Голубевой Марии Петровне!
— Рассказывать? К «Искре» меня привлек Арцыбушев. Ворвался ночью, вроде тебя. Бурно-пламенный. Глаза горят. Голос сиплый. В ссылке стал социал-демократом, а ушел по делу Заичневского! Он также из якобинцев. Мы с давних пор дружим. Помнишь, я ездила в Сибирь к Заичневскому, видела и Арцыбушева, говорила о знакомстве с Ульяновыми. Когда вышел первый номер «Искры», Арцыбушев и прикатил ко мне, предложив добывать деньги для издания газеты. Убеждать не пришлось. Народничество стало для меня делом прошлым. В те дни 1901 года я вступила в партию. Ждали «Искру». Надо было готовить адреса. В марте мы уже по этим адресам получали газету. Но тут Арцыбушева арестовали. Транспортировка литературы легла на меня…
— А как с деньгами?
— Деньги переводим регулярно. «Делать деньгу» поручено мне — концерты, платные вечера, сборы… Даже провинциальную звезду Касперовича привозила из Самары. К «Искре» тянутся многие. Дело доходит до курьезов. Граф Нессельроде, чудак и меломан, по двести рублей платит за прочтение каждого номера. У него библиотекарь Шустова, наш человек. Было время, когда «Искру» прятали в его особняке…
— Интересно!
— Скорее, здорово! — Мария Петровна была довольна. — Нессельроде — либерал, и интеллигенция изредка пользовалась его библиотекой. И я тоже, а заодно прихватывала свертки, ставила их среди античной литературы, до которой граф великий охотник, а потом уж разносила их по городу.
— А граф?
— Он доверял Шустовой… Ой как сложно было с первым транспортом! Пришло известие, а куда принять?! Обошла всех интеллигентов — рабочих пока не хотела впутывать, — отказываются: кто боится, кто бережет себя для большого дела! Вот когда пригодились мои два чулана с тайничками в полу… Потом дело разрослось, создали мастерскую, выпустили «прятки». У меня и сейчас есть полено, а Канатчикова из столярной посадили…
— Это вы славно придумали: мастерская «пряток»!
— Ну хватит обо мне! — возмутилась Мария Петровна. — Даже не рассказала толком, как удалось тебе бежать из Якутии. Слухи доходили фантастические!
— Ну уж, фантастические! Бежала из этого Олекминска, забытого богом и людьми. До железной дороги две с половиной тысячи. Друзья отговаривали — уйти из Якутии зимой! Верная смерть… Мороз… Голод… Полиция… И все же бежала! Поддержал Ольминский. Запеленали меня в шубу, словно куклу, и уложили на дно саней тайком от ямщика. В санях восседал Кудрин, с которым нас вместе судили. Молодец, приехал выручить с другого края света. Он ехал открыто, а я в гробу. — Эссен, перехватив испуганный взгляд Марии Петровны, добавила: — Ко дну саней приделали ящик, меня туда и затолкали. Настоящий гроб. Добирались без малого две недели. Кошмар! Вспомнить страшно! Потом добыли паспорт у монашенки. Такая сердобольная оказалась — предлагала даже кружку для сбора подаяний! Мария Петровна смеялась.
— А как же исправник? Неужели не дал телеграмму о розыске?!
— Вот тут-то потеха. Исправник проверять ссыльных по квартирам не ходил: куда денешься — тайга да глушь! Городок крошечный, единственная улица. Для камуфляжа ссыльные после побега стали прогуливаться по этой улице. Ходили шумно, громко переговаривались, называли меня… Да, да… Один товарищ, ты его не знаешь, надевал мою шубу, шапочку, а на лицо опускал густую вуаль. У бедняги отросла борода, с этой мужской добродетелью ему не хотелось расставаться. В моей комнате вечерами светился огонек. Маскарад прекратился после перехода границы… Исправник заболел от горя.
Мария Петровна восхищенно слушала — она понимала, какого мужества потребовал побег, столь шутливо рассказанный Эссен.
— Оказалась я в Женеве. Познакомилась с Лениным, по знакомилась с «Искрой». Владимир Ильич интересовался тобой, обрадовался, когда узнал, что мы дружны, обещался написать… — Эссен, заметив, как посветлела Мария Петровна, протянула руку. — Потом махнула в Петербург, вошла в комитет, но выдал провокатор. А законспирировалась блестяще: поселилась на Фонтанке с подлинным паспортом на имя Детиной. Приметы сходились: круглое лицо, нос и рот умеренный, волосы русые, рост средний. Хозяйка была от меня в восторге. Парижское произношение, парижские шляпки, дворянка по паспорту! В комнате пианино, на котором я с таким наслаждением играла. Но продержалась всего семь месяцев. Мой арест взбесил эту милую даму: дворянку, приехавшую учиться музыке, хватают, словно нигилистку! Меня ждала каторга за побег, но спас случай. Я отправилась в Киев, чтобы узнать правду из первых рук. Закончился Второй съезд, и в столицу доходили слухи о расколе, о борьбе с меньшевиками…
Закончил здесь 171
— В Киеве нашлись участники съезда?
— Конечно. Больше всех я сошлась с Землячкой… Работы невпроворот: надо было объездить комитеты с докладами о съезде пятнадцати городов — Петербург, Москва, Тула, Воронеж, Тверь… К вам последним закатилась: соберем комитет, сделаю доклад о съезде, главное — провести резолюцию, поддерживающую ленинское большинство! — Эссен вопросительно взглянула на Марию Петровну.
— Комитет у нас сильно изменился за это время, что я секретарствую. Думаю, все пройдет хорошо, «Искру» поддерживают многие, но меньшевиков хватает, и без борьбы не обойтись! Кстати, нужно подумать, как забрать твои вещи с вокзала… Четыре места…
— К сожалению, четыре… Шпики меня сопровождают открыто, теперь уж по два. Сажусь в поезд и знаю: в соседнем купе молодцы с квадратными челюстями, скоро возьмут, связи выявляют. — Эссен говорила спокойно, буднично. — Только я не так проста! Связей им не видать: шпики меня теряют на вокзалах, а находят при отъезде в поезде. Садимся ладком и едем рядком, как в сказке… Жаль, с паспортом Дешинои придется расстаться!
— Давай квитанции от вещей, багаж получим и укроем литературу. Ты здесь отдыхай. Обычно вещи получает моя Марфуша— я стала слишком заметна. Шпик только что не здоровается. Худенький, подслеповатый. Его даже Леля узнает — твой «спик»… А недавно такая неожиданность: в дом вломился студент, грохнул об пол корзину с литературой и отрезал: «Я от бесов!» Представляешь! Василий Семенович побледнел. В доме гости… Подхватила корзину и оттащила в детскую. Ох и досталось же ему, идиоту, взялся не за свое дело! Пришлось всю сеть будоражить — менять пароль, явки, шифр, писать за границу…
— Действительно, идиот! Какая чудесная кукла! — Эссен с удовольствием разглядывала куклу в кружеве оборок. — Лели?
— Да, Лели… Кукла эта, безусловно, замечательная. — Мария Петровна осторожно сняла парик из кудрявых черных волос. — Вот тут шифры, явки, пароли — все самое секретное. При обысках Леля всегда держит ее на руках… Ты отдыхай, а я побегу!
По дорожкам городского сада, усыпанным крупным желтым песком, прогуливалась Мария Петровна. В золоте осени стояли пушистые березы, затенявшие скамьи. Здесь все знакомо, привычно. Музыкальная раковина, в которой так часто играли ее девочки, прячась между скамеек. Цветник из георгинов, громыхавший по вечерам фонтан. Маленькие струйки воды выплескивали амуры, надув тугие, как шары, щеки. В бассейне карасей укрывали водяные лилии и круглые листья кувшинок. Мария Петровна присела на мраморный круг, раздвинула кувшинки и осторожно кидала хлеб, прихваченный из дому. Рыбы подплывали, смотрели круглыми выпученными глазами.
Мария Петровна, подняв воротник черного пальто, отошла к уединенной скамье. Недавно уехала Эссен, уехала раньше назначенного срока, едва не провалившись в Саратове.
На городском вокзале торчали шпики, жандармы. Конечно, Эссен ждали. Она запретила себя провожать. И все же Мария Петровна пришла, чтобы проследить за ее отъездом. Сидела на вокзале и держала на руках Катю. Почти перед самым отходом поезда Эссен появилась у вагона первого класса. Изящная. Надменная. Густая черная вуаль скрывала ее лицо. Она знаком подозвала дежурного жандарма и попросила посмотреть за коробками и желтым саком. Не спеша повернулась на каблуках и, шурша шелковой юбкой, направилась в буфетную. У топтавшегося шпика отвисла нижняя челюсть, он испуганно пятился — Эссен шла на него. Шпик не мог поверить, что эта роскошная дама и была предметом его забот. Как ни привыкла Мария Петровна к искусству перевоплощения, но Эссен поразила ее. Она стала словно выше ростом, изменила походку, говорила по-французски. Провожал ее крупный адвокат, столь же изысканно одетый. Марии Петровне пришлось долго упрашивать адвоката, прежде чем он согласился на эти проводы. Ударил вокзальный колокол. Эссен величественно протянула адвокату руку, презрительно кивнула жандарму. Проводник подавал ее коробки в купе. Лишь на минуту она оглянулась на притаившуюся Марию Петровну, блеснув серыми озорными глазами. Загудел паровоз, покатились вагоны. Эссен, чуть приподняв вуаль, приветливо взмахнула рукой. Смешно топтался шпик, переговариваясь с дежурным жандармом. Они о чем-то спорили. Жандарм недоуменно пожимал плечами и отрицательно качал головой.
Мария Петровна, рассмеявшись, крепко расцеловала Катю и двинулась в толпе зевак в город. Хорошо, что все обошлось. А могло быть…
После заседания комитета, на котором столь долго воевали с меньшевиками, они возвращались домой. Мария Петровна, взглянув на осунувшееся лицо Эссен, раздумывала, что бы такое приятное сделать для дорогой гостьи. Не пригласить ли друзей на музыкальный вечер? Эссен в редкие минуты отдыха не отходила от старенького пианино. Вдруг она почувствовала, как Эссен сжала ее руку, замерла у яркой афиши. В музыкальном училище Эсклера давали концерт камерной музыки. У Марии Петровны заныло сердце, когда увидела, какой жадностью полыхнули глаза подруги. А что на музыкальном вечере могла ей предложить Мария Петровна?! Поспорили: Эссен решила идти на концерт, она возражала, но потом уступила, хотя понимала все безрассудство. Василий Семенович взял билеты. Концерт превзошел ожидания. Гастролировал известный московский пианист. Прикрыв глаза, Эссен наслаждалась музыкой Бородина. Сидела праздничная, строгая, с побледневшим от волнения лицом. Тревога, не покидавшая Марию Петровну, постепенно улеглась, и она, успокоившись, все реже поглядывала на своих соседей. Музыка властно захватила и ее. Кажется, ничего не было подозрительного. Она даже радовалась, что они решились рискнуть. Эссен получила такое удовольствие! В антракте вышли в буфет. С гимназической непосредственностью Эссен ела мороженое, лениво переговаривалась с офицером. Прозвенел звонок. В зале в третьем ряду партера на соседнем кресле сидел жандармский ротмистр. Мария Петровна поежилась, как всегда в минуты опасности. Эссен невозмутимо попросила у соседа программу. Оправдывалось худшее предположение: ротмистр вынул из-за обшлага мундира карточку, взглянул быстро и чисто профессиональным жестом засунул обратно. «Сверяет!» — зло подумала Мария Петровна. Придвинулась к подруге, осторожно взяла у нее бинокль. Свет погас. Эссен поднялась, вышла в вестибюль. За ней Мария Петровна, вызывая недовольные возгласы. Они начали уже торопливо спускаться по лестнице, когда послышался звон шпор, гулко разносившийся в темноте. По чугунным ступеням сбегал ротмистр. До полуночи пришлось блуждать по темным переулкам и проходным дворам города, уходя от преследования.
Дорогой товарищ! Чрезвычайно рад я был узнать от наших общих знакомых (особенно от Зверя — не знаю, под той же ли кличкой Вы ее знали), что Вы живы и заняли солидарную с нами политическую позицию. Мы виделись и были знакомы так давно (в Самаре 1892–1893 году), что без посредства новых друзей нам трудно бы и возобновить дружбу. А возобновить ее мне очень бы хотелось. Для этого посылаю Вам, пользуясь адресом, подробное письмо о наших делах и усердно прошу ответить лично и поскорее. Без регулярной переписки немыслимо вместе вести дело, а Саратов до сих пор упорно отмалчивался целыми месяцами. Пожалуйста, поверните это теперь иначе и начните писать сами пообстоятельнее. Без подробных писем от Вас лично нельзя будет выяснить ни Ваше личное положение в деле, ни вообще саратовские условия. Не поленитесь потратить 2–3 часа в неделю. Шлю Вам большой привет и крепко жму руку. Ленин. Октябрь 1904 г.
В тот же день Мария Петровна обстоятельно ответила. Но, очевидно, письмо не дошло до адресата, что случалось нередко при всех трудностях переписки. И опять пришло письмо из Женевы, опять шифрованное, опять от Ленина.
Писал Вам в Саратов, но ответа не имел. Напишите, что это значит: не получили ли письма? или мы разошлись в путях? Если первое, то Ваше молчание все-таки непростительно: мы чуть не год добиваемся связей с Саратовом. Откликнитесь же наконец!
Мария Петровна огорчилась: информацию все это время она посылала аккуратно. Может быть, Владимир Ильич не знал, под какой кличкой она работает — в подполье загадок много! И все же письма дошли до Ленина. Это поняла в день получения тревожного письма из Женевы:
Пожалуйста, немедленно приступайте к сбору и отсылке всех и всяческих корреспонденции по нашим адресам с надписью: для Ленина. Крайне нужны также деньги. События обостряются. Меньшинство явно готовит переворот по сделке с частью ЦК. Мы ждем всего худшего. Подробности на днях.
Ленин посылал это письмо, посылал другу, на которого можно положиться. А однажды товарищи, по просьбе Владимира Ильича, посоветовали ей перебраться в Петербург, благо, закончился срок гласного надзора. Она дала согласие на переезд. Василий Семенович ворчал: столица отпугивала его, расставаться с Саратовом не хотелось. Но Мария Петровна торопилась. В Петербурге нужна конспиративная квартира. Опыт в этих делах немалый, организовать все поручили ей. Осенью 1904 года супруги Голубевы покинули Саратов.
«Нет на Руси царя»
В Геслеровском переулке в одном из отделений «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» шло заседание Гапоновского клуба. Молодая женщина, тоненькая, хрупкая, читала, полузакрыв глаза:В ту ночь до рассвета мелькала иголка!
Сшивали мы полосы красного шелка
Полотнищем длинным, прямым.
Мы сшили кровавое знамя свободы,
Его мы таить будем долгие годы,
Но мы не расстанемся с ним.
Все ждем, не ударит ли громко тревога.
Не стукнет ли жданный сигнал у порога…
Нам чужды и жалость и страх.
Мы — бедные пчелки, работницы-пчелки…
И ночью и днем всё мелькают иголки
В измученных наших руках.
— Мы, рабочие и жители города Петербурга, разных сословий, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над на ми надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам… Нас душат деспотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук…
Мария Петровна обернулась. Плакал старый рабочий. Глаза его распухли, покраснели от слез. Он громко всхлипывал, утирая их кулаком. С какой-то отрешенностью сжимал худенькие плечи девочки. Истово крестилась старуха. Ее высохшее лицо тряслось, по глубоким морщинам текли слезы.
— Вот, что стоит перед нами, государь, и это-то нас и со брало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стены между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народа, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение…
Гапон оторвал глаза от петиции, осмотрелся. Тишина и громкое дыхание. Рабочие слушали напряженно, слушали с наивной верой, что слова могут изменить их участь. Крестились. Шептали молитвы.
— Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу… пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее.
Священник вытер худой рукой вспотевший лоб. Сел. Петицию приняли. С благоговением начали ставить каракули и кресты на бумаге — подписывались. Мария Петровна с тяжелым сердцем вышла на улицу. Волнистые сугробы отбрасывали на укатанный снег тени. В свете газового фонаря припудренные морозом деревья казались серебряными. Пушистые от снега ветви ложились черными линиями, переплетаясь так плотно, что Марии Петровне стало страшно ступать. Широкой полосой рассекали дорогу тени стволов. Что-то роковое и обреченное было в этой ночной тиши. Она заторопилась домой на Монетную. Мороз трещал, ветер поскрипывал закрытыми ставнями. Мрачно и тихо. Что-то принесет завтрашний день?!
Солнце золотило парчу на торжественном облачении Талона. Он шел с путиловцами. Медленно, величественно. Высоко поднимал деревянный крест. Впереди живой цепью рабочие. Торжественность. Порядок. За Гапоном колыхались людские шеренги. Праздничные. Нарядные. Мужчины с непокрытыми головами. Женщины, детишки. Весь Петербург на улицах. Обыватели снимали шапки при виде царских портретов. Бесцветные глаза Николая Второго в горностаевой мантии. Хмурая царица Александра Федоровна, будто обиженная на мороз. Шествие напоминало крестный ход: хоругви, серебряные оклады икон, торжественное пение:
Боже, царя храни…
 Топот. Крик. Толпа шарахнулась и, оставляя убитых, понеслась вдоль Невского. На снегу окровавленные хоругви, царские флаги, портреты. Подвернув ногу в подшитом валенке, раскинул руки мальчишка. Над ним на коленях мать. Простоволосая. Безумная. Она тормошила за плечи мальчишку, уговаривала. Кровь!..
Цепи солдат разомкнулись. Конница. Сабельные удары резали морозный воздух. Пьяные казаки в развевающихся бурках, будто зловещие черные птицы, с криком полетели за толпой. Лошади мяли людей… Свистели нагайки… Играли клинки — избиение началось.
Мария Петровна выхватила из людского водоворота девочку в смешном капоре, заслонила собой. Девочка всхлипывала, ревела, звала мать.
— Уймите прохвостов! — кричал мужчина. — Казаки детей топчут лошадьми!
Солдаты перестроились. Все так же четко, размеренно. Конница начала очищать Невский. Пригибаясь к мостовой, пробежал мимо Марии Петровны рабочий. Руки его разматывали какой-то предмет. Бежал не один — по противоположной стороне так же споро бежал человек.
Казаки неслись галопом. Но вот что-то произошло: лошади испуганно заржали и рухнули на мостовую. Казаки скатились на затоптанный снег. Один… Другой… Третий… Толпа за свистела, заулюлюкала. Отряд повернул назад. «Проволоку… проволоку протянули!» — обрадовалась Мария Петровна.
Она быстро подхватила девочку и, путаясь в полах пальто, побежала к Гороховой улице. К аптеке вели раненых, пронесли убитого. На шее его на суровой нитке болтался железный крест. Старик, помогавший тащить убитого, сдернул крест и взмахнул им в сторону Зимнего.
— Нет на Руси царя! Нет!
Старик согнулся, зарыдал. Из-за угла вынырнул рысак с налитыми кровью глазами. На узеньких саночках студент с открытой головой. Озябшими пальцами потирал уши. Очевидно, фуражку потерял в свалке. Студент, заметив старика, выпрыгнул, начал помогать.
— Напиши: убит с крестом в руке… Вот она, царская правда!
Снова гнали толпу казаки в бурках, припорошенных снегом. Бежавший рядом с Марией Петровной мужик распахнул на груди полушубок, зло выругался, повернул назад:
— Стреляй, сволочь! Стреляй, коль в Маньчжурии силенок не хватает!
Дико закричала девочка, которую Мария Петровна волочила за собой. Мария Петровна, словно отрезвев, бросилась за мужчиной. Свистели пули, били барабаны. Сильным движением обхватив его, привлекла к себе, гладила по щекам, по волосам:
— Полноте, полноте, дружок! Разве так нужно умирать?! Мужик пытался вырваться, плечи его тряслись от громкого плача.
Топот. Крик. Толпа шарахнулась и, оставляя убитых, понеслась вдоль Невского. На снегу окровавленные хоругви, царские флаги, портреты. Подвернув ногу в подшитом валенке, раскинул руки мальчишка. Над ним на коленях мать. Простоволосая. Безумная. Она тормошила за плечи мальчишку, уговаривала. Кровь!..
Цепи солдат разомкнулись. Конница. Сабельные удары резали морозный воздух. Пьяные казаки в развевающихся бурках, будто зловещие черные птицы, с криком полетели за толпой. Лошади мяли людей… Свистели нагайки… Играли клинки — избиение началось.
Мария Петровна выхватила из людского водоворота девочку в смешном капоре, заслонила собой. Девочка всхлипывала, ревела, звала мать.
— Уймите прохвостов! — кричал мужчина. — Казаки детей топчут лошадьми!
Солдаты перестроились. Все так же четко, размеренно. Конница начала очищать Невский. Пригибаясь к мостовой, пробежал мимо Марии Петровны рабочий. Руки его разматывали какой-то предмет. Бежал не один — по противоположной стороне так же споро бежал человек.
Казаки неслись галопом. Но вот что-то произошло: лошади испуганно заржали и рухнули на мостовую. Казаки скатились на затоптанный снег. Один… Другой… Третий… Толпа за свистела, заулюлюкала. Отряд повернул назад. «Проволоку… проволоку протянули!» — обрадовалась Мария Петровна.
Она быстро подхватила девочку и, путаясь в полах пальто, побежала к Гороховой улице. К аптеке вели раненых, пронесли убитого. На шее его на суровой нитке болтался железный крест. Старик, помогавший тащить убитого, сдернул крест и взмахнул им в сторону Зимнего.
— Нет на Руси царя! Нет!
Старик согнулся, зарыдал. Из-за угла вынырнул рысак с налитыми кровью глазами. На узеньких саночках студент с открытой головой. Озябшими пальцами потирал уши. Очевидно, фуражку потерял в свалке. Студент, заметив старика, выпрыгнул, начал помогать.
— Напиши: убит с крестом в руке… Вот она, царская правда!
Снова гнали толпу казаки в бурках, припорошенных снегом. Бежавший рядом с Марией Петровной мужик распахнул на груди полушубок, зло выругался, повернул назад:
— Стреляй, сволочь! Стреляй, коль в Маньчжурии силенок не хватает!
Дико закричала девочка, которую Мария Петровна волочила за собой. Мария Петровна, словно отрезвев, бросилась за мужчиной. Свистели пули, били барабаны. Сильным движением обхватив его, привлекла к себе, гладила по щекам, по волосам:
— Полноте, полноте, дружок! Разве так нужно умирать?! Мужик пытался вырваться, плечи его тряслись от громкого плача.
В Москве ледоход…
— В Москве ледоход… — А разлива не будет: начальство приняло меры. Мария Петровна произнесла ответную фразу пароля, разглядывая молоденькую девушку в суконной накидке, придававшей грузность ее фигуре. Девушка стояла в просторной прихожей неестественно прямо, чуть сощурив карие глаза. Сквозь полуоткрытую дверь пробивался яркий столб солнечных лучей. Положив муфту на зеркальный столик, девушка улыбнулась. На ее румяном круглом лице проступили ямочки, в карих глазах — смешинки. Мария Петровна не предлагала раздеваться: знала, принесла оружие. Девушка прошла следом за Марией Петровной в просторную столовую, обставленную старинной мебелью с тяжелыми гардинами на венецианских окнах. На обеденном столе, покрытом белой скатертью, гудел самовар. Убедившись, что дверь плотно закрыта, девушка сняла накидку. Мария Петровна удивленно всплеснула руками. Хрупкая шея девушки была обмотана полотенцем, от которого длинными языками спускались полотнища с прилаженными к ним винтовками. Широкий пояс придерживал их у талии. Пять винтовок! Виртуозность, которой еще она не видала. Мария Петровна осторожно развязывала ремни, сняла винтовки. Освободившись от своего опасного груза, девушка стала хрупкой и худенькой. Она растерла занемевшую шею, счастливо потянулась:
— Так устала, так устала… Еле ноги дотянула.
— Зато поставили рекорд — пять! — Мария Петровна налила стакан крепкого чая, положила на тарелку бутерброды. — Присаживайтесь… Небось и не завтракали сегодня…
— Нет… Но не чувствовала, что голодна. А теперь такая тяжесть с плеч свалилась. — Девушка с жадностью набросилась на бутерброды. — Вкусно как…
— А тяжесть действительно свалилась с плеч! — засмеялась Мария Петровна.
— Славно… Спасибо! — Девушка, вновь потянувшись, встала. Улыбнулась чуть припухлыми губами. — Пора… Ждите через два часа. Да, а листовки?! А то и новостей не узнаешь. Знаете, после побоища, учиненного черносотенцами у университета, собралась толпа. Городовой решил утихомирить страсти: «Разойдитесь, господа! Все равно в здание не пропустят, а здесь ничего не увидите. Завтра все в нелегальных газетах узнаете». Вот и полиция признала авторитет нашей печати!
Мария Петровна, проводив ее, задержалась в прихожей, слушала. Застучали каблучки по лестнице, хлопнула парадная дверь. Теперь нужно убрать оружие. Она вернулась в столовую и начала запихивать винтовки под половицы, прикрыв тайник ковром. В тайнике лежали браунинги, револьверы, патроны, а вот прибыла и первая партия винтовок. Теперь, в эти осенние дни, квартира Голубевых на Монетной стала штаб-квартирой Петербургского комитета РСДРП.
После столь трагического шествия народа к Зимнему дворцу в октябре началась всеобщая стачка, которую Петербургский комитет РСДРП решил перевести в вооруженное восстание. Тогда потребовалось из разрозненных конспиративных тайников свести воедино оружие — таким местом стала квартира Голубевых на Монетной, отвечавшая самым строгим требованиям конспирации. Малонаселенный дом с двумя выходами и проходными дворами, большая квартира с удобным расположением комнат. К тому же Василии Семенович занимал солидное положение: редактор «Земских дел». К нему приходило много народа, дом слыл открытым…
Подсчитав оружие, Мария Петровна открыла синюю книжечку и начала шифровать записи. Улыбнулась. Книжечка была с секретом. Недавно в партии изобрели легковоспламеняющийся состав, им пропитывались документы и письма, подлежащие особому уничтожению. Поначалу она скептически отнеслась к этому, но однажды состав спас ее от ареста. Члены Петербургского комитета собрались на заседание. Она пришла пораньше, чтобы поговорить с товарищем, приехавшим от Владимира Ильича. И вдруг в дверь ворвалась полиция. Квартира оказалась чистой, но при обыске обнаружили шифрованные письма. Начали составлять протокол. Пристав, счастливый от столь редкой находки, положил письма рядом с пепельницей, закурил. Тонкой струйкой тянулся дымок. Пристав неторопливо оттачивал карандаш. И тут случилось непредвиденное— кто-то незаметно пододвинул письма к дымящейся папиросе. Бумаги вспыхнули ярким голубым пламенем; пристав прикрыл их ладонями, но поздно — остался только пепел. Пристав кричал, а задержанные откровенно посмеивались. После этого случая все конспиративные записи Мария Петровна делала только на бумаге, пропитанной чудодейственным составом.
Приглушенно затрещал звонок. Мария Петровна выпрямилась и, чувствуя неприятную сухость во рту, прошла в прихожую. Сегодня она двери открывала сама, отпустив горничную в гости. Василий Семенович лежал в кабинете с сердечным приступом, девочек она отвела к его родным. Неизвестно, чем мог кончиться этот день.
— В Москве ледоход… — прогрохотал верзила в тулупе, напоминавший деда-мороза. Снег хлопьями лежал на широких плечах, на густой черной бороде.
— А разлива не будет — начальство приняло меры, — с готовностью ответила Мария Петровна.
Убедившись, что дверь плотно закрыта, девушка сняла накидку. Мария Петровна удивленно всплеснула руками. Хрупкая шея девушки была обмотана полотенцем, от которого длинными языками спускались полотнища с прилаженными к ним винтовками. Широкий пояс придерживал их у талии. Пять винтовок! Виртуозность, которой еще она не видала. Мария Петровна осторожно развязывала ремни, сняла винтовки. Освободившись от своего опасного груза, девушка стала хрупкой и худенькой. Она растерла занемевшую шею, счастливо потянулась:
— Так устала, так устала… Еле ноги дотянула.
— Зато поставили рекорд — пять! — Мария Петровна налила стакан крепкого чая, положила на тарелку бутерброды. — Присаживайтесь… Небось и не завтракали сегодня…
— Нет… Но не чувствовала, что голодна. А теперь такая тяжесть с плеч свалилась. — Девушка с жадностью набросилась на бутерброды. — Вкусно как…
— А тяжесть действительно свалилась с плеч! — засмеялась Мария Петровна.
— Славно… Спасибо! — Девушка, вновь потянувшись, встала. Улыбнулась чуть припухлыми губами. — Пора… Ждите через два часа. Да, а листовки?! А то и новостей не узнаешь. Знаете, после побоища, учиненного черносотенцами у университета, собралась толпа. Городовой решил утихомирить страсти: «Разойдитесь, господа! Все равно в здание не пропустят, а здесь ничего не увидите. Завтра все в нелегальных газетах узнаете». Вот и полиция признала авторитет нашей печати!
Мария Петровна, проводив ее, задержалась в прихожей, слушала. Застучали каблучки по лестнице, хлопнула парадная дверь. Теперь нужно убрать оружие. Она вернулась в столовую и начала запихивать винтовки под половицы, прикрыв тайник ковром. В тайнике лежали браунинги, револьверы, патроны, а вот прибыла и первая партия винтовок. Теперь, в эти осенние дни, квартира Голубевых на Монетной стала штаб-квартирой Петербургского комитета РСДРП.
После столь трагического шествия народа к Зимнему дворцу в октябре началась всеобщая стачка, которую Петербургский комитет РСДРП решил перевести в вооруженное восстание. Тогда потребовалось из разрозненных конспиративных тайников свести воедино оружие — таким местом стала квартира Голубевых на Монетной, отвечавшая самым строгим требованиям конспирации. Малонаселенный дом с двумя выходами и проходными дворами, большая квартира с удобным расположением комнат. К тому же Василии Семенович занимал солидное положение: редактор «Земских дел». К нему приходило много народа, дом слыл открытым…
Подсчитав оружие, Мария Петровна открыла синюю книжечку и начала шифровать записи. Улыбнулась. Книжечка была с секретом. Недавно в партии изобрели легковоспламеняющийся состав, им пропитывались документы и письма, подлежащие особому уничтожению. Поначалу она скептически отнеслась к этому, но однажды состав спас ее от ареста. Члены Петербургского комитета собрались на заседание. Она пришла пораньше, чтобы поговорить с товарищем, приехавшим от Владимира Ильича. И вдруг в дверь ворвалась полиция. Квартира оказалась чистой, но при обыске обнаружили шифрованные письма. Начали составлять протокол. Пристав, счастливый от столь редкой находки, положил письма рядом с пепельницей, закурил. Тонкой струйкой тянулся дымок. Пристав неторопливо оттачивал карандаш. И тут случилось непредвиденное— кто-то незаметно пододвинул письма к дымящейся папиросе. Бумаги вспыхнули ярким голубым пламенем; пристав прикрыл их ладонями, но поздно — остался только пепел. Пристав кричал, а задержанные откровенно посмеивались. После этого случая все конспиративные записи Мария Петровна делала только на бумаге, пропитанной чудодейственным составом.
Приглушенно затрещал звонок. Мария Петровна выпрямилась и, чувствуя неприятную сухость во рту, прошла в прихожую. Сегодня она двери открывала сама, отпустив горничную в гости. Василий Семенович лежал в кабинете с сердечным приступом, девочек она отвела к его родным. Неизвестно, чем мог кончиться этот день.
— В Москве ледоход… — прогрохотал верзила в тулупе, напоминавший деда-мороза. Снег хлопьями лежал на широких плечах, на густой черной бороде.
— А разлива не будет — начальство приняло меры, — с готовностью ответила Мария Петровна.
И как ни странно, пароль не вызывал улыбки, хотя за окном валил снег, а Нева скована льдом. Мужчина прошел в столовую, куда предусмотрительно открыла дверь Мария Петровна, осторожно ступая на негнущихся ногах. — Вам придется отвернуться, — просто сказал великан. — Бикфордов шнур. Мария Петровна понимающе кивнула. Мужчина хотел пройти за ширму, но Мария Петровна остановила его. Осторожно помогла снять тулуп. Каждое движение могло стоить жизни! Ноги великана были перевиты бикфордовым шнуром. Она стала на колени и осторожно начала разматывать его. Тяжелыми кругами падал шнур на паркет, свертывался в клубки, словно змея. — Слава богу, добрался, — прогудел великан. — Ехать на конке побоялся, тряхнет ненароком, скольких людей загублю… Взял извозчика. Торчу, как столб, и молчу. Извозчик попался сердечный: «Радикулит прихватил…» — А что на заводе, товарищ? — Мария Петровна старалась определить на глаз, сколько метров шнура лежало в кругах. — Вчера обыск был. Перед сменой ввалились архаровцы, закрыли выходы, братва-то ночью делала оружие да из напильников кинжалы. Иные так их любовно оттачивали, что посеребри — загляденье! Видно, донес мастер. — Великан зло сплюнул и достал пачку папирос. — Курить нельзя! — Мария Петровна забрала папиросы. — Пожалуйста, и спички… — Ах да… Солдаты охотились за оружием. Ну, рабочие, смекнув, попрятали все в станки, а те шуровали в инструментальных ящиках… Здорово помогли ученики. Пока мастер с солдатами обшаривали станки, салака уже тащила оружие крановщикам, а они рассовывали его по балкам… Смеху… Крановщики под самым небом, солдатам шуточки отпускают. Офицерик попробовал взобраться на кран — кишка тонка… — А мастер? — Дрянь… Из царских пирожников. — Великан заметил недоуменный взгляд Марии Петровны и пояснил: — Из тех, кто входил в депутацию после Кровавого воскресенья. Долго, шкура, скрывал, что у царя побывал, стыдился. Приперли, так рассказал, как под охраной Трепова возили их в Царское Село, как в Александровском дворце из внутренних покоев изволил выйти государь, как милостиво простил убитым и сиротам их вину, как встретили его низкими поклонами. — Великан, словно псаломщик, гнусаво закончил: — «Я верю в честные чувства рабочих и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Теперь возвращайтесь к мирному труду вашему, благословись, принимайтесь за дело вместе с товарищами и да будет бог вам в помощь». — На заводах панихиды служат… Вот вам прокламации для путиловцев. И особенно следите за дружинами. Оружие может быть любое — бомбы, револьверы, ножи, веревочные лестницы, колючая проволока против казаков и тряпка с керосином для поджога! Так настаивает Владимир Ильич. Мария Петровна проводила рабочего, еще раз подивившись его богатырскому росту. Весь день не закрывалась дверь в квартиру на Монетной. Рабочие. Студенты. Курсистки. Приносили динамит в поясах, и по комнате расползался сладковатый миндальный запах, запалы к бомбам в хитроумных жилетах, желтые аккуратные коробки с красными сургучными печатями — бомбы. На черном ходу топтались кухарки с интеллигентными лицами, в широких корзинах передавали последние листовки Петербургского комитета РСДРП. Голубева принимала оружие. Столовой, самой просторной комнаты, оказалось недостаточно. Пришлось запрятывать взрывчатку в детскую. Работа требовала большой осторожности. А оружие все прибывало. Прихватив ящик с браунингами, Мария Петровна направилась к мужу в кабинет. Василий Семенович лежал на кожаном диване. Глаза его напряженно следили за женой. Она поцеловала его в лоб и начала выкидывать книги, чтобы освободить место для ящика. Уловив его умоляющий взгляд, сказала: — Теперь скоро — осталось перевезти взрывчатку из мастерской гробов. Василий Семенович застонал, расстегнул ворот рубахи. Больной. Нервный. Он так боялся ее ареста. Марии Петровне было жаль мужа, но сделать она ничего не могла. — Маня, давай поговорим спокойно: дело не в том, что мы с детьми живем на пороховом погребе, который ты устроила из нашей квартиры. — Василий Семенович привстал, не снимая мокрого полотенца с головы. — Оружие повлечет новые жертвы, новую кровь… — Ты обложился манифестами и веришь этой галиматье! — рассердилась Мария Петровна, швырнув на письменный стол газету с правительственным сообщением. — Разве слова Николая — ложь?! Почему такое предубеждение?! Вслушайся! — Василий Семенович трясущимися руками поправил пенсне и начал читать: — «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться настроение народное и угроза целости и единству державы»… — Василий Семенович помолчал и мягко заметил: — Этим словам нельзя не радоваться, как и настроению царя. — Совсем как у Салтыкова-Щедрина: «Ведь мы как радуемся! И день и ночь, и день и ночь! И дома, и в гостях, и в трактирах, и словесно, и печатью! Только и слов: слава богу! Дожили! Ну и нагнали своими радостями страху на весь квартал!» — Мария Петровна гневно взглянула в глаза мужу. — Расстрел демонстрации после манифеста о так называемых свободах личности! Черная сотня, набранная из полицейских и торговцев! Приказ Трепова: «Холостых патронов не давать!» — всего этого тебе мало. — Но кровь народная, кровь… — Будем вооружены, так и крови меньше прольется! Третьего дня прошлась с девочками по городу. Смотрю — у манежа распахнуты настежь ворота, густая толпа валом валит. Пробилась и я. Глазам не поверила: по стенам развешаны портреты Желябова и Софьи Перовской… А в центре пьяные черносотенцы из револьверов стреляли по этим портретам! Из героев сделали мишени! Кто не попадал из револьвера, тот подходил и плевался, выкалывал ножом глаза… Можно было такое выдержать? Бандиты! Полетели камни, бутылки, началась потасовка, и влепили же им! — А полиция?! — Полиция, конечно, защищала! — Мария Петровна прошлась по кабинету и устало закончила: — Ты уповаешь на манифест, — нет, мирно с царизмом не договоришься. В дверь зазвонили. Мария Петровна поспешила в прихожую. Респектабельный господин в дорогой енотовой шубе снял цилиндр, протянул руку Марии Петровне. Положив на зеркальный столик мягкие замшевые перчатки, не раздеваясь, прошел в столовую. Осмотревшись, неторопливо и бережно вынул из карманов бомбы и, скинув шубу, снял жилет с динамитом. — Ну, как дела, Мария Петровна? — спросил он мягким низким голосом, проведя холеной рукой по усикам. — Идут! — Мария Петровна вынула синюю книжечку, подсела к Буренину. — Вот полный отчет. Буренин, пощипывая усики, принялся быстро делать пометки. На высоком лбу обозначились морщины. Тонкое красивое лицо с аккуратными усиками и бородкой стало настороженным. Черный костюм оттенял белую до синевы манишку с высоким стоячим воротником и широким галстуком. Буренин — богач, один из тех, кто возглавлял боевую группу при ЦК РСДРП. В революцию пришел в дни студенческих волнений. У Казанского собора полиция разгоняла демонстрантов. Буренин стоял в толпе, наблюдал. Избиение студентов его возмутило. Предложил приставу визитную карточку, уверенный, что последует разбирательство, в котором он желал выступить свидетелем. Но пристав присоединил его к арестованным. Так Буренин оказался в полицейской части. Родственники хлопотали, Буренина выпустили. Знакомство с Еленой Дмитриевной Стасовой помогло прийти в партию. Имение его матери расположено было на границе с Финляндией по Кексгольмскому тракту. Через это имение он и наладил доставку оружия. Потянулись подводы в Петербург — Буренин перевозил «библиотеку» в городской дом. Под книгами лежали винтовки, ящики с патронами, динамит. Потом заскрипели возы с картофелем, а под картофелем все тот же груз. Фешенебельная квартира его матери на Рузовской служила пристанищем многих… — Что ж? Дела не плохи! — Буренин удовлетворенно возвратил Марии Петровне синюю книжечку. — Только осторожность и еще раз осторожность, иначе взлетите на воздух. — В общем-то я спокойна: самоделок нет, а это главное. — Мария Петровна придвинула стакан чая и с мягкой улыбкой заметила: — «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». — Конечно… Конечно… — Буренин, позванивая ложечкой, помешивал сахар. — Самоделки… Гм… Самое страшное. Как-то мне пришлось стать обладателем трех таких самодельных бомб. Доверия они мне не внушали — внутри что-то дребезжало, тряслось, держать дома их побоялся. Приказал запрячь рысака и поехал в академию к нашим военным специалистам поконсультироваться, что делать с ними дальше. На ухабах сани подпрыгивали, а бомбы — в кармане! К офицерам прошел с трудом — время позднее. Увидели офицеры бомбы, и лица вытянулись, а от гнева даже слов подходящих подобрать не могли сразу. Пришлось мне немедленно убраться и уничтожить эти злосчастные бомбы. — Уничтожили?! — Уничтожил, но с трудом: на Мойке стоял лед, утопить их не удалось… Вспомнить страшно, как по сонному городу метался с этим «драгоценным» грузом. Буренин посмеивался, говоря как о чем-то будничном, а Мария Петровна боязливо поводила плечами. Опять звонок. На этот раз — Эссен. Вошла раскрасневшаяся от мороза, смеющаяся, с лукавыми искорками в глазах. Роскошная. В модном капоре и меховой ротонде. Мария Петровна обрадовалась ей. Эссен, поздоровавшись с Бурениным, сняла ротонду, и опять Мария Петровна развязывала ремни на винтовках. — Смех и грех, Машенька! — Эссен вынула из муфты на душенный платок. — Обложили меня винтовками, и поплыла я павой по Васильевскому острову. Иду неторопливо. Проверяюсь, останавливаясь у витрин. Со мной знакомый товарищ с револьверами. Как обычно, мы попеременно пропускали друг друга вперед на несколько шагов. Смотрю — на бедняжке лица нет. Оказывается, у меня отвязалась веревка и тащится по снегу. Мария Петровна всплеснула руками. Буренин поднял голову и застыл. Только Эссен откинулась на диван и смеялась так заразительно, что плечи вздрагивали. Она несколько раз пыталась продолжить рассказ, но не могла. Мария Петровна укорила: — Нашла время… Пустосмешка! — Тянется веревка. Что делать?! И тут произошло самое смешное! — Эссен опять закатилась звонким смехом, встряхивая волнистыми волосами. — Надумали прокатиться на конке: я поднималась на империал, а товарищ тем временем подвязывал веревочку! — Ну и ну! Товарищ-то с револьверами! — Мария Петровна не могла скрыть тревогу. — В том-то и фокус — он не мог нагнуться, поэтому я и полезла наверх! — Эссен уже не смеялась, подошла к Марии Петровне, обняла ее. — Право, ты зря волнуешься… Все обошлось! — Обошлось?! — пробурчала Мария Петровна. — А завтра?! — Назавтра — сама осторожность! — Серые глаза Эссен так искренне смотрели на Марию Петровну, что та рассмеялась и махнула рукой. — Скоро пять. Пора и комитетчикам собраться! — Буренин вынул золотой хронометр, завел не спеша. — Комитетчики придут. Вся загвоздка в Совете… Меньшевики там окопались и решения о восстании принимать не хотят! — Мария Петровна углубилась в подсчеты. — Ленин беспокоится, ждет восстания! Эссен скрестила руки: — Он прав в своем беспокойстве.
Штаб-квартира Ленина
Падал снег. Редкий. Пушистый. Побагровевшее от мороза солнце повисло над Адмиралтейством, зацепившись за золотую иглу. Крупные снежинки расползались по холодному граниту набережной. Впереди Троицкий мост. Мария Петровна протерла замерзшие стекла очков. Поправила белый платок, повязанный поверх меховой шапочки, огляделась по сторонам. Лихач повернул на Невский: модные магазины, толпа зевак, живые манекены в зеркальных витринах. Извозчик важно покачивался на козлах. Белой лентой лежал снег на шапке, на суконной поддевке. Изредка он прищелкивал ременным кнутом. Мария Петровна с удовольствием вдыхала морозный воздух. Она возвращалась из типографии «Дело», которая принадлежала Петербургскому комитету РСДРП. В ногах стоял чемодан с нелегальными изданиями, предназначенный для Москвы. Литературу приходилось отправлять частенько: чемодан сдавала на предъявителя, одновременно посылая шифрованное уведомление. Типография работала открыто, а нелегальщину печатали хитростью. Полиция сюда частенько наведывалась, но, помимо самых благонамеренных изданий, ничего обнаружить не могла. В печатном цехе кипел свинец, в который сразу же сбрасывали набор при опасности. В типографии она пробыла недолго, хотя всегда испытывала удовольствие от ровного гула машин и плотного запаха керосина. Уложив литературу в чемодан, вышла через потайную дверь. Проходными дворами добралась до Казачьего переулка, взяла извозчика. От размышлений ее отвлек окрик извозчика. Оглянулась. За ними гнался серый рысак в яблоках. Случайность?! Едва ли… Она тронула извозчика за плечо, беспечно попросила:
— Нас обгоняют! Не позволим…
Извозчик, молодой парень с рыжими усами, осклабился. Ременный кнут засвистел в воздухе. Снег повалил плотнее. Мария Петровна покрепче нахлобучила шапочку. Сани понеслись в снежный вихрь. В ушах свистел ветер. На повороте сани накренились, и Мария Петровна с трудом удержала равновесие. Теперь главная забота — чемодан. Она вцепилась в него, придавила коленями. Извозчик похохатывал в рыжую бороду. Кажется, оторвались. Нет, рано обрадовалась. Вновь по заезженной мостовой приглушенно застучали копыта. Извозчик гортанно крикнул и стеганул лошадь. «Да, слежка на лошадях самая страшная — от нее невозможно укрыться», — припомнились ей слова Эссен. И как всегда в минуты опасности, ею овладело спокойствие. Движения обрели слаженность, мысли четкость. «Вышвырнуть на повороте чемодан?! — Она аккуратно сняла очки и уложила их в бархатный мешочек, который носила вместо муфты. — Тогда пропадет главная улика, но «Пролетарий» станет добычей охранки…»
Голубева не оглядывалась, но слышала, как, то затухая, то нарастая, доносился конский топот. Вновь дотронулась до плеча извозчика в снежном эполете, протянула ему трешку. Глаза парня полыхнули смешком. Он поглубже надвинул цилиндр и заиграл кнутом. Сани полетели. Впереди у магазина купца Сыромятникова темнел огромный сугроб. За магазином начинались на полквартала проходные дворы. Сани набирали скорость, взвихряя снежную пыль. Мария Петровна поближе придвинулась к правому краю. Поворот. Крик извозчика, и Голубева, обхватив чемодан, выпрыгнула в сугроб. Снег ослепил, забился за воротник, холодил лицо, шею. Она слышала, как пронесся лихач… Тишина. Поднялась и скрылась в проходном дворе, волоча ушибленную ногу.
От размышлений ее отвлек окрик извозчика. Оглянулась. За ними гнался серый рысак в яблоках. Случайность?! Едва ли… Она тронула извозчика за плечо, беспечно попросила:
— Нас обгоняют! Не позволим…
Извозчик, молодой парень с рыжими усами, осклабился. Ременный кнут засвистел в воздухе. Снег повалил плотнее. Мария Петровна покрепче нахлобучила шапочку. Сани понеслись в снежный вихрь. В ушах свистел ветер. На повороте сани накренились, и Мария Петровна с трудом удержала равновесие. Теперь главная забота — чемодан. Она вцепилась в него, придавила коленями. Извозчик похохатывал в рыжую бороду. Кажется, оторвались. Нет, рано обрадовалась. Вновь по заезженной мостовой приглушенно застучали копыта. Извозчик гортанно крикнул и стеганул лошадь. «Да, слежка на лошадях самая страшная — от нее невозможно укрыться», — припомнились ей слова Эссен. И как всегда в минуты опасности, ею овладело спокойствие. Движения обрели слаженность, мысли четкость. «Вышвырнуть на повороте чемодан?! — Она аккуратно сняла очки и уложила их в бархатный мешочек, который носила вместо муфты. — Тогда пропадет главная улика, но «Пролетарий» станет добычей охранки…»
Голубева не оглядывалась, но слышала, как, то затухая, то нарастая, доносился конский топот. Вновь дотронулась до плеча извозчика в снежном эполете, протянула ему трешку. Глаза парня полыхнули смешком. Он поглубже надвинул цилиндр и заиграл кнутом. Сани полетели. Впереди у магазина купца Сыромятникова темнел огромный сугроб. За магазином начинались на полквартала проходные дворы. Сани набирали скорость, взвихряя снежную пыль. Мария Петровна поближе придвинулась к правому краю. Поворот. Крик извозчика, и Голубева, обхватив чемодан, выпрыгнула в сугроб. Снег ослепил, забился за воротник, холодил лицо, шею. Она слышала, как пронесся лихач… Тишина. Поднялась и скрылась в проходном дворе, волоча ушибленную ногу.
Над Петербургом нависли ранние зимние сумерки. В окнах горел свет. Мария Петровна, оставив чемодан на конспиративной квартире, подходила к дому. У тумбы топтался рабочий с Семянниковского завода. Свой. Паренек повыше поднял воротник. Просвистел, когда Мария Петровна проходила мимо, и равнодушно отвернулся. Слава богу, спокойно! С бьющимся от волнения сердцем она поднялась по отлогой лестнице. Позвонила, прислонившись к стене от усталости. Дверь распахнула Марфуша. В белой наколке на густых вьющихся волосах, в накрахмаленном фартуке. В ее глазах Мария Петровна прочла тревогу: — Так долго! Уже пятый час! Марфуша помогла снять шубу, ворчала, как обычно, когда волновалась. — Опять пристав заходил, интересовался: почему к барыне так много народа ходит? — Марфуша подняла белесые брови — Да это у барина был день рождения… — Смотри, Марфуша! Пристав задумал жениться! — пошутила Мария Петровна. — А что?! Возьму и выйду. Таких моржовых усов не сыскать во всем Питере, — прыснула Марфуша и, потрогав шубу, посерьезнела: — Мокрая совсем. Где это вас угораздило? — Целый день под снегом! Мария Петровна поправила волосы перед зеркалом, прошла в столовую. За круглым столом сидела Надежда Константиновна. Зеленый абажур мягко освещал нежный овал лица. Она казалась утомленной и усталой. Мария Петровна радостно протянула руки. Потом заторопилась к портьерам, задвинула их. — Так сложились обстоятельства, что завернула пораньше. — В больших глазах Крупской тревога. Марфуша принесла на подносе фарфоровую супницу, блестящий серебряный половник, тарелки. Постелила свежую скатерть и, не спрашивая разрешения, расставила закуски, разлила суп. От горячего супа поднимался приятный аромат. — Дети пообедали, словно знали, что вы задержитесь! — Марфуша разложила хлеб и, обернувшись в дверях, сказала — Позвоните. — Славная она. — Надежда Константиновна тихо отодвинула кожаный стул. — Давно живет? — Вместе приехали из Саратова. Девочки выросли на ее руках. Заботлива, как наседка. Сегодня сердита — переволновалась. — Думается, что вам на это время лучше не показываться в городе… — Надежда Константиновна не договорила. Глаза ее, лучистые, с золотистыми зрачками, выразительно остановились на собеседнице. Мария Петровна согласно кивнула головой. Она сразу поняла, о чем говорила Надежда Константиновна: «на это время» квартира стала штаб-квартирой Ленина. — Только в случае крайней необходимости, — помолчав, ответила Мария Петровна. — Лучше и без этого… — мягко заметила Надежда Константиновна. — Хотите послушать: «Как делается конституция»?
«Берут несколько «верных слуг отечества», несколько рот солдат и не жалея патронов. Всем этим нагревают народ, пока он не вскипит. Мажут его… по губам обещаниями. Много болтают до полного охлаждения и подают на стол в форме Государственной думы без народных представителей». — Крупская нахмурилась и закончила — Очень невкусно.
Мария Петровна, довольная, засмеялась. Крупская перевернула листовку, и опять послышался ее ровный голос:
Как составляют кабинет министров. Берут, не процеживая, несколько первых встречных, усиленно толкут, трут друг о друга до полной потери каждым индивидуальности, сажают в печь и подают горячими на стол, придерживаясь девиза: «Подано горячо, а за вкус не ручаюсь!»
— Молодцы! — посмеиваясь, отозвалась Мария Петровна, подкладывая гостье на тарелку закуски. — А чем вы встревожены? — Обстановка для Ильича в Петербурге весьма тягостная. Боюсь неожиданностей. Недавно переволновалась основательно. В одном из переулков между Мойкой и Фонтанкой состоялось собрание, туда и Ильича пригласили. Времени мало, я торопилась, а в переулке меня неожиданно встретил Бонч-Бруевич, нетерпеливый и встревоженный. «Поворачивайте. Засада. Слежка». У меня ноги подкосились. «А Ильич?» — «Ильич не приходил. Нужно перехватить его на подступах. Тут я кое-кого повстречал, разослал по переулкам… предупредите и вы, если сможете». Бонч-Бруевич пробежал, а у меня сердце замерло. А если не успеют предупредить, если проберется одному ему известными проходными дворами, если уже попал в засаду… Решила караулить. У Александрийского театра — шпики. Вдали сутулая спина Бонч-Бруевича. Он хитрил, заходил в магазин, устанавливал наблюдение, а Ильича нет. — Надежда Константиновна подняла усталое лицо. — Ноги замерзли, начался какой-то противный озноб… И вдруг Бонч-Бруевич, сияющий, улыбающийся. Сразу поняла — спасли… — Да, в столице становится все опаснее для Владимира Ильича, шпики за ним охотятся. — Мария Петровна с грустью взглянула на Надежду Константиновну и подумала: «Каково ей приходится…» — В своем проклятом далеке, в эмиграции, как часто мы мечтали о возвращении на родину! Когда началась революция, то еле паспортов дождались. В моем представлении Петербург был расцвечен красными флагами. А на Финляндском вокзале застала чопорную петербургскую чистоту. Курьез! Даже у извозчика спросила: не на станции ли Парголове вышла по ошибке? Извозчик уничтожил меня взглядом. — Надежда Константиновна закуталась в белый пуховый платок, прошлась по комнате. — Владимира Ильича очень нервирует эта жизнь по чужим квартирам, более того, мешает работать. А что делать?! Поначалу поселились легально на квартире, подысканной Марией Ильиничной. Шпики, как воронье, закружили. Хозяин всю ночь ходил с револьвером — решил защищаться при вторжении полиции. Ильич боялся, что попадем в историю, — переехали. Видимся урывками, вечные волнения… Хорошо, что удалось достать приличный паспорт. Была еще квартира где-то на Бассейной — вход через кухню, говорили шепотом… В голосе Надежды Константиновны звучала грусть. Конечно, устала от напряжения — обычно она никогда не жаловалась. — А это возвращение из Москвы! Подошла к дому, где жил Ильич, и ужаснулась — весь цвет столичной охранки. За собой я никого не привела. Значит, их привез Владимир Ильич! Действительно, в Москве переконспирировали: посадили его в экспресс перед самым отходом, дали финский чемодан и синие очки! Охранка всполошилась — экспроприатор! Они ходили по комнате обнявшись. Слабо потрескивали дрова в камине, вспыхивали огненными языками, сливаясь в ревущее пламя. Надежда Константиновна опустилась в низкое кресло, поставила ноги на чугунную решетку. Она прикрыла глаза рукой. Мария Петровна принесла с оттоманки расшитую подушку, закутала ее ноги пледом. До заседания ЦК оставалось полчаса. Мария Петровна радовалась, что она может предоставить отдых Надежде Константиновне, отбывавшей, по шутливым словам товарищей, «революционную каторгу».
— Разбита ли революция в России или мы переживаем лишь временное затишье?! Идет ли революционное движение на убыль или подготовляет новый взрыв?! — таковы вопросы, стоящие перед российскими социал-демократами. — Владимир Ильич, заложив правую руку в карман, обвел присутствующих долгим взглядом. — От этих вопросов неприлично отделываться общими фразами. Мы остаемся революционерами и в настоящий период. Кстати, легче предсказывать поражение революции в дни реакции, чем ее подъем! Надежда Константиновна неторопливо водила карандашом, наклонив голову. Откинулся в кресле Бонч-Бруевич, не отрывая от Владимира Ильича внимательных глаз. Облокотилась на стол Эссен, подперев подбородок рукой. Лицо ее с большими серыми глазами задумчиво и строго. Мария Петровна, положив перед собой очки, напряженно слушала. Шло заседание Центрального Комитета. В комнате тишина, только слышался громкий ход стенных часов да голос Владимира Ильича с хрипотцой. — Отношение к революции является коренным вопросом. Его-то в первую голову должен решить съезд. Или — или. Или мы признаем, что в настоящее время «о действительной революции не может быть и речи». — Голос Ильича, цитирующего меньшевиков, звучал неприкрытой издевкой. — Тогда должны во всеуслышание заявить об этом, снять вопрос о восстании, прекратить вооружение дружин, ибо играть в восстание недостойно рабочей партии. Или мы признаем, что можно и должно говорить о революции. Тогда партия обязана удесятерить усилия по вооружению рабочих дружин. Заседание Центрального Комитета партии продолжалось…
Семьдесят пятая комната
Декабрь 1917 года выдался студеный и вьюжный. По затихшим улицам проносились грузовики с вооруженными матросами. В снежных завалах утопали площади и улицы. Пугливо прятались обыватели в затемненных квартирах, и лишь Смольный в пламени костров резко выделялся среди мрачных громад. Мария Петровна торопилась, с трудом переставляя ноги в стоптанных валенках. Шуба ее, потертая и выношенная, грела плохо. Она прятала озябшие руки в муфту, болтавшуюся на витом шнуре. Морозно. Да и ходить из одного конца города в другой трудно. Пятьдесят шесть лет — возраст не малый. Ссутулилась, располнела, побелела голова. Только глаза остались молодыми, как твердили ее девочки. Девочки… Они уже выросли… Василий Семенович умер, не дожив до революции. Смерть его была тяжелым ударом — с тех пор начались сердечные приступы, старость… Сердце частенько прихватывало. Девочек жаль — волнуются. Ночь, темь, телефон не работает, врача не дозовешься, а тут… И все же целые дни она на митингах, собраниях, выступлениях. А сегодня ночью вызвал Бонч-Бруевич в Смольный. Предложил грузовик с матросами, чтобы подбросил по пути, но она отказалась. А теперь жалеет — путь по затихшему во враждебном молчании городу с одинокими вспышками выстрелов был не из легких. У Смольного часовой проверил пропуск, козырнул. Горящие костры выхватывали из темноты лица солдат и матросов, казавшиеся в зареве огней бронзовыми. Смольный жил напряженно: ухали широкие коридоры под тяжелыми шагами матросов, распахивались высокие двери, трещали телефоны, бегали дежурные с телеграфными лентами. Гремя оружием, промаршировал отряд матросов. Мария Петровна посторонилась. С удовольствием посмотрела им вслед — бравые, молодые. Вздохнула и толкнула дверь за номером семьдесят пять, куда ее вызывали. Семьдесят пятая комната с высокими сводчатыми потолками утопала в табачном дыму. На столе сидел Бонч-Бруевич, ее давнишний товарищ по подполью, обросший густой черной бородой. Поджав ногу, он нетерпеливо накручивал ручку телефона, гремел рычагом. За столом матрос, косая сажень в плечах, неумело одним пальцем выстукивал на машинке мандат, от усердия сдвинув на макушку бескозырку… Мария Петровна улыбнулась. На конторке, отгораживающей стол, лежали папки с делами. У распахнутого шкафа на корточках сидел солдат в папахе с красной полосой и просматривал бумаги. Неподалеку от двери на скамье застыли люди в добротных шубах с презрительными лицами и злыми взглядами. «Арестованные», — поняла Мария Петровна. Бонч-Бруевич поздоровался с ней и начал громко ругаться по телефону, угрожая кому-то революционным трибуналом. Временами для выразительности стучал кулаком по конторке. Мария Петровна никогда не видела его таким воинственным. Решив подождать окончания разговора, она подошла к буржуйке, приткнувшейся в средине комнаты, с уродливой черной трубой. Протянула озябшие руки, начала их растирать. Печь раскалилась почти докрасна, но тепла не ощущалось. Солдат с большими рыжими усами подбрасывал в буржуйку старые книги. На полу у печки пристроилось двое парнишек в промасленных тужурках. — Ироды! За три целковых купил вас длинногривый! — Солдат с рыжими усами с остервенением разорвал книгу, затолкал в печурку. — Так от серости нашей… От серости! — В два голоса забормотали парнишки. — К тому же деньги. — От серости… Деньги… — ворочая кочергой, передразнивал солдат. Кончики усов воинственно топорщились. — Контра — вот кто вы… Парнишки скривились. Солдат сунул им по ломтю черного хлеба, положил на телефонные книги тряпочку с солью, налил в кружки кипяток из помятого чайника. — Вот она, несознательность! — обратился солдат к Марии Петровне. — Присаживайтесь. Кипяточком побалуетесь! Мария Петровна уселась на телефонных книгах. Матрос сунул ей железную кружку, солдат плеснул кипяток. — Этих голубчиков привел в семьдесят пятую комнату я. — Солдат задымил махоркой, неумело отгоняя дым короткими пальцами. — Дело вот какое — на Выборгской появились листовки — Советскую власть предавали анафеме, грозили концом света, а большевиков приказывали расстреливать из-за угла. Подпись — патриарх Тихон! Думал, кто-то из длинно-гривых старается, а расклеивали эти паршивцы… — У солдата от гнева лицо побелело. «Паршивцы» захлюпали носами. — Один несет банку с клейстером, а другой — погань — нахлобучивал! Листовки я содрал, а этих за ушко да на солнышко… — Так все наша серость! — заскулил парнишка с огненными веснушками на курносом носу. — Пей, серый… Сироты… Нужно стервецам ума набраться, а Владимир Дмитриевич им мозги вправит. — Солдат уважительно посмотрел на Бонч-Бруевича, закончившего разговор. Бонч-Бруевич устало протер очки, опустился на корточки перед печью и прикурил. Лицо его, осунувшееся от бессонных ночей, подсвеченное огнем, как бы помолодело. — Как добрались, Мария Петровна? — Добралась, Владимир Дмитриевич! — Мария Петровна кивнула головой в сторону парнишек. — Посинели от холода. — Сидоров отпоит их чаем, а потом потолкуем… — ответил Бонч-Бруевич и добавил в раздумье: — Духовенство весь город наводнило своей пачкотней. Нужно добраться до их логова, уничтожить типографию. Парнишек поднял солдат, и они неохотно поплелись к столу Бонч-Бруевича, боязливо косясь на матроса, сидевшего за пишущей машинкой. — Может быть, сначала саботажников, Владимир Дмитриевич? — вступил в разговор матрос с маузером, охранявший арестованных в добротных шубах. — Саботажники подождут! — отрезал Бонч-Бруевич, водрузив очки, внимательно разглядывал бумаги, близоруко поднося их к глазам. — Откуда брали листовки?! Кто платил за расклейку?! Деньги, деньги от кого получали? — Дяденька давал. — Вперед выступил паренек с веснушками. — А дом помните?! Человека этого узнаете?! Парнишки молчали, опять захлюпали носами, переглянулись. — Не финтите, шкурники! — прикрикнул на них солдат. — Ишь переминаются… — На Нарвской заставе… У дяденьки этих листовок тьма-тьмущая. Он велел приходить утрами, чтобы ночами их расклеивать… — Сукины дети! — не вытерпел солдат. Бонч-Бруевич укоризненно поглядел на него, покачал головой. — Читать умеете? Грамотные? — поинтересовалась Мария Петровна. — Не… — замотали головами парнишки. — Стыдно такую гадость развешивать по городу. Вы что, банк или завод потеряли в революции? — Бонч-Бруевич засмеялся. — Сидоров, возьмите ребят, пускай покажут квартиру на Нарвской. Прощупайте, что за дом. — Есть прощупать! — Сидоров выкатил грудь, громыхнул винтовкой. — Пошли, «заводчики». — Подожди! Осторожно, там офицеры скрываются, могут оказать вооруженное сопротивление. Скоро товарищи из Петропавловки подойдут, тогда уж вместе. — Бонч-Бруевич почесал тонким карандашиком за ухом. И, заметив неудовольствие Сидорова, пояснил: — Матросы в двенадцать приедут за арестованными, с этим отрядом завернете по указанному адресу… Присматривай за парнишками — стрелять могут. Парнишки опять пристроились у «буржуйки». Мария Петровна расстегнула пуговицы на шубе, подсела поближе к Бонч-Бруевичу. — Речь идет о работе в Чрезвычайной комиссии. После декрета об аресте руководителей партии кадетов и объявлении ее вне закона обнаружено гнездо заговора. Если вдуматься, то нити идут далеко. — Бонч-Бруевич нетерпеливо забарабанил по крышке стола. — Среди арестованных великие князья Романовы. Нужно провести следствие; если они причастны, то предать суду. — Боже мой! Романовы в Петропавловке! — простонал кто-то из сидящих на скамье арестованных. — А если он участник заговора? — зло прикрикнул конвоир и приказал: — Арестованный, не разговаривать! Саботажник проклятый! Мария Петровна улыбнулась. Сняла очки, нерешительно повертела муфту: — Владимир Дмитриевич! В следственных органах я не работала и процессуальных норм не знаю. — Знаете — и под арестом были, и ссылку отбывали, а уж допросов… Да и что осталось от старых процессуальных норм?! Чрезвычайную комиссию будет возглавлять Феликс Эдмундович Дзержинский, в дальнейшем дело придется иметь с ним. Борьба с контрреволюцией стала фронтом. Нужны самые решительные, твердые, готовые на любое испытание-Выбор пал на вас! — Сложно… Очень сложно! Ведь идут ва-банк! «Из подследственной превратиться в следователя, из обвиняемой в обвинителя! — раздумывала она. — Законы… Юридические нормы… Что ж, партийная совесть будет главным законом». Бонч-Бруевич опять накручивал телефонный аппарат. Громко спорил, требовал остановить где-то разгром водочного завода, ликвидировать офицеров, обстреливающих с чердаков Невский. Затем долго молчал, слушал и неожиданно закончил: — Дайте ему шампанского. Черт с ним! Бонч-Бруевич с сердцем положил трубку на высокий рычаг и устало поднял глаза на Марию Петровну: — Великий князь в Петропавловке требует шампанского и ананасов! Представляете — требует! Дверь широко распахнулась. Ввалился моряк, опоясанный пулеметными лентами. За ним — трое в черных бушлатах. Громыхнули ружья. Моряк козырнул и начал отбирать дела на арестованных. — Срочно к путиловцам. Там разносят водочный завод… Рабочий отряд не справляется с мародерами… Потом завернете снова в Смольный, возьмете парнишек и нагрянете на тайники духовенства, а уж затем отвезете арестованных в Петропавловку. — Бонч-Бруевич торопливо водил карандашом по книжечке. — А контру прихватить? — переспросил матрос, тряхнув кудрявым чубом. — Стоило бы… Но тем самым большевики наденут на попов венец мученичества. — Бонч-Бруевич забарабанил пальцами. Мария Петровна знала эту привычку. — Большевики арестовали священников! Какой вой поднимет белая пресса! А в глазах верующих прохвосты станут страдальцами! Нет, не будем… Но всех, кого святые ханжи пошлют на борьбу с Советской властью, арестуем! И народу раскроем имя подлинного виновника! — Что ж, товарищи! Пошли! — Мария Петровна положила браунинг в широкий карман шубы и направилась следом за матросами.— Вы готовы учинить самосуд над особой императорской фамилии! Готовы расстрелять меня! Вся Европа с омерзением следит за бесчинствами большевиков. — Князь обрезал ножницами кончик сигары. По камере расползался сладковатый запах дорогого табака, от которого у Марии Петровны кружилась голова. Впрочем, голова кружилась и от недоедания. Ей был антипатичен этот выхоленный седоусый человек. Великий князь напоминал Александра III — огромный, русоголовый, с крупными чертами лица. Длинные породистые пальцы сверкали отполированными ногтями, временами он их подтачивал пилкой, нарочито подчеркивая неуважение и пренебрежение к тому, что происходило в камере Петропавловской крепости. Мария Петровна, в черном строгом платье, обводила глазами камеру. В углу ящики с консервами, плетеные корзины с винами, желтый чемодан с шерстяными вещами. Ближе к окну письменный стол, непонятно каким образом очутившийся здесь, полумягкое кресло. Очевидно,кто-то из оставшихся чинов старался угодить представителю Романовых.
 — Я разговариваю с вами потому, что лишен в этих стенах другого общества. Адъютант порядком прискучил, а матросня… Вы — интеллигентка. — Князь начал словоохотливо, очевидно, скучал в Петропавловке. — К своему заключению отношусь как к досадному недоразумению. Я глубоко презираю большевиков и не верю, что ваша власть продержится больше трех недель…
— Прогноз устарел! За три недели давненько перевалило! — спокойно прервала его Мария Петровна.
— Гм… Английский король, кайзер да весь миропорядок не допустят существования большевизма! Вас вздернут на первом фонаре, конечно, если я не замолвлю словечка! — Князь захохотал, довольный остротой. — Мы, Романовы, помним добро…
— Довольно! Наслушалась благоглупостей! — Мария Петровна резко откинулась в кресле. — Власть большевики взяли надолго, а милостями Романовых народ сыт… Сыта и я!
Мария Петровна говорила не спеша, старалась не показать своего раздражения. К тому же ей отчаянно нездоровилось: сердце покалывало после бессонной ночи. Казалось, в камере недостает воздуха, а тут сладковатый запах сигары…
— Бедствия народа всегда оставались бедствиями царствующего дома, — осторожно заметил князь, приглядываясь к своему следователю.
— Я была на Дворцовой площади в день Кровавого воскресенья. Видела все.
— Нашей семье пришлось многое пережить за последнее время: после отречения государя от престола мне довелось жить в Царском Селе. Николай Александрович вернулся из Могилева после прощания с войсками постаревшим. Он рвался в Царское Село… к супруге, к детям, а дети были больны и находились в темных комнатах.
— У детей корь, поэтому и темные комнаты. Драмы здесь нет. Впрочем, вы это знаете лучше меня. — Мария Петровна взглянула на князя. — Именно в эти дни хотели ввести казачьи части в Петроград. Надеялись остановить, а вернее, задушить революцию!
— Конечно, если бы удалось подавить революцию в Петербурге, то воцарился бы мир на всей Руси. Все зло в столице! — Великий князь забарабанил по золотому портсигару. — Россия верна царскому престолу. Нужен сильный человек…
— Иными словами — заговор и диктатор! Кстати, о Керенском… Его тоже считали сильным человеком. По иронии судьбы социал-революционер Керенский опекал Романовых! Верховнокомандующий Керенский превратился в «главноуговаривающего»! Только дела на фронте лучше не шли. Впрочем, это запоздалый урок истории…
— Нет, этот урок я хочу продолжить. «Дела на фронте лучше не шли», — с неожиданной страстностью повторил князь. — А виноваты в этом большевики. Войска отходили с позиций не под напором врага, а из-за пораженческих идей большевизма!
— Война изжила себя! Временное правительство ввело смертную казнь на фронте…
— Смертную казнь вводить нужно было сразу. Распустили подлецов: быдло вообразило себя гражданами! Учредительное собрание! — Князь кричал, не владея собой, правая щека нервно подергивалась. — Конституция…
Мария Петровна иронически посматривала поверх очков на представителя Романовых — этакое ничтожество!
— Об Учредительном собрании заговорили Романовы.
— А что делать?! Союзники наши…
— Союзники… — перебила его Мария Петровна, поудобнее устраиваясь в кресле. — Союзникам Романовы готовились уступить Россию до Урала, лишь бы удержать престол. А народ…
— Народ?! — вскипел великий князь. — Мария Федоровна, вдовствующая императрица, отдала ему жизнь… Попечительство и благотворительность… Воспитательные дома… Приюты… Богадельни…
— Попечение о народе в рамках благотворительности. Мария Федоровна позерка: письма с траурной каймой, черные конверты, трогательные подписи «грустной мамы»… Но советы ее Николаю во время спора с Керенским об императорских землях весьма характерны. — Мария Петровна устало провела рукой по седым волосам. — А ведь Керенский был сторонником плана высылки царствующего дома в Англию. Нельзя гневить судьбу — Керенский делал все, что только возможно…
— Вы хорошо осведомлены! — Великий князь щелкнул зажигалкой — смеющийся уродец выплюнул огненный язычок.
— Осведомлена. Готовилась к допросу, просмотрела письма, отобранные у Николая. Кстати, — там и письма «грустной мамы». Не ручаюсь за дословное воспроизведение, но смысл достаточно точен: народ именуется свиньями, забота о царских прибылях — в выражениях непристойных!
— Царское есть царское! Мария Федоровна отстаивала принцип.
— Царское?! Шла купля-продажа с Керенским. Большевики попросту национализировали земли — и спора нет!
— Грабеж! Россия без царя не проживет…
— Причем без царя пронемецкой ориентации! — зло парировала Мария Петровна. — Россия обойдется без царя, без Учредительного собрания, на которое возлагаются такие надежды.
— Как временная мера возможно и Учредительное собрание…
— Вы левеете на глазах, — усмехнулась Мария Петровна.
— Мало вас вешали, мало вас истребляли! — Романов поднялся во весь рост, зло ударил кулаком по столу.
Матрос, неподвижно стоявший у двери, щелкнул затвором, посмотрел на Марию Петровну. Великий князь нехорошо выругался, отшвырнул ногой пустую бутылку. «Нужно сказать коменданту, чтобы навел в камере порядок. Нас с таким комфортом в тюрьмах не держали. У Заичневского следы от кандалов остались на всю жизнь».
— Садитесь, арестованный! Вам предъявляется обвинение в подготовке контрреволюционного мятежа, в связях с генералом Калединым, в участии в террористических актах. — Мария Петровна поплотнее укрепила очки и начала вести протокол допроса.
— На каком основании?!
— Вопросы задаю от имени Советской власти я, и потрудитесь отвечать на них точно.
В камере Петропавловской крепости Мария Петровна начала допрос.
— Я разговариваю с вами потому, что лишен в этих стенах другого общества. Адъютант порядком прискучил, а матросня… Вы — интеллигентка. — Князь начал словоохотливо, очевидно, скучал в Петропавловке. — К своему заключению отношусь как к досадному недоразумению. Я глубоко презираю большевиков и не верю, что ваша власть продержится больше трех недель…
— Прогноз устарел! За три недели давненько перевалило! — спокойно прервала его Мария Петровна.
— Гм… Английский король, кайзер да весь миропорядок не допустят существования большевизма! Вас вздернут на первом фонаре, конечно, если я не замолвлю словечка! — Князь захохотал, довольный остротой. — Мы, Романовы, помним добро…
— Довольно! Наслушалась благоглупостей! — Мария Петровна резко откинулась в кресле. — Власть большевики взяли надолго, а милостями Романовых народ сыт… Сыта и я!
Мария Петровна говорила не спеша, старалась не показать своего раздражения. К тому же ей отчаянно нездоровилось: сердце покалывало после бессонной ночи. Казалось, в камере недостает воздуха, а тут сладковатый запах сигары…
— Бедствия народа всегда оставались бедствиями царствующего дома, — осторожно заметил князь, приглядываясь к своему следователю.
— Я была на Дворцовой площади в день Кровавого воскресенья. Видела все.
— Нашей семье пришлось многое пережить за последнее время: после отречения государя от престола мне довелось жить в Царском Селе. Николай Александрович вернулся из Могилева после прощания с войсками постаревшим. Он рвался в Царское Село… к супруге, к детям, а дети были больны и находились в темных комнатах.
— У детей корь, поэтому и темные комнаты. Драмы здесь нет. Впрочем, вы это знаете лучше меня. — Мария Петровна взглянула на князя. — Именно в эти дни хотели ввести казачьи части в Петроград. Надеялись остановить, а вернее, задушить революцию!
— Конечно, если бы удалось подавить революцию в Петербурге, то воцарился бы мир на всей Руси. Все зло в столице! — Великий князь забарабанил по золотому портсигару. — Россия верна царскому престолу. Нужен сильный человек…
— Иными словами — заговор и диктатор! Кстати, о Керенском… Его тоже считали сильным человеком. По иронии судьбы социал-революционер Керенский опекал Романовых! Верховнокомандующий Керенский превратился в «главноуговаривающего»! Только дела на фронте лучше не шли. Впрочем, это запоздалый урок истории…
— Нет, этот урок я хочу продолжить. «Дела на фронте лучше не шли», — с неожиданной страстностью повторил князь. — А виноваты в этом большевики. Войска отходили с позиций не под напором врага, а из-за пораженческих идей большевизма!
— Война изжила себя! Временное правительство ввело смертную казнь на фронте…
— Смертную казнь вводить нужно было сразу. Распустили подлецов: быдло вообразило себя гражданами! Учредительное собрание! — Князь кричал, не владея собой, правая щека нервно подергивалась. — Конституция…
Мария Петровна иронически посматривала поверх очков на представителя Романовых — этакое ничтожество!
— Об Учредительном собрании заговорили Романовы.
— А что делать?! Союзники наши…
— Союзники… — перебила его Мария Петровна, поудобнее устраиваясь в кресле. — Союзникам Романовы готовились уступить Россию до Урала, лишь бы удержать престол. А народ…
— Народ?! — вскипел великий князь. — Мария Федоровна, вдовствующая императрица, отдала ему жизнь… Попечительство и благотворительность… Воспитательные дома… Приюты… Богадельни…
— Попечение о народе в рамках благотворительности. Мария Федоровна позерка: письма с траурной каймой, черные конверты, трогательные подписи «грустной мамы»… Но советы ее Николаю во время спора с Керенским об императорских землях весьма характерны. — Мария Петровна устало провела рукой по седым волосам. — А ведь Керенский был сторонником плана высылки царствующего дома в Англию. Нельзя гневить судьбу — Керенский делал все, что только возможно…
— Вы хорошо осведомлены! — Великий князь щелкнул зажигалкой — смеющийся уродец выплюнул огненный язычок.
— Осведомлена. Готовилась к допросу, просмотрела письма, отобранные у Николая. Кстати, — там и письма «грустной мамы». Не ручаюсь за дословное воспроизведение, но смысл достаточно точен: народ именуется свиньями, забота о царских прибылях — в выражениях непристойных!
— Царское есть царское! Мария Федоровна отстаивала принцип.
— Царское?! Шла купля-продажа с Керенским. Большевики попросту национализировали земли — и спора нет!
— Грабеж! Россия без царя не проживет…
— Причем без царя пронемецкой ориентации! — зло парировала Мария Петровна. — Россия обойдется без царя, без Учредительного собрания, на которое возлагаются такие надежды.
— Как временная мера возможно и Учредительное собрание…
— Вы левеете на глазах, — усмехнулась Мария Петровна.
— Мало вас вешали, мало вас истребляли! — Романов поднялся во весь рост, зло ударил кулаком по столу.
Матрос, неподвижно стоявший у двери, щелкнул затвором, посмотрел на Марию Петровну. Великий князь нехорошо выругался, отшвырнул ногой пустую бутылку. «Нужно сказать коменданту, чтобы навел в камере порядок. Нас с таким комфортом в тюрьмах не держали. У Заичневского следы от кандалов остались на всю жизнь».
— Садитесь, арестованный! Вам предъявляется обвинение в подготовке контрреволюционного мятежа, в связях с генералом Калединым, в участии в террористических актах. — Мария Петровна поплотнее укрепила очки и начала вести протокол допроса.
— На каком основании?!
— Вопросы задаю от имени Советской власти я, и потрудитесь отвечать на них точно.
В камере Петропавловской крепости Мария Петровна начала допрос.
На конспиративной квартире
Дождь барабанил по стеклу. Громко. Надсадно. Мария Петровна стояла у окна, закутавшись в пуховый оренбургский платок. Глаза ее тоскливо смотрели на улицу, залитую дождем. Вот она, осень. Холодный ветер, нахохлившиеся птицы, тягучий мелкий дождь. В серое небо вписывались уцелевшие листья. Растягивались облака, окутывая золотой крест близлежавшей церквушки. А кругом невысокие дома, так отличающиеся от петербургских громад. Москва, вновь Москва, куда она переехала в этот трудный и голодный 1919 год. Настенные часы отбили двенадцать. Железная кукушка выпрыгнула на резное крылечко и смешно замахала крылышками. Часы появились в квартире недавно, и Мария Петровна все еще не могла привыкнуть к их громкому бою. Два. Кукушка замерла. Лишь хвост продолжал раскачиваться. Пора собираться. Сегодня она назначила встречу на Гоголевском бульваре Юрику, с которым не виделась второй месяц. Мальчик тосковал, не понимая, почему ушла из дома мать… Ушла… Вновь ушла! Леля и Катя выросли, хотя для матери они оставались все еще детьми. А вот Юрик?! Юрику только тринадцать. Он был младшим — вся материнская любовь, вся нежность принадлежала ему одному. С Юриком связаны последние воспоминания о муже. Он так хотел сына. Юрик родился, когда Василий Семенович отбывал в «Крестах» заключение за опубликование в газете статьи, попавшей под запрет цензуры. Тогда при свидании в тюрьме у Василия Семеновича на глазах выступили слезы. Сын! Как нежно поцеловал он ее, осунувшуюся после родов, как жадно прижал маленькое тельце мальчика, даже глаза, тоскливые и задумчивые, заблестели молодо. И только когда под пикейным одеяльцем нащупал письма, их следовало передать в тюрьму, лицо его болезненно скривилось. Упрекать жену после родов не хватило сил, но понять он также не мог. «Зачем? — спросил свистящим шепотом, улучив момент, когда надзиратель отошел в дальний угол свиданной комнаты. — Сына-то, сына-то пожалей… Меня не берегла, девочек… Теперь вот и крошку… — Худое лицо его стало жалким, тонкими пальцами смахнул слезы и с неожиданной страстью закончил: — Я скоро умру… Сердце ни к черту! Ты никогда не считалась со мной! Прошу об одном — сбереги сына… Пускай по земле пошагает Юрий Васильевич Голубев…». Вскоре после этого разговора муж умер, оставив ее одну с детьми, слова же его всегда отдавались в груди щемящей болью. Детей она старалась беречь: все дорогое, заветное — им одним, особенно Юрику. Да и девочки к малышу относились нежно, ласково. Юрик удивительно напоминал ей мужа, такой же впечатлительный, кроткий. И вот пришлось оставить его в такие тревожные дни одного.
Дождь припустился сильнее, прикрывая мокрой пеленой стекло. Мария Петровна все еще стояла у окна и волновалась. Неужели не перестанет дождь, как же тогда быть со встречей? От старшей дочери она знала, что Юрик прихварывал, голодал, а главное — скучал. Она решила встретиться, чтобы успокоить мальчика. Дни стояли сухие, освещенные последним солнцем, а сегодня — ливень… Досадливо наморщив лоб и сбросив платок, начала натягивать пальто, поглядывая на кушетку, атласную, громоздкую, затканную серебром. На резной спинке выделялись медальоны с львиными головами и танцующими нимфами — кушетка из царских покоев. Да и вся обстановка комнаты до сих пор вызывала удивление: дорогие вещи, уникальные картины, бронза, хрусталь. Комендант Кремля явно не поскупился, когда вывозил их из царских палат. Даже, к ее великому удивлению, оказались простыни с царскими монограммами!
Голубева вновь готовилась перейти в подполье. Теперь она — крупная дворянка, ограбленная и обездоленная большевиками. Мария Петровна видела, как блеснули глаза у старого чиновника, подселенного в ее квартиру по ордеру. Он долго пожимал руку, сказав, что сразу почувствовал в ней человека своего круга, ругательски ругал новую власть, большевиков, расспрашивал об имении, которое она потеряла где-то на Херсонщине, доверительным шепотком передал, что Деникин не сегодня так завтра займет Москву. Она удивленно приподняла брови, ничего не сказала. Чиновник размашисто перекрестился. Да, Деникин угрожал Москве! Это Мария Петровна знала лучше чиновника. По улицам маршировали рабочие отряды, плотное кольцо стягивалось все туже вокруг города.
Москву готовились защищать. Организовывался второй фронт: возникали конспиративные квартиры, разрабатывали пароли, явки, создавались склады с оружием. В Центральном Комитете партии возглавлять подпольную сеть в случае необходимости поручили Марии Петровне, хозяйке столь многих конспиративных квартир! Вот почему она оказалась в этом барском неуютном доме, вот почему пришлось уйти из семьи, порвать связь с детьми. Как солдат, она уже на передовой… Всю дорогу от Старо-Конюшенного до Пречистенского бульвара, где назначена встреча, торопилась. Понимала, что время есть, но справиться с собой не могла. Дождь затихал, и по желобам журчала вода. Проглянуло солнце, и по лужам запрыгали солнечные зайчики. От арбатской мостовой, выложенной крупным булыжником, поднимался пар. Дома, умытые дождем, помолодели. На заколоченных парадных подъездах белели обращения за подписью Дзержинского. Мария Петровна остановилась и быстро пробежала глазами:
Настенные часы отбили двенадцать. Железная кукушка выпрыгнула на резное крылечко и смешно замахала крылышками. Часы появились в квартире недавно, и Мария Петровна все еще не могла привыкнуть к их громкому бою. Два. Кукушка замерла. Лишь хвост продолжал раскачиваться. Пора собираться. Сегодня она назначила встречу на Гоголевском бульваре Юрику, с которым не виделась второй месяц. Мальчик тосковал, не понимая, почему ушла из дома мать… Ушла… Вновь ушла! Леля и Катя выросли, хотя для матери они оставались все еще детьми. А вот Юрик?! Юрику только тринадцать. Он был младшим — вся материнская любовь, вся нежность принадлежала ему одному. С Юриком связаны последние воспоминания о муже. Он так хотел сына. Юрик родился, когда Василий Семенович отбывал в «Крестах» заключение за опубликование в газете статьи, попавшей под запрет цензуры. Тогда при свидании в тюрьме у Василия Семеновича на глазах выступили слезы. Сын! Как нежно поцеловал он ее, осунувшуюся после родов, как жадно прижал маленькое тельце мальчика, даже глаза, тоскливые и задумчивые, заблестели молодо. И только когда под пикейным одеяльцем нащупал письма, их следовало передать в тюрьму, лицо его болезненно скривилось. Упрекать жену после родов не хватило сил, но понять он также не мог. «Зачем? — спросил свистящим шепотом, улучив момент, когда надзиратель отошел в дальний угол свиданной комнаты. — Сына-то, сына-то пожалей… Меня не берегла, девочек… Теперь вот и крошку… — Худое лицо его стало жалким, тонкими пальцами смахнул слезы и с неожиданной страстью закончил: — Я скоро умру… Сердце ни к черту! Ты никогда не считалась со мной! Прошу об одном — сбереги сына… Пускай по земле пошагает Юрий Васильевич Голубев…». Вскоре после этого разговора муж умер, оставив ее одну с детьми, слова же его всегда отдавались в груди щемящей болью. Детей она старалась беречь: все дорогое, заветное — им одним, особенно Юрику. Да и девочки к малышу относились нежно, ласково. Юрик удивительно напоминал ей мужа, такой же впечатлительный, кроткий. И вот пришлось оставить его в такие тревожные дни одного.
Дождь припустился сильнее, прикрывая мокрой пеленой стекло. Мария Петровна все еще стояла у окна и волновалась. Неужели не перестанет дождь, как же тогда быть со встречей? От старшей дочери она знала, что Юрик прихварывал, голодал, а главное — скучал. Она решила встретиться, чтобы успокоить мальчика. Дни стояли сухие, освещенные последним солнцем, а сегодня — ливень… Досадливо наморщив лоб и сбросив платок, начала натягивать пальто, поглядывая на кушетку, атласную, громоздкую, затканную серебром. На резной спинке выделялись медальоны с львиными головами и танцующими нимфами — кушетка из царских покоев. Да и вся обстановка комнаты до сих пор вызывала удивление: дорогие вещи, уникальные картины, бронза, хрусталь. Комендант Кремля явно не поскупился, когда вывозил их из царских палат. Даже, к ее великому удивлению, оказались простыни с царскими монограммами!
Голубева вновь готовилась перейти в подполье. Теперь она — крупная дворянка, ограбленная и обездоленная большевиками. Мария Петровна видела, как блеснули глаза у старого чиновника, подселенного в ее квартиру по ордеру. Он долго пожимал руку, сказав, что сразу почувствовал в ней человека своего круга, ругательски ругал новую власть, большевиков, расспрашивал об имении, которое она потеряла где-то на Херсонщине, доверительным шепотком передал, что Деникин не сегодня так завтра займет Москву. Она удивленно приподняла брови, ничего не сказала. Чиновник размашисто перекрестился. Да, Деникин угрожал Москве! Это Мария Петровна знала лучше чиновника. По улицам маршировали рабочие отряды, плотное кольцо стягивалось все туже вокруг города.
Москву готовились защищать. Организовывался второй фронт: возникали конспиративные квартиры, разрабатывали пароли, явки, создавались склады с оружием. В Центральном Комитете партии возглавлять подпольную сеть в случае необходимости поручили Марии Петровне, хозяйке столь многих конспиративных квартир! Вот почему она оказалась в этом барском неуютном доме, вот почему пришлось уйти из семьи, порвать связь с детьми. Как солдат, она уже на передовой… Всю дорогу от Старо-Конюшенного до Пречистенского бульвара, где назначена встреча, торопилась. Понимала, что время есть, но справиться с собой не могла. Дождь затихал, и по желобам журчала вода. Проглянуло солнце, и по лужам запрыгали солнечные зайчики. От арбатской мостовой, выложенной крупным булыжником, поднимался пар. Дома, умытые дождем, помолодели. На заколоченных парадных подъездах белели обращения за подписью Дзержинского. Мария Петровна остановилась и быстро пробежала глазами:
…Сейчас, когда орды Деникина пытаются прорваться к центру Советской России, шпионы Антанты и казацкого генерала готовили восстание в Москве. Как в свое время на Петербургском фронте, они сдали Красную Горку и чуть было не сдали Кронштадта и Питера, так теперь они пытались открыть врагу ворота на Москву. Они очень торопились, эти негодяи. Они даже подготовили «органы власти» на случай своего успеха, и их продавшийся англичанам «Национальный центр» должен был бы вынырнуть на поверхность, как только генеральская заговорщическая организация взяла бы Москву. Но изменники и шпионы просчитались! Их схватила за шиворот рука революционного пролетариата и сбросила в пропасть, откуда нет возврата… Всероссийская Чрезвычайная комиссия обращается ко всем товарищам рабочим и крестьянам: Товарищи! Будьте начеку! Стойте на страже Республики днем и ночью. Враг еще не истреблен целиком. Не спускайте с него своих глаз! Всероссийская Чрезвычайная комиссия обращается к остальным гражданам: Граждане! Знайте, что пролетариат стоит на своем посту. Знайте, что всякий, кто посягнет на Республику пролетариата, будет истреблен без всякой пощады! На войне как на войне. За шпионаж, пособничество к шпионажу, участие в заговорщической организации будет только одна мера наказания: расстрел… 23 сентября 1919 года. Дзержинский.
«На войне как на войне», — повторила она слова воззвания и вышла на Арбатскую площадь. На гранитном постаменте, наклонив голову, сидел Гоголь. По каменному лицу сбегали капли дождя. Широко раскинули ветви тополя с пожелтевшими листьями, темнели набухшими стволами. По привычке заложив руки за спину, Мария Петровна медленно побрела вдоль бульвара, тяжело вороша мокрый лист. Бульвар оживал. Высыпали обычные посетители — кормилицы в плюшевых жакетах, детишки в ярких капорах. Мальчики старательно запускали корабли в лужи, мерили ботинками их глубину. Женщина мягко улыбалась. И опять ее мысли вернулись к детям, теперь уже собственным: не мало ли радости принесла своим детям, не мало ли времени уделяла им, не мало ли заботилась о них. Ее первенец, Таня, умерла шести месяцев от роду. Они жили тогда в Смоленске: она под гласным надзором, а Василий Семенович вернулся после ссылки из Сибири. Без денег и без работы. Комнату сняли при местной больнице, кашлял Василий Семенович отчаянно, и она боялась за жизнь его. В больнице платили гроши. А тут роды… Роды принимала Мария Эссен, дружба с которой прошла через лучшие годы. Девочка умерла от менингита, не спасла ее материнская любовь. А потом родилась в Саратове Леля, а через два года — Катя. Обыски в доме Голубевых шли один за другим, переворачивали весь дом, и лишь детскую осматривали поверхностно. Она запрятывала листовки и прокламации в детские кроватки, тонкие листы с адресами и явками — в кукольные головки. Как часто ночами стояла Леля в длинной рубашке, прижимая к груди куклу! И вдруг вспомнила пароход со смешным названием «Милосердие». Пришел транспорт «Искры». В каюте — Эссен, за ней шла слежка. Нужно было спасти нелегальщину. И Мария Петровна решилась. Одела девочек в нарядные плюшевые пальтишки и повела на пристань. Солнечным днем поднималась она к Эссен по шатким сходням, а в каюте в двойную подкладку детских пальто рассовала листовки, обвязалась нелегальщиной и сама. Катя попробовала сбежать, зацепилась, едва не упала, городовой с торчащими усами приподнял девочку, снял со сходней. У Марии Петровны екнуло сердце, невозмутимая Эссен побледнела, и лишь Катя, довольная, перебирала в воздухе ножонками. И в другой раз спасли девочки. Сенат приговорил Эссен к каторге, затем каторгу заменили долгосрочной ссылкой. В ссылку Эссен идти не хотела. «Работы невпроворот, а здесь ссылка!» — писала она Марии Петровне из тюрьмы. Надо было организовывать побег. Тюремный режим пересыльной тюрьмы строг: свидания давались в исключительных случаях и непременно в присутствии надзирателей. Все попытки передать нужные для побега вещи заканчивались неудачей. Тогда в комнате свиданий под видом родственницы появилась Мария Петровна с девочками. Свиданная оказалась небольшой, полутемной. Надзирательница, пожилая женщина с тяжелым взглядом, угрюмо молчала. И в этой свиданной — ее девочки в пестрых батистовых платьях, похожие на бабочек. Леля держала в руках букет, а Катя — куклу. На резную дубовую скамью уселись рядышком: Эссен, семилетняя Леля, Мария Петровна, Катя. Болтушка Катя завела разговор с надзирательницей. Мария Петровна видела, как разглаживалось лицо угрюмой женщины, как ожила улыбка. Ба, надзирательница уже завязывала бант на завитых кукольных волосах. И тогда наступило главное — Леля протянула Эссен букет. В букете — кинжал, о нем так просила Эссен. Словно в полусне, Мария Петровна увидела, как Эссен взяла букет, прижала к груди девочку, поцеловала. В ее больших серых глазах — напряжение, она понимала, кем рисковала подруга. И вновь обостренно прислушивается Мария Петровна к разговору Кати с надзирательницей. Быстрый детский лепет и неторопливые вразумительные слова надзирательницы. Осталось передать плед, начиненный, словно пирог, явками, деньгами, она его держала на коленях. Предусмотрено все, что потребуется Эссен, прежде чем удастся скрыться за границу. Мария Петровна протягивает плед надзирательнице, боясь возбудить подозрения и в душе надеясь на удачу. Катя капризно отпихивает плед, громко смеется, глядя, как надзирательница укачивает куклу. Правда, забавно. Топорщилось платье из грубого сукна, задрались ботинки кургузыми носами, женщина раскачивалась всем телом, крупной ладонью прихлопывая по воздушным оборкам. Плед проверять не стала, кивнула головой — чего, мол! Глаза подруг встретились, на плечо Марии Петровны легла теплая ладонь — Эссен благодарно улыбнулась. И опять не по-детски серьезное лицо Лели, и опять оживленный смех Кати… Ее девочки! …Шагает по бульвару Мария Петровна, ворошит сырой осенний лист, будто переворачивает страницы своей многотрудной жизни. Был и еще один сын. Он умер, когда она строила баррикады у путиловцев в девятьсот пятом. С каким укором смотрел на нее Василий Семенович: не уберегла, не уберегла… Она и сама плакала… Юрика она увидела сразу, как только он подошел к памятнику Гоголю. Немного поодаль Леля… Ба, Катя! Они не здороваются с матерью, делают вид, что не замечают ее. Милые мои девочки! Юрик проводит рукой по тяжелым цепям, обхватившим памятник. Серый башлык сползает ему на глаза. — Юрик! — почти беззвучно шепчет Мария Петровна, пытаясь подавить волнение. — Юрик! Мальчик поворачивается и кидается в ее объятия. Она проводит рукой по мокрому от слез лицу, сжимает худенькие плечи, чувствует, как они содрогаются от рыданий. Горький ком подкатывается к горлу. Она не плачет, нет, лишь хмурится и покрепче прижимает сына. — Полно… Успокойся, мой мальчик! — Мария Петровна увлекает его на скамью. — Сырость разводишь, а на бульваре и так мокро! Смотри, как воробышки радуются солнышку. День-то какой! Мария Петровна старается отвлечь мальчика, но Юрик качает головой и судорожно целует ее руки. В синих глазах — слезы крупными горошинами. Слезы огорчают ее — единственному сыну вновь причиняет боль! — Ты приехала, мамочка?! Приехала?! Больше не расстанемся?! — Синие глаза с надеждой смотрят на мать. — Приехала… Только придется вновь уехать! — Детям она никогда не говорила неправду и, тяжело вздохнув, повторила: — Придется… — Но почему?! Почему?! — Нужно, сынок! — Она гладит его по плечу, тормошит челку волос. — Расскажи лучше, как живешь. Ты воблу получил? Мой подарок… А в столовой какой суп берешь, «без ничего» или «ни с чем»? Юрик смеется. Спор взрослых в совнаркомовской столовой о супе, сваренном из воблы и тощих горошин, всегда веселил его. Мария Петровна это знала и обрадовалась его радости. — Один день беру «суп без ничего», а другой «суп ни с чем». Теперь смеется и Мария Петровна, удивляясь, как забавно звучат слова Бонч-Бруевича в устах мальчика. — Ты береги себя, Юрик. Я в трудной дороге, но известия о тебе получаю, и мне будет больно, если с тобой что-нибудь случится. Так-то, сынок… Слушайся Лелю и Катю… Может быть, тебе с ними придется скоро уехать… — А ты? — перебил ее Юрик. — Ты как же?! — Зачем задавать вопросы, на которые нельзя ответить?! — возразила Мария Петровна и, заметив, как насупился мальчик, попыталась его успокоить: — Через недельку увидимся… Непременно, Юрик… Теперь иди, пора! Юрик прижался к ней сильнее, обхватив шею матери, закачал головой. Из глаз закапали слезы. Мария Петровна укоризненно взглянула, решительно отстранила и глухо повторила: — Пора!
Последний караул
Когда я стояла в течение нескольких часов в последний раз на Красной площади вблизи гроба Владимира Ильича и передо мной мелькали вереницы процессий, с поразительной ясностью и отчетливостью встал в моем воображении во весь свой гигантский рост образ этого великого и вместе с тем такого простого, хорошего человека. Более чем когда-либо для меня стало ясно, что двадцатилетний юноша Ульянов (каким я его знала) и великий вождь всемирного рабочего движения Ленин — все тот же, как бы вылитый из стали, Ильич… Язык мой слишком беден, чтобы хоть в общих чертах отразить то, что рисуется в моих мыслях, и потом я просто попробую, в связи со своими воспоминаниями, подчеркнуть отдельные штрихи, характерные для Владимира Ильича. Мария Петровна отложила перо, зябко передернула плечами, поправила пуховый платок. В комнате холодно, чуть слышно потрескивали дрова в голландской печи. Сквозь залепленные инеем окна пробивался рассвет. Сколько горестных морщин прибавилось за эти январские дни 1924 года! Не стало Ленина! К этому почти невозможно привыкнуть. Она посмотрела на белевший лист и вновь начала писать:
Мария Петровна отложила перо, зябко передернула плечами, поправила пуховый платок. В комнате холодно, чуть слышно потрескивали дрова в голландской печи. Сквозь залепленные инеем окна пробивался рассвет. Сколько горестных морщин прибавилось за эти январские дни 1924 года! Не стало Ленина! К этому почти невозможно привыкнуть. Она посмотрела на белевший лист и вновь начала писать:
Познакомилась я с ним в 1891 г. Ему тогда только что исполнился 21 год. Был он исключен из Казанского университета, выслан из Казани и жил со своими родными в Самаре. Обычный костюм его в то время — ситцевая синяя косоворотка, подпоясанная шнурком, а обычное занятие — глубокое, серьезное, настойчивое изучение теории Маркса. В течение года я видела Владимира Ильича довольно часто, так как часто бывала в семье Ульяновых. Это был период, когда Владимир Ильич готовился к будущей роли вождя всемирной революции. Конечно, он не думал тогда, какую роль он будет играть в истории, нет, — пытливый ум юноши Ульянова искал ответов на те жгучие вопросы, которые ставила ему жизнь, упорно искал — и скоро нашел. Такой настойчивости, такого упорства в труде, какие были у Владимира Ильича уже в то время, я никогда ни у кого не видала. Я до самого последнего времени думала, что это были черты, присущие его характеру. И только недавно от сестры его, Анны Ильиничны, узнала, что на гимназической скамье Владимир Ильич не был особенно усердным мальчиком; это понятно: при его блестящих способностях ему все легко давалось; но уже в последних классах гимназии, по словам той же его сестры Анны Ильиничны, он задумывался над вопросом выработки в себе этого хорошего качества — упорства в работе; задумался, решил и выполнил блестяще. Целыми днями и вечерами сидел Владимир Ильич в своей комнатке, изучая Маркса; лишь изредка давал он себе отдых или играя в шахматы, или беседуя со своей маленькой сестрой, Марьей Ильиничной — Маняшей, как он звал ее тогда. Изучение Маркса у Владимира Ильича не было оторванным от жизни. Рядом с Марксом на его столе лежали статистические сборники, в которых слабо, но все же отражалась русская действительность. Впоследствии, в 1894 году, питерские товарищи прозвали его «стариком» за его цитаты с цифрами. Знакомился он в тот период и с прошлым нашего революционного движения; ходил иногда беседовать со старыми народовольцами и народниками, осевшими после ссылки в Самаре. Интересовался и тем революционным течением, к которому принадлежала я (русских якобинцев-бланкистов). Здесь я должна упомянуть об одном маленьком эпизоде, не особенно лестном для меня, но характерном для Владимира Ильича: когда я с ним познакомилась (я старше его на 9 лет), за мной был десятилетний опыт партийной работы, между прочим, по ведению кружком молодежи, и у меня, как у всякого профессионала, выработался определенный шаблонный подход к людям, в особенности к молодежи; с этим шаблоном я подошла и к Владимиру Ильичу и, что называется, наскочила. Я сразу же не то поняла, не то почувствовала, что этот юноша отмечен какой-то особой печатью и что не мне поучать его, а самой, быть может, придется у него поучиться. Припоминая свои беседы с Владимиром Ильичем, я теперь еще более, чем раньше, прихожу к заключению, что у него уже тогда являлась мысль о диктатуре пролетариата. Недаром же в разговорах со мной Владимир Ильич так часто останавливался на вопросе о захвате власти (один из пунктов нашей якобинской программы). Насколько я помню, он не оспаривал ни возможности, ни желательности захвата власти, он только никак не мог понять, на какой такой «народ» мы думаем опираться, и начинал пространно разъяснять, что народ не есть нечто целое и однородное, что народ состоит из классов с различными интересами и т. п. Вел Владимир Ильич за этот период и практическую работу: около него группировался кружок молодежи, перед которыми он выступал с рефератами. Укажу еще на один факт из жизни Владимира Ильича за этот период; обосновать его я не берусь, а указываю лишь как факт: в этот год в Самарской губернии был страшный голод. Русское правительство и русский либерализм боролся по-своему с последствиями голода, открывались столовые и т. п. Из всей самарской ссылки только Владимир Ильич и я не принимали участия в работах этих столовых. Конечно, не нежелание помочь голодающим руководило в данном случае этим отзывчивым к чужому горю юношей: очевидно, он считал, что пути революционера должны быть иные… Осенью 1892 г. я уезжала из Самары, в Сибирь. Владимир Ильич ехал тогда со мной на пароходе до Казани. Какова была цель его поездки, я не помню, — может быть, он ехал тогда в Петербурге держать экзамен на кандидата прав, к которому он за этот же период готовился. Помню только, что, сидя со мной на палубе парохода, он вытаскивал из кармана какие-то тетрадки и вычитывал оттуда различные выдержки. Была ли в этих тетрадках в черном виде его, вышедшая теперь, книжка «Что такое друзья народа», или какая-нибудь другая написанная им вещь, но, во всяком случае, прочитанные им выдержки вырисовывали его как вполне сложившегося марксиста-революционера, а ему был лишь 23-й год. Следующая моя встреча с Владимиром Ильичем была на рубеже 1893–1894 года в Москве, где он выступал на довольно большой для того времени вечеринке и одержал блестящую победу марксиста над народничеством в лице известного народника В. В. (Воронцова). Эпизод этот был мною уже раньше описан в «Пролетарской революции»… В этом же 1894 году, по моему мнению, Владимир Ильич в Петербурге заложил фундамент Российской Коммунистической партии в лице серьезных, основательных кружков рабочих и того спевшегося основного ядра товарищей, которые сгруппировались вокруг него. Попробую теперь охарактеризовать Владимира Ильича как человека и как товарища, хорошего товарища. Он и тут был велик и прост, подходя к каждому из нас по-товарищески, по-коммунистически. Помню 1905—6 годы; у меня штаб-квартира для свиданий Владимира Ильича с членами ЦК и Петербургского комитета. Владимир Ильич всегда приходил первым, ни разу не опоздал. Кроме того, зная, что каждый из нас считал за честь предоставить в его распоряжение свою квартиру, зная мое личное хорошее отношение к нему, Владимир Ильич тем не менее, приходя, всякий раз как бы извинялся и говорил: «Вот опять часа на два придется занять вашу квартиру». А как хорошо Владимир Ильич умел распекать товарищей: он делал это иногда, но делал так, что становилось не обидно, а стыдно за свой промах. Вспоминается весна 1906 г. Владимир Ильич приехал со съезда и, вместо того чтобы прислать кого-нибудь, сам зашел ко мне за явкой. Рассказывая ему о том, что делалось в Питере за время его отсутствия, я с величайшим огорчением и опаской передала ему о том, что мы устроили митинг в театре Неметти, что у нас не было хороших ораторов, что меньшевики выпустили Мартова и нас побили. Владимир Ильич выслушал, чуть-чуть прищурился, улыбнулся своей хитрой улыбкой и сказал: «Не беда, авось когда-нибудь и с ними сквитаемся». Перехожу теперь к последней своей встрече с Владимиром Ильичем в марте 1919 г. Он тогда приезжал в Питер на похороны М. Т. Елизарова. Я уже стояла у гроба, когда вошел Владимир Ильич. Первым моим порывом было подойти к нему (мы, несколько лет не виделись), но я не знала, как отнесутся к этому окружающие, и осталась на месте. Владимир Ильич увидал меня, сам подошел ко мне, и мы отправились с ним в больничный сад. Я как сейчас помню проваливающийся снег под ногами, фигуру и голос Владимира Ильича. Он вспомнил прежде всего Самару. Думаю, что Владимир Ильич любил самарский период жизни, потому что, когда бы мы с ним ни встречались, у нас неизменно начинался разговор с Самары. Расспрашивал и в этот раз о самарцах, о том, где они, что с ними, работают ли, в партии ли. Расспросил, как я живу, что делаю, расспросил о моих детях, учатся ли, не голодают ли; эти вопросы были так естественны в то время, но не для Владимира Ильича (как мне казалось тогда), на плечах которого лежала забота о пролетариате всего мира. А на прощанье Владимир Ильич задал мне вопрос, который немного ошеломил меня, ошеломил тем, что Владимир Ильич, этот всеми признанный вождь всемирной революции, все знающий, интересуется тем не менее мнением самого рядового партийца. Владимир Ильич спросил меня: «Как вы думаете, вернемся мы к прошлому или нет?» Я чистосердечно и убежденно ответила: «Нет, может быть, нас ждут еще частичные поражения, но к прошлому не вернемся». Владимир Ильич, по-видимому, остался доволен моим ответом. Это было наше последнее свидание. После этого я видела и слыхала Владимира Ильича только с трибуны. Но не раз еще пришлось мне убедиться, что Владимир Ильич остался по-прежнему хорошим, заботливым товарищем. Ни разу я ни за чем не обращалась к Владимиру Ильичу, ни разу не напоминала о себе, и тем не менее Владимир Ильич не раз выручал меня в тяжелые минуты жизни. Этот необыкновенный человек являл собой разительный пример того, как могут сочетаться величие и простота, суровость и человечность в самом лучшем значении этого слова.
Неожиданно Мария Петровна почувствовала, что очень устала; и все же вновь перечитала свои воспоминания: скоро придут из редакции — там ждут их для ленинского номера журнала. Как бедно слово, как мало может оно рассказать о скорби и любви! Она аккуратно сложила исписанные листки и встала. Сердце ныло той привычной болью, которая не оставляла ее все это время. Она прижалась к окну. Сквозь заиндевелые стекла тусклым пятном проступал фонарь, зажженный с ночи, круг света его прошивали косые струйки снега. Порыв ветра, налетавший с низины, сплющивал их, и они убегали в темноту белыми хлопьями. Начинался новый день, и ее ждали новые заботы…
Примечания
1
Идем, сыны Отчизны.
День победы наступил!
2
К оружью, горожане!
Формируйте батальоны!
Последние комментарии
27 минут 40 секунд назад
40 минут 54 секунд назад
1 час 14 минут назад
1 час 46 минут назад
17 часов 16 минут назад
17 часов 26 минут назад