Следопыт [Александр Остапович Авдеенко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Александр Авдеенко Следопыт

Александр Николаевич Смолин
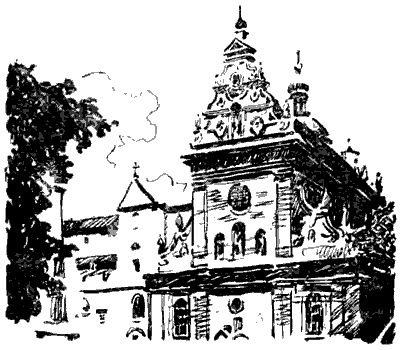 Весна семидесятого. Седой, сбросивший зимнюю шубу и вечно молодой Львов, овеянный теплыми карпатскими ветрами, омытый вешними водами, согретый апрельским солнцем, чуть-чуть зеленеющий, шумный, многолюдный, праздничный, как и вся страна, озаренный улыбкой бессмертного Ильича.
Улица Ленина, дом № 112. Здесь живет герой моих книг, мой старый друг, пограничник, следопыт, инструктор служебных собак, Смолин Александр Николаевич. В повестях, написанных по мотивам боевой биографии Смолина, «Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи» и в кинофильме он действует под фамилией Смолярчука.
Передо мной сидит русоголовый, сероглазый, спокойный, собранный, организованный в каждом своем движении и слове, крепкий и моложавый человек. Зеленые погоны старшины пограничных войск. Ордена Ленина, Красной Звезды. Бесчисленные медали, знаки отличия.
Голос у Смолина густой, глуховатый. Выговор — отменно русский, чеканный, с легчайшим нажимом на «о». На лице постоянная, обаятельная, идущая, что называется, от сердца и души улыбка.
Двадцать с лишним лет назад, еще будучи юношей, Саша Смолин улыбался людям вот так же щедро, открыто, доверчиво, чему-то радуясь и радуя всех, кто его видел. И смотрел он на людей в ту пору такими же правдивыми глазами, как теперь. И смущается так же, как и тогда. И по-прежнему чувствуется в нем жизнерадостная, утверждающая сила.
Через всю солдатскую жизнь, через все суровые испытания пронес он то, чем была красна его молодость.
Если бы я не знал, что ему минуло сорок шесть, я бы не дал ему и тридцати. Если бы я не знал, что он самый опытный и способный следопыт из всех действующих на границе, я бы посчитал его за обыкновенного сверхсрочника.
Ничего, решительно ничего нет броского в его облике. Простота. Естественность. Скромность. И достоинство.
Я собираюсь с духом и выкладываю Смолину, ради чего я сейчас приехал во Львов.
— Хочу написать о вашей пограничной жизни новую книгу. Специальный заказ, так сказать, совпал с велением сердца. На этот раз издательство ждет от меня не роман, а документальное повествование. Без всяких домыслов. Факты, только факты. Точные даты. География. Подлинные, по возможности, имена.
— Ну?! — энергично и чуть насмешливо проговорил Смолин свое любимое слово. В его устах, окрашенное той или иной интонацией оно приобретало самое различное содержание: согласие и отрицание, сомнение и утверждение. Сейчас это слово прозвучало примерно так: «И вам до сих пор не надоело возиться со мной?!»
Я засмеялся и сказал:
— Что поделаешь, Саша! Мы с вами на всю жизнь скованы одной цепью. Придется нам тащить свои вериги до конца.
— Ну!
И он тоже засмеялся. Кажется, понравилось ему мое преувеличение.
— С чего же мы начнем книгу о следопыте Смолине? — уже серьезно спрашиваю я.
Он пожимает плечами, молчит. И минуту, и две, и три молчит. Курит, смотрит на улицу, залитую солнцем, запруженную детскими колясками, детьми, нарядными женщинами и мужчинами, и молчит. Собственная жизнь кажется ему такой обыкновенной.
Двадцать лет в газетах, журналах, по радио и телевидению прославляют люди подвиги Смолина, а он все еще смущается. Считает, что не герой, такой же, как все.
Мне, по совести говоря, по душе его чувства.
Нарушает молчание все-таки он. Иронически усмехается и, подтрунивая над собой, говорит:
— С чего, спрашиваете, начинать? А чего долго мудрить? Давайте танцевать от печки. Родился я в России, в 1924 году, 26 февраля, в селе Большое Болдино, где Пушкин нечаянно застрял и хорошо писал. Отец — Николай Иванович, мать — Татьяна Матвеевна. Три младших брата тоже пограничники. Добровольцы. Василий охранял западную границу, Виктор — за Полярным кругом, в пургу по канату в наряд ходил. Иван служил на контрольно-пропускном пункте на западной границе. Отец погиб на Отечественной войне. Его на год раньше меня призвали. А я попал в армию в день своего совершеннолетия. Интересное совпадение, правда?.. Ну, подходит такое начало?
— Ничего. Но может быть и лучшее. Сколько на вашем счету задержанных нарушителей?
— Живых больше сотни. Тех, которых пришлось убить, тоже наберется с сотню.
— Значит, за свою пограничную жизнь вы обезвредили более двухсот шпионов, лазутчиков, диверсантов?
— Ну! — энергично подтвердил Смолин.
— И вы помните своих «крестников»?
— Как же их забудешь? Все достались тяжело.
— Вы можете рассказать, когда, где и как каждого обезвредили?
— Ну!
— О самом первом и самом последнем?
— Ну!
— Отлично! Из этих вот ваших рассказов и будет состоять книга. Итак, первый нарушитель!
На этот раз Смолин не произнес своего любимого, очень выразительного «ну». Улыбался. Думал. Потом сказал:
— Давайте начнем не с нарушителя, а с моего первого пограничного учителя, с моей первой собаки.
— Так еще лучше. Рассказывайте без оглядки на меня — я успею записать. И ничего не упускайте. Ни одного движения, ни одного переживания, ни одного слова. Восстановите в памяти обстановку. Встречи с людьми. Имена товарищей, воевавших рядом. И, самое главное, не забывайте, каким вы были в ту пору, когда впервые надели зеленую фуражку.
— Трудно сейчас, через двадцать пять лет, восстановить, каким я пришел на границу, что и как говорил, о чем думал. Все, что приходилось делать, хорошо помню, а слова и переживания забыл. Не все, конечно. Многое врезалось в память.
— Постарайтесь вспомнить. Это очень важно, уверяю вас. Чувства не выдумаешь. Да и не хочется мне ничего прибавлять от себя. Правда в тысячу раз симпатичнее самого хорошего вымысла. Память — удивительный механизм. Нужно только сосредоточиться, и она выдаст вам столько…
— Н-да, нагрузочка! — усмехнулся Смолин. — Если бы я знал, что мои переживания кому-то понадобятся!.. Попробую. Но предупреждаю: сами на ус наматывайте, что к чему. Сразу поворачивайте мои оглобли, если потащу вас не туда. Останавливайте, если не так буду рассказывать. А там, где не доберу, вы красок добавляйте, оформляйте картину. Подходит вам такой разговор?
— Вполне. Разжигайте костер, Саша, и об остальном не заботьтесь.
Весна семидесятого. Седой, сбросивший зимнюю шубу и вечно молодой Львов, овеянный теплыми карпатскими ветрами, омытый вешними водами, согретый апрельским солнцем, чуть-чуть зеленеющий, шумный, многолюдный, праздничный, как и вся страна, озаренный улыбкой бессмертного Ильича.
Улица Ленина, дом № 112. Здесь живет герой моих книг, мой старый друг, пограничник, следопыт, инструктор служебных собак, Смолин Александр Николаевич. В повестях, написанных по мотивам боевой биографии Смолина, «Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи» и в кинофильме он действует под фамилией Смолярчука.
Передо мной сидит русоголовый, сероглазый, спокойный, собранный, организованный в каждом своем движении и слове, крепкий и моложавый человек. Зеленые погоны старшины пограничных войск. Ордена Ленина, Красной Звезды. Бесчисленные медали, знаки отличия.
Голос у Смолина густой, глуховатый. Выговор — отменно русский, чеканный, с легчайшим нажимом на «о». На лице постоянная, обаятельная, идущая, что называется, от сердца и души улыбка.
Двадцать с лишним лет назад, еще будучи юношей, Саша Смолин улыбался людям вот так же щедро, открыто, доверчиво, чему-то радуясь и радуя всех, кто его видел. И смотрел он на людей в ту пору такими же правдивыми глазами, как теперь. И смущается так же, как и тогда. И по-прежнему чувствуется в нем жизнерадостная, утверждающая сила.
Через всю солдатскую жизнь, через все суровые испытания пронес он то, чем была красна его молодость.
Если бы я не знал, что ему минуло сорок шесть, я бы не дал ему и тридцати. Если бы я не знал, что он самый опытный и способный следопыт из всех действующих на границе, я бы посчитал его за обыкновенного сверхсрочника.
Ничего, решительно ничего нет броского в его облике. Простота. Естественность. Скромность. И достоинство.
Я собираюсь с духом и выкладываю Смолину, ради чего я сейчас приехал во Львов.
— Хочу написать о вашей пограничной жизни новую книгу. Специальный заказ, так сказать, совпал с велением сердца. На этот раз издательство ждет от меня не роман, а документальное повествование. Без всяких домыслов. Факты, только факты. Точные даты. География. Подлинные, по возможности, имена.
— Ну?! — энергично и чуть насмешливо проговорил Смолин свое любимое слово. В его устах, окрашенное той или иной интонацией оно приобретало самое различное содержание: согласие и отрицание, сомнение и утверждение. Сейчас это слово прозвучало примерно так: «И вам до сих пор не надоело возиться со мной?!»
Я засмеялся и сказал:
— Что поделаешь, Саша! Мы с вами на всю жизнь скованы одной цепью. Придется нам тащить свои вериги до конца.
— Ну!
И он тоже засмеялся. Кажется, понравилось ему мое преувеличение.
— С чего же мы начнем книгу о следопыте Смолине? — уже серьезно спрашиваю я.
Он пожимает плечами, молчит. И минуту, и две, и три молчит. Курит, смотрит на улицу, залитую солнцем, запруженную детскими колясками, детьми, нарядными женщинами и мужчинами, и молчит. Собственная жизнь кажется ему такой обыкновенной.
Двадцать лет в газетах, журналах, по радио и телевидению прославляют люди подвиги Смолина, а он все еще смущается. Считает, что не герой, такой же, как все.
Мне, по совести говоря, по душе его чувства.
Нарушает молчание все-таки он. Иронически усмехается и, подтрунивая над собой, говорит:
— С чего, спрашиваете, начинать? А чего долго мудрить? Давайте танцевать от печки. Родился я в России, в 1924 году, 26 февраля, в селе Большое Болдино, где Пушкин нечаянно застрял и хорошо писал. Отец — Николай Иванович, мать — Татьяна Матвеевна. Три младших брата тоже пограничники. Добровольцы. Василий охранял западную границу, Виктор — за Полярным кругом, в пургу по канату в наряд ходил. Иван служил на контрольно-пропускном пункте на западной границе. Отец погиб на Отечественной войне. Его на год раньше меня призвали. А я попал в армию в день своего совершеннолетия. Интересное совпадение, правда?.. Ну, подходит такое начало?
— Ничего. Но может быть и лучшее. Сколько на вашем счету задержанных нарушителей?
— Живых больше сотни. Тех, которых пришлось убить, тоже наберется с сотню.
— Значит, за свою пограничную жизнь вы обезвредили более двухсот шпионов, лазутчиков, диверсантов?
— Ну! — энергично подтвердил Смолин.
— И вы помните своих «крестников»?
— Как же их забудешь? Все достались тяжело.
— Вы можете рассказать, когда, где и как каждого обезвредили?
— Ну!
— О самом первом и самом последнем?
— Ну!
— Отлично! Из этих вот ваших рассказов и будет состоять книга. Итак, первый нарушитель!
На этот раз Смолин не произнес своего любимого, очень выразительного «ну». Улыбался. Думал. Потом сказал:
— Давайте начнем не с нарушителя, а с моего первого пограничного учителя, с моей первой собаки.
— Так еще лучше. Рассказывайте без оглядки на меня — я успею записать. И ничего не упускайте. Ни одного движения, ни одного переживания, ни одного слова. Восстановите в памяти обстановку. Встречи с людьми. Имена товарищей, воевавших рядом. И, самое главное, не забывайте, каким вы были в ту пору, когда впервые надели зеленую фуражку.
— Трудно сейчас, через двадцать пять лет, восстановить, каким я пришел на границу, что и как говорил, о чем думал. Все, что приходилось делать, хорошо помню, а слова и переживания забыл. Не все, конечно. Многое врезалось в память.
— Постарайтесь вспомнить. Это очень важно, уверяю вас. Чувства не выдумаешь. Да и не хочется мне ничего прибавлять от себя. Правда в тысячу раз симпатичнее самого хорошего вымысла. Память — удивительный механизм. Нужно только сосредоточиться, и она выдаст вам столько…
— Н-да, нагрузочка! — усмехнулся Смолин. — Если бы я знал, что мои переживания кому-то понадобятся!.. Попробую. Но предупреждаю: сами на ус наматывайте, что к чему. Сразу поворачивайте мои оглобли, если потащу вас не туда. Останавливайте, если не так буду рассказывать. А там, где не доберу, вы красок добавляйте, оформляйте картину. Подходит вам такой разговор?
— Вполне. Разжигайте костер, Саша, и об остальном не заботьтесь.
Федя Пономарев и Газон
Еще до школы я подружился с Витькой Бугровым, Он первый мой друг. Летом бегали на речку купаться, грибы и ягоды собирали в лесу, а зимой в санки запрягали по две-три собаки и гоняли лихие упряжки по большеболдинским улицам и ее околицам, заваленным снегом, на смех и диво всей деревне. А когда подросли младшие мои братья, Василий, Виктор и Иван, я подружился с ними. И в школе, во всех классах были дружки — от первого до седьмого. За всякого, бывало, цеплялся. Прилипчивым был парнишкой. Ничего не поделаешь. Таким характером наделили меня Татьяна Матвеевна и Николай Иванович Смолины. Не терпел одиночества. Даже в школу шел обязательно с кем-нибудь вдвоем. Сидел за партой с Виктором. На переменах носился с ним по двору. Уроки готовил с ним. И на фронте чуть ли не с первого дня обзавелся другом. Федя Пономарев был старше меня на целых четыре года. Воевал с первого дня. Дважды был ранен. Имел звание сержанта. Удостоен правительственной награды. И вообще превосходил меня по всем статьям. Выше ростом. Проворнее. Серьезнее. Улыбался редко. Говорил веско и мало, как генерал. Службу исполнял аккуратно. Начальство уважал, но не подлаживался к нему. К себе и к товарищам относился строго, поблажек не признавал ни под каким видом. Особенно доставалось от Феди мне, грешнику. Командир отделения и начальник заставы не делали мне никаких замечаний, а дружок распекал с утра до вечера: заправочка и выправка у меня, видите ли, разгильдяйские, и двигаюсь я не как солдат-фронтовик, а как сонная муха, автомат держу как грабли, много и без всякой причины смеюсь, а на священную народную войну смотрю несерьезными глазами. Чего только не приписывал мне мой дружок Федя! В какой только бок не шпынял! А я не обижался. Слава богу, хватало ума. Со стороны виднее, какой ты. Наскоки Феди я обычно принимал тихо, улыбаясь. Но ему не нравились и мои улыбки. А что я мог поделать с собой? Не хочу улыбаться, а не могу. Сами губы, против моей воли, растягиваются. Таким улыбчивым уродился. Каюсь. Не к месту и не ко времени улыбался. Тот, кто не знал меня хорошо, всякое мог подумать. И думали. — Ну, чего ты скалишь зубы, как та легавая? Что тебе смешно? Кто тебя щекочет? Федя сердился, а я улыбался. Вот так мы и дружили: один угрюмый и сварливый сверх всякой меры, а другой уж очень улыбчивый. Огонь и лед. Ничего, уживались. Никому не были в тягость. Солдаты как солдаты. Не хуже других. Это все присказка. Теперь начинается сердцевина. Три года, с первого дня войны, у нас, пограничников, не было западной границы. Ее заменял передний край фронта. Проходил он в эти годы далеко от Буга и Сана. На Днепре, на Донце, на Дону, на Кубани, на Тереке, а то даже в горах Кавказа. Тяжелое время. Мы охраняли тылы армии, ловили парашютистов, переброшенных через фронт диверсантов и шпионов. Конвоировали военнопленных до мест погрузки. Сопровождали эшелоны до пересыльных пунктов. И только летом сорок четвертого, после разгрома гитлеровских войск в Белоруссии, Западной Украине и в Прибалтике, Красная Армия очистила нашу землю от пришельцев, вернулась на родные пограничные земли и вплотную подошла к рекам Сан, Западный Буг. Со дня на день мы ждали приказа о переброске нашего полка особого назначения на государственную границу. Мы были готовы в любое время переключиться на чисто пограничную службу. Наши войска наступали, и военнопленных было видимо-невидимо. Работы у нас было по горло. Мы конвоировали фрицев длиннющими колоннами. Железнодорожники еле успевали подавать нам пустые эшелоны. В один из таких дней я навсегда распрощался со своим другом Федей Пономаревым. Три года мечтал он вернуться на родную заставу. Три года воевал, чтобы скорее наступил этот час. Нескольких дней не хватило ему до великого праздника. Дело было так. Наша застава конвоировала большую колонну пленных, захваченных в последних боях в районе государственной границы. Июльский день был знойным, безветренным, душным. Небо чистым. Опасаясь налета вражеской авиации, мы вели фрицев по глухой проселочной дороге, по опушке старого леса. С утра, ни разу не останавливаясь, мы прошли километров двадцать и порядком устали. До места погрузки оставалось столько же. Людям надо было дать отдохнуть, испить воды, оправиться. Наш лейтенант, начальник заставы Калинников приказал головным конвоирам свернуть вправо, в лес. Тут, в тени, в прохладе вековой дубравы мы устроили получасовой привал. Отдыхали немцы. Отдыхали и конвоиры. Мы с Федей, как всегда, были рядом. Он сидел под старым дуплистым дубом, автомат, готовый к бою, держал на коленях и наливал воду из фляги в специальную пойлушку. Сам еще не напился, а своей собаке торопился промочить горло. Газон стоял перед ним, высунув язык, тяжело и жарко дыша, и не сводил с хозяина умных, преданных глаз. Пес изнывал от жажды, но не двинулся с места, пока не последовала команда: — Пей, Газон, пей! Овчарка пила, а Федя смотрел и радовался. Пес был крупный, широкогрудый, головастый, чапрачный: черная-пречерная спина, ноги желтоватые, с подпалиной. Работал с Федей чуть ли не с первого дня войны. Ловил парашютистов. Ходил по следу диверсантов. Зубы у Газона белые, крупные, острые. Пасть огромная. Глаза умные, яростные. Нравилась мне овчарка. Мне всегда хотелось приласкать ее. Знал, что нельзя этого делать, и все-таки потянулся, чтобы погладить. Но едва моя рука прикоснулась к его голове, он зарычал, ощетинился. — Смотри, какой недотрога! Пора бы, кажется, и привыкнуть. Больше года вместе воюем. Слышишь, Газон? Понимаешь, что я говорю? Федя, настороженно поглядывая на отдыхающих немцев, сказал: — Все он слышит, но ничегошеньки не понимает. — Почему? — Потому что ты человек, а он собака. — Но тебя он понимает? — И меня не понимает. — Ну да! Еще как понимает. Каждое слово. Каждый жест. Каждый взгляд. — Ну и темный же ты человек, Сашка. Я уже тебе говорил, что у собаки нет никакой сообразительности, никакого ума. Есть только один условный рефлекс. Опять этот проклятый рефлекс. Уж который раз Федя пытается растолковать мне, что это такое. Для него это просто, как дважды два, а для меня тайна. И не дурак, кажется, а не могу раскусить. И не только я один виноват в этом. Чересчур строгий, чересчур нетерпеливый у меня инструктор. Не умеет просто, доходчиво рассказать, не обижая ученика, как приручил Газона; как сделал его своим другом и помощником. Хочет, чтобы его понимали сразу, с полуслова. А сам небось до того, как окончил школу следопытов, не знал даже собачьей азбуки и не сразу до всего дошел. Почему мы так скоро забываем, откуда вышли? Я вздохнул и не поделился с Федей своими мыслями. А ему и не интересно, почему я запечалился, почему замолчал. Свою благородную цель преследует — с наукой о собаке меня знакомит. Солидно, густым басом, кому-то подражая, поучает: — Условный рефлекс — это основа для каждого дрессировщика, для каждого следопыта. Условный рефлекс, писал академик Павлов, это «временная нервная связь бесчисленных агентов окружающей животное среды, воспринимаемых рецепторами данного животного, с определенными деятельностями организма». Я покачал головой, усмехнулся. — Ну и наука! Ты сам, Федя, понимаешь, что говоришь? Переведи на русский язык эти слова. Обидчивый инструктор на этот раз ничуть не обиделся. — Пожалуйста, могу сделать такое одолжение. Условные рефлексы являются ответным действием животного на определенные раздражители, приобретаемые в процессе индивидуальной жизни. Они повышают приспособляемость организма собаки к условиям окружающей среды и обеспечивают возможности ее дрессировки. Академик Павлов учит, что некоторые из условных, вновь образованных рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные. — А еще попроще можно, Федя? — Куда проще!.. Каждый дрессировщик и каждый инструктор службы собак является для животного комплексным раздражителем и может вызвать у него ряд условных рефлексов. Вызвать к жизни и закрепить навсегда. Слушал я слушал его лекцию, глазами хлопал, а потом и засмеялся. — Ну и буквоед же ты! Что прочитал в книжке, то и шпаришь, не переварив. Да разве так учат? — А я, брат, давно махнул рукой на тебя. Таких, как ты, не научишь пограничному уму-разуму, только время и силы потеряешь. Хороший ты парень, Саша, но не собачник, не следопыт. Не глазастый, не пытливый. Без стальной пружины в душе. И человек не серьезный. Не злой. Не вдумчивый. Все хиханьки и хаханьки у тебя на уме и на губах. Не видать тебе ни границы, ни заставы как собственных ушей. Туда таких не подпускают и на пушечный выстрел. Так что распрощайся с мечтой, пока не поздно. Не знаю, не могу определенно сказать, пугал меня чересчур строгий Федя, шутил так или был убежден, что не способен я стать настоящим пограничником. Очень ценным он был следопытом. Можно даже сказать — образцовым. Под землей, в воде, на деревьях, в колодцах находил удиравших фрицев. Шел по невидимому следу со своим Газоном так уверенно, будто видел перед собой отпечатки. Все умел делать. Но никому не мог передать своего опыта, своей хватки. Хотел, да не мог. Чего-то ему не хватало. Я всегда помню его, когда занимаюсь с молодыми следопытами. Боюсь быть таким инструктором и учителем, как он. Избегаю слов, какие приходилось слышать от него. Ну, я, кажется, забежал далеко вперед. Вернусь в прифронтовой лес. В ту пору, нечего греха таить, я часто рубил с плеча. Скор был на выводы. Не долго думая, делил людей на хороших и плохих. Середины не было. Признавал не всю радугу, а только три ее цвета: белый, черный, красный. Речь Федора, может быть, и справедливая, просто взбесила меня. Уважал я его, но не мог стерпеть унижения. — Это еще неизвестно, кто из нас увидит заставу, — сказал я. — Мне только двадцать, а тебе все двадцать пять. Старики границе не нужны. Тебя демобилизуют после войны, а меня пошлют на Западный Буг или Сан. Я буду охранять границу, а ты… ты… До сих пор не могу простить себе этих слов. Сам не знаю, как они вырвались. Через несколько минут исполнилось мое пророчество. Если бы этого не случилось, я не угрызался бы так сильно. Сержант смерил меня с ног до головы уничтожающим взглядом. — Не доверят тебе, молокососу, святого государственного рубежа. Попомнишь! Я хотел ответить, но он оборвал меня окриком: — Разговорчики, рядовой Смолин! Я отошел в сторонку. Газон тем временем утолил жажду, сидел у ног инструктора, глядел ему в глаза. Федор сполоснул чистой водой из фляги пойлушку, обернул ее белой тряпочкой и спрятал в сумку. И только после этого приложился к фляге. Пил долго, вкусно крякал. Это была последняя его вода. Военнопленные сидели длинной чередой на опушке леса в тени. Курили. Переобувались. Разговаривали. Жевали хлеб — еще свой, немецкий, выпеченный по ту сторону линии фронта. Конвоиры с автоматами на груди не густой цепочкой стояли под неподвижными сонными деревьями и, кажется, боролись с дремотой. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви. Пахло хвоей, сухой травой и особенно земляникой. Сколько сейчас ягод в лесу… Да некому собирать. — Хальт! Хальт! Хальт!!! — послышался в хвосте колонны истошный крик конвоира. И почти сейчас же загремела короткая очередь автомата. Потом другого, третьего, четвертого. Лес наполнился громом, дымом, треском. — Смотри тут, Смолин! — закричал Пономарев и со всех ног, держа поводок в руках, помчался в хвост колонны, вслед за Газоном. А минуты через две или три в чаще леса взорвалась мина. Убегавший пленный каким-то чудом проскочил ее. Газон тоже не подорвался. А Пономареву начисто отсекло ногу. Он лежал в одном месте, в лощинке, присыпанной хвоей, а нога в кирзовом сапоге с алюминиевой ложкой за голенищем — в другом. Я стоял на коленях перед тяжело стонущим, беспамятным Федей и рыдал, как мальчишка. Он не слышал и не видел меня. Газон сидел рядом. Уперся лапами в землю, шерсть на холке вздыбил и, подняв голову к небу, выл. Сначала тихо, вполголоса, а потом все сильнее, жалобнее. Жутко мне стало. Вот тебе и бессознательное животное! Как же назвать собачье горе? Условным рефлексом? Комплексным раздражителем? — Убрать собаку! — приказал начальник заставы. Кто-то из конвойных схватил Газона за ошейник, потащил прочь. Он покусал солдата и вернулся к хозяину. Сидел и выл. — Не надо его трогать, товарищ лейтенант! — попросил я начальника заставы. Калинников настаивал: убрать, обязательно убрать! И он был прав. Не дал бы нам Газон дотронуться до Пономарева. Солдаты накинули на собаку плащ-палатку, потом кавказскую бурку, навалились гуртом, спеленали и унесли подальше. После этого случая наш Газон, и без того непокладистый, стал еще злее. Ни с какого бока не подступишься. Ни с мясом, ни с хлебом, ни с сахаром, ни с лаской. Всей заставой пробовали приручить его — никого не подпускал. Рычит. Зубами щелкает. Озверел от горя. — Отставить! — скомандовал лейтенант Калинников. — Кто-то один должен приручать Газона. Есть добровольцы? Я спрашиваю, кто согласен работать с Газоном? Смельчаки, два шага вперед! Охотников не нашлось. Все молчат и почему-то на меня смотрят. И лейтенант на меня свой взгляд перевел, чего-то ждет. — Ну, Смолин, а ты чего молчишь? — Смолин не хуже и не лучше других, товарищ лейтенант. Я говорил чистосердечную правду. Я очень боялся Газона, ничуть не верил, что смогу не только подружиться с ним, но даже хоть немного утихомирить его злость. — Брось прибедняться, Смолин. Давай приручай собаку. — Не способен, товарищ лейтенант! — Назначаю тебя инструктором службы собак. Все. Выполняй! Ничего себе инструктор! Не знает, что такое условный рефлекс и раздражитель. А что мне оставалось делать? Козырнул, повторил приказание и приступил к своим новым обязанностям. Переложил из Фединой сумки в свою алюминиевую пойлушку, легкий бачок с ручкой для кормления, кожаный намордник, цепь, запасной поводок с карабином, порфорс, гребень, щетку, скребницу, черную суконку и несколько пластмассовых баночек с разными мазями. Самую малую часть дела сделал, а за главную не принимаюсь. Тяну. Набираюсь храбрости. Прикидываю, с чего начать. Пока что решил сделать самое необходимое. Ухитрился, изловчился и пристегнул к ошейнику Газона длинный поводок. Удобная это штука для начинающего. Можно, не подвергая себя опасности, держать собаку под контролем, не подходя к ней близко. С этого началась моя новая служба. Я сижу на одном конце пятнадцатиметрового поводка, Газон — на другом. Настороженно смотрим. Не верим друг другу. Как только я поднимаюсь и делаю шаг вперед, Газон вскакивает, ощеривается, рычит. Раньше, когда Федя был в строю, пес был более милостив ко мне. Оглаживать, правда, не позволял, хлеб из рук не брал, но все-таки подпускал вплотную к себе и не скалился, когда я с ним разговаривал. Видно, я и в самом деле не собачник. Заказана мне дорога в пограничные следопыты. Раз десять пробовал я подступиться к нему со словами: «Хорошо, Газон, хорошо, хорошо», — и всегда он встречал меня как лютого врага. Целый день промучился с ним и ничего не добился. И бачок с мясным овсяным супом даже не понюхал. Ребята, наблюдавшие за нами, безнадежно качают головами, жалеют меня: «Ну и работенка тебе попалась, Смолин. Кому-то из вас не сдобровать. Или Газон тебя разорвет, или ты его пристрелишь». Верно, минуту назад я подумал: если Газон бросится на меня, придется уложить его автоматной очередью. Мне стало стыдно. Пусть будет что будет. С голыми руками надо искать дружбы с псом. Всю ночь он подвывал, Я лежал неподалеку, завернувшись в плащ-палатку, и время от времени, не двигаясь, подавал голос: «Хорошо, Газон, хорошо». Ничего лучшего не мог придумать, Федя часто вот такими словами ласкал и поощрял собаку. Утром я налил в пойлушку чистой воды и поставил в пяти или шести метрах от Газона. Он враждебно следил за мной, но не зарычал. Может быть, и ближе подпустил бы, но я не стал рисковать. Хорошо уже то, что не бросился на меня. Наверное, пойлушка смягчила его. Ведь он тысячу раз видел ее в руках Феди, Никогда она не раздражала его, только утоляла жажду. Может быть, это и есть условный рефлекс? Похоже на то. Я сбегал на нашу походную кухню, принес полный бачок жидкой, разбавленной мясным борщом овсяной каши, поставил рядом с пойлушкой и сказал: — Ешь, Газон, ешь, браток! Паек что надо — солдатский. Он сидел, косился то на пищу, то на меня. Облизывался, зевал. Борьба голода с осторожностью и злобой была недолгой. Через минуту он уже хлебал теплое солдатское варево. Съел он перед вечером и вторую свою порцию. А третью, утром следующего дня, я уже поставил не в пяти мэтрах от собаки, а около него, прямо перед пастью. Ничего, обошлось. Так и пошло, пошло. Поднося ему бачок, я всегда говорил: «Хорошо, Газон, хорошо» — и он дружелюбно облизывался. Злости и в помине не было. Скоро он стал подпускать меня и без пищи. Скажу ему: «Хорошо, Газон, хорошо» — и смело подхожу. Однажды, перед кормежкой, он позволил погладить себя по голове. Через неделю уже повиновался моей команде: «сидеть», «ко мне». А еще через неделю мы с ним конвоировали военнопленных. В общем, все вошло в колею, как и при Пономареве. Ребята радовались за меня, лейтенант поздравлял с первыми успехами. Один я не спешил праздновать победу. Я хорошо знал, на каком хлипком фундаменте покоятся мои успехи. Никакого своего труда я еще не вложил в Газона. Пользовался вслепую тем, чего добился Федя. Не я, по существу, управлял Газоном, а он мною — туда-сюда, как хотел, вертел. Прошло несколько месяцев, пока я стал понемногу соображать, что такое служебная собака и как она должна служить человеку. Книги читал. С инструкторами других застав разговаривал, перенимал опыт. У самого Газона ума-разума набирался. Словом, старался на совесть. И только вошел во вкус собачьей дрессировки, только открыл первую тайну условного рефлекса, как в нашу часть пришел приказ высшего командования: срочно найти и послать на западную границу добровольцев следопытов, умеющих работать с розыскными собаками. Почему-то в первую очередь нашли меня. Выделили. Послали по назначению. Но без собаки. Одного. А какой я следопыт без Газона? По совести сказать, я на нем, на его выучке, на его чистом условном рефлексе держался. Своего у меня ничего не было. Какой же я пограничник без пограничного багажа? Выдворят с границы. С такими унылыми мыслями и поехал я на свое новое место службы.Начальник службы собак
Попал я на правый фланг Украинского пограничного округа, в город Рава-Русскую. Моим непосредственным начальником оказался молодой, чуть старше меня, веселый, разговорчивый, с душой нараспашку, такой же улыбчивый, как и я, лейтенант Николаев. Он сразу мне понравился. Никогда я не пожалел, что с первого взгляда потянулся к нему. И по сей день продолжается наша дружба. Ладно, расскажу по порядку, как оно все было. Встретились мы с ним во дворе, перед нашей казармой. Он больше на меня смотрел, чем в мои воинские документы. Это я тоже сразу заметил и порадовался. Солдат для него важнее бумаги. Вглядывается в меня и, улыбаясь, мягко этак, тихо, по-свойски, будто сам с собой размышляет, говорит: — Смолин? Александр Николаевич? Инструктор службы собак? — Так точно, товарищ лейтенант. По форме. Очень еще молодой я инструктор. Школы не кончал. Опыта совсем не имею. — Опыт, Саша, дело наживное, была бы охота. Собак любишь? Я вспомнил своего первого учителя Федора Пономарева и осторожно сказал: — Мало любить. Собаку надо хорошо знать и умело пользоваться ее возможностями. — Верно! Это чьи же слова ты повторяешь? — Так пишут в умных книжках. Он улыбается, и я ему отвечаю. Два улыбчивых человека, офицер и солдат. И оба, кажется, довольны друг другом. — Ну, а как ты стал инструктором? — спрашивает Николаев. Я рассказал. Ничего не утаил. Ничего не приукрашивал. Такому человеку, как Николаев, стыдно говорить неправду. — Ну, а почему же ты не взял с собой Газона на границу? — Просил, товарищ лейтенант. Не дали. Сказали, на границе собак сколько угодно. — Нет у нас обученных. Ни одной. Только молодняк. И настоящей службы собак, по существу, нет. Ни канцелярии, ни стола, ни людей не имею. Один за всех, и один для всех. Да и границы, как таковой, сказать по правде, у нас пока нет. Война распахала и разрушила весь рубеж. Трудная будет жизнь у пограничников. И особенно нам достанется. Мы стоим на одном из важнейших оперативных направлений. Посмотри! — Он вытащил из планшетки карту и разложил ее прямо на земле. — Вот тут, на самом краю советской земли, Рава-Русская. В ближнем тылу у нас Львов, Луцк, Ровно и чуть подальше — Броды, Дубно, Кременец. Видишь? Соседи у нас справа и слева — Яворов, Краковец, Сокаль, Владимир-Волынский. Напротив нас, по всему фронту, важные польские города: Перемышль, Ярослав, Развадув, Замосць, Хрубешув, Люблин, Хелм. Вот, вот, вот. Мы стоим на одном из самых важных скрещений железных и шоссейных дорог. Еще до войны шпионы, диверсанты, лазутчики и всякая националистическая шваль предпочитали пробиваться на нашу территорию в этом направлении. Очень удобное место. Так что пограничникам здесь работы невпроворот. На нас с тобой, Саша, командование отряда возлагает большую ответственность и большие надежды. Это на меня-то, малограмотного, можно сказать, следопыта?! На инструктора службы собак, не имеющего собаки?! Веселый, чересчур веселый лейтенант Николаев. И чересчур доверчивый и добрый. Вслух я ничего не сказал. Смотрел на карту, улыбался по привычке и помалкивал. Посмотрим, что дальше будет.Смолин как пограничник и человек с наибольшей полнотой выражает себя в талантливой следопытской работе, в самоотверженной борьбе с нарушителями, в добрых отношениях с товарищами. Так казалось мне, пока я не познакомился с письмами, адресованными родным, друзьям, товарищам. В них с неожиданной стороны открылся хорошо известный мне Смолин. Мог ли я, пишущий историю солдатской жизни Смолина, историю его пограничных подвигов, пройти мимо чрезвычайно важного для себя открытия? Разумеется, нет. Если бы я рассказал о Смолине только как о следопыте, я бы невольно обеднил его характер, личность и душевный мир. Пусть же его письма, эти маленькие исповеди, вехи времени и свидетельства современника, встанут в ряд с повествовательными главами.
Извиняй, брат, за то, что долго не посылал о себе весточки. Не до писем мне было. Перебирался на другую «квартиру». Так что не пиши мне больше туда, где я был. Моя крыша теперь чисто зеленого цвета. Понял! Да, брат, да, попал в пограничники! Мои командиры почему-то решили, что я природный собачник, и сделали ценя вожатым здешнего собачьего народа. Представляешь, какой я вожатый? Хорошо еще, что обученных собак на заставе сейчас нет. Вот здорово оскандалился бы. Сам не знаю, когда и как я ввел в заблуждение фронтовое начальство, а попросту говоря — невольно обманул. Надо было мне твердо и ясно сказать, что не имею никаких талантов на вожатого, инструктора службы собак. Но я почему-то постеснялся говорить. Командиры меня нахваливали, а я молчал и глупо улыбался. Вроде бы соглашался с ними! Ох, эта моя улыбка, будь она неладна! Уже который раз она подводит меня. Не хочу, а улыбаюсь. Каким был маленьким, так и теперь остался. Не избавлюсь, видно, до конца жизни от того, чем наделили меня дорогие родители. Вот такие пироги, дружище. Живу я там же, где и служу. Место моей новой службы называется заставой. Казарма с канцелярией, с кухней и складом, офицерский домик, закуток для старшины, питомник для собак — вот и все наши постройки. А слева и справа от нас, в горы и в долы тянется государственная граница, Представляешь? И мы охраняем ее днем и ночью, в мороз, в пургу, во всякую погоду. Все ребята несут службу уверенно, бодро. Один я чувствую себя здесь как теленок на льду. Но виду, конечно, не подаю. Держу голову как все прочие. Скорее бы прислали обученных собак. Больше писать не о чем. Будь здоров, Привет всем землякам.
Джек
Через несколько дней после моего прибытия в Рава-Русскую, к нам пришла пожилая женщина и заявила, что у нее есть немецкая овчарка по кличке Джек и что она хочет отдать ее пограничникам. Нам нужны были не вообще овчарки, а дрессированные: розыскные, сторожевые или, на худой случай, караульные. Молодняка у нас было достаточно. — Мамаша, ваш Джек обучен? — без всякого энтузиазма спросил Николаев. — Точно не знаю, сынок. Умный, все понимает. Ваш он, пограничного рода. — Пограничного рода? А почему вы так думаете, мамаша? — Джек попал ко мне в первые дни войны. Оставил его какой-то пограничник. Миша. Фамилии не знаю. Он был ранен в ногу, хромал. Миша попросил сохранить собачку до его возвращения. Я согласилась. Всю войну не выпускала со двора, прятала от немцев в сарае и в доме. Трудно было пропитать громадную собаку. От себя отрывала. Услышав такое, мы с лейтенантом Николаевым радостно переглянулись и почти в один голос попросили женщину поскорее вести нас к Джеку. Пришли. Смотрим. Джек подпустил к себе Николаева вплотную, мирно обнюхал. Мной почему-то вовсе не заинтересовался. Собака действительно хорошая. Даже я это понимал. Рослая. Широкогрудая. Поджарая. Шерсть длинная, желтовато-серого цвета. Сложение отменное: крепкое, суховатое, в меру вытянутое туловище. Голова светлой окраски, крупная, массивная, соразмерная. Клинообразная морда веселая, как у годовалого щенка. Коричневые глаза большие, открытые, блестящие, живые, ясные. Челюсти крепкие, сильные, белозубые, без малейшего изъяна. Мускулатура сухая, хорошо развитая. На высокой могучей холке дыбится золотисто-йодистое ожерелье длинной шерсти. На крепкой, прямой и широкой спине лежит ремнем узкая коричневая полоса. Небольшие, но и не маленькие уши, широкие в основании и узкие вверху, стоят как жестяные флажки. Круп идеально округлый, с заметным покатом вниз, в сторону хвоста. Хвост длинный, пружинистый, равномерно пушистый. Ни одного нежелательного для чистой породы белого пятнышка на лапах, груди и морде. Не собака, а картинка. Засмотрелись мы на Джека. Лейтенант Николаев измерил складным сантиметром высоту собаки в холке. — Шестьдесят восемь! — шумно обрадовался он. — На целых пять сантиметров выше нормы.
Все, кажется, ясно, собаку надо брать. Но лейтенант все ходит вокруг, вглядывается и так и сяк и этак, ищет какие-то изъяны. Наконец вздыхает, смотрит на меня и говорит:
— Цены не было бы Джеку, если бы встретил он нас, оскалив пасть. Добряк! Видишь, как хвостом виляет.
Хозяйке стало обидно за Джека.
— Зачем же ему скалиться на вас, товарищ лейтенант? Слава богу, не фашист, а свой человек да еще пограничник! Помнит он свою службу на границе.
— Вы думаете?
— Уверена. Вообще-то он очень злой. Чуткий. Послушный.
— Проверим!.. Сидеть, Джек! — скомандовал Николаев и слегка нажал на круп собаки.
Овчарка неуверенно и не сразу сделала то, что от нее потребовали. Сидела у ноги лейтенанта и облизывалась.
Николаев щелкнул пальцами и подал новую команду.
— Голос! Голос! Голос!
После трехкратного приказания собака залаяла, но не очень энергично и охотно.
— Навыки дрессировки приглушены, — сказал лейтенант. — Ничего, восстановим. Берем, мамаша, на службу вашего Джека. Приходите завтра и получите деньги. Такие собаки дорого стоят.
— Что ты, сынок? Как не стыдно такие слова говорить? Да разве я ради денег сберегала? Так берите.
— Ну что ж, возьмем и так. Очень мы в нем нуждаемся. Большое вам спасибо. Пошли, Джек!
— Постойте, товарищи! Дайте мне попрощаться с ним.
Она нагнулась, поцеловала собаку в черный нос.
— Будь здоров, псина! Служи верой и правдой. Теперь иди!
И он пошел. Чудеса! Других людей, кроме хозяйки, не подпускал к себе, а с лейтенантом пошел сразу, без всякого сопротивления. Резво бежал рядом, у левой ноги, и не оглянулся на дом, где прожил три года.
Может быть, и в самом деле он все еще помнит запах границы, пограничников? Может быть, оттого и ласков с лейтенантом? Но если так, почему же он равнодушен ко мне? Я тоже в зеленой фуражке. Не вызвал симпатии?
Знаю, не в ладу с наукой мои слова. И все-таки я от них не отказываюсь. Более четверти века дружу с собачьим народом. Прошла через мои руки не одна дюжина розыскных овчарок. Прочитал все, что написали о собаках знаменитые русские ученые: Иностранцев, Анучин, Богданов, Браунер, Боголюбский, Смирнов. Ценю их работы, учился по ним и теперь учусь. Но в то же время в характере собак, в их поведении я подмечал и кое-что такое, о чем не говорится в учебниках и что нельзя объяснить только условным и безусловным рефлексом и физиологией. Я, кажется, опять немного отвлекся.
Он тихо смеется.
— И еще не раз буду отвлекаться. Жизнь границы и моя жизнь — это не только нарушители, погоня за ними. Ну ладно, не будем спорить. Короче говоря, я основательно опираюсь на ученых, надеюсь на них, но краем глаза продолжаю смотреть на собаку обыкновенно, то есть как смотрит на них большинство людей, не читающих специальных книжек и не боящихся приписывать своим четвероногим друзьям некоторые человеческие качества.
Ну. Идем мы по безлюдным улицам Рава-Русской. Крайний слева — Джек. Рядом, в центре, лейтенант, а я справа. День. Сияет солнце. Небо чистое. Сколько дней прошло, пролетело, а я до сих пор почему-то помню, хотя ничего особенного не случилось, как мы шли. Гулко стучат по булыжнику наши солдатские кирзовые. Собачьих шагов не слышно. Джек идет мягко, пружинисто, с низко опущенной головой.
Шли, шли и вдруг остановились. Николаев погладил собаку, заглянул ей в глаза.
— Откуда ты, Джек? Какая у тебя родословная? Кто обучил тебя пограничному уму-разуму? На какой заставе служил? Что хорошего успел сделать в своей жизни? Какой добрый след оставил на границе? Как звали твоего дружка-инструктора? Где он теперь? Жив? Убит? Пропал без вести? Дошел до Берлина? Вернулся домой без руки или ноги?
Собака смотрела на Николаева своими большими умными глазами и, казалось, все понимала.
Я засмеялся.
— Много сразу вопросов задаете, товарищ лейтенант.
Николаев не отозвался на мою улыбку, хотя обычно беспрестанно, как и я, расплывался в улыбке. Сейчас лицо его было задумчивым, печальным.
— Трагическая история у Джека. Многое он мог бы рассказать… Саша, ты должен его полюбить. И тогда, только тогда заглянешь в его собачью душу.
— А разве?..
— Есть, Сашок, и у собак душа! — он взглянул на меня лукаво и засмеялся.
— А как же наука?
— Верь науке, все там правильно. Но и себе, своему чутью доверяй. Без этого никогда не станешь хорошим следопытом…
Вот как говорил начальник службы собак, ученый человек Николаев. Теперь вы поняли, откуда мое отношение к собакам? Да, мы с товарищем Николаевым оказались единомышленниками в этом вопросе. С наукой не ссорились, но и собственным опытом не пренебрегали. Плохой тот инструктор и следопыт, который чувствует себя только дрессировщиком. Человека в себе не надо глушить даже в отношениях с собачьим народом. Ну!..
Хорошо бы вам, прежде чем начнете писать книгу, повидаться с товарищем Николаевым, поговорить с ним. Живет он недалеко от Москвы, можно сказать, по соседству с вами, на окраине города Подольска, в бывшей деревне Сырово. Поедем, а? Вот обрадуется мой тезка! Его тоже зовут Александром. Александр Михайлович Николаев.
— Шестьдесят восемь! — шумно обрадовался он. — На целых пять сантиметров выше нормы.
Все, кажется, ясно, собаку надо брать. Но лейтенант все ходит вокруг, вглядывается и так и сяк и этак, ищет какие-то изъяны. Наконец вздыхает, смотрит на меня и говорит:
— Цены не было бы Джеку, если бы встретил он нас, оскалив пасть. Добряк! Видишь, как хвостом виляет.
Хозяйке стало обидно за Джека.
— Зачем же ему скалиться на вас, товарищ лейтенант? Слава богу, не фашист, а свой человек да еще пограничник! Помнит он свою службу на границе.
— Вы думаете?
— Уверена. Вообще-то он очень злой. Чуткий. Послушный.
— Проверим!.. Сидеть, Джек! — скомандовал Николаев и слегка нажал на круп собаки.
Овчарка неуверенно и не сразу сделала то, что от нее потребовали. Сидела у ноги лейтенанта и облизывалась.
Николаев щелкнул пальцами и подал новую команду.
— Голос! Голос! Голос!
После трехкратного приказания собака залаяла, но не очень энергично и охотно.
— Навыки дрессировки приглушены, — сказал лейтенант. — Ничего, восстановим. Берем, мамаша, на службу вашего Джека. Приходите завтра и получите деньги. Такие собаки дорого стоят.
— Что ты, сынок? Как не стыдно такие слова говорить? Да разве я ради денег сберегала? Так берите.
— Ну что ж, возьмем и так. Очень мы в нем нуждаемся. Большое вам спасибо. Пошли, Джек!
— Постойте, товарищи! Дайте мне попрощаться с ним.
Она нагнулась, поцеловала собаку в черный нос.
— Будь здоров, псина! Служи верой и правдой. Теперь иди!
И он пошел. Чудеса! Других людей, кроме хозяйки, не подпускал к себе, а с лейтенантом пошел сразу, без всякого сопротивления. Резво бежал рядом, у левой ноги, и не оглянулся на дом, где прожил три года.
Может быть, и в самом деле он все еще помнит запах границы, пограничников? Может быть, оттого и ласков с лейтенантом? Но если так, почему же он равнодушен ко мне? Я тоже в зеленой фуражке. Не вызвал симпатии?
Знаю, не в ладу с наукой мои слова. И все-таки я от них не отказываюсь. Более четверти века дружу с собачьим народом. Прошла через мои руки не одна дюжина розыскных овчарок. Прочитал все, что написали о собаках знаменитые русские ученые: Иностранцев, Анучин, Богданов, Браунер, Боголюбский, Смирнов. Ценю их работы, учился по ним и теперь учусь. Но в то же время в характере собак, в их поведении я подмечал и кое-что такое, о чем не говорится в учебниках и что нельзя объяснить только условным и безусловным рефлексом и физиологией. Я, кажется, опять немного отвлекся.
Он тихо смеется.
— И еще не раз буду отвлекаться. Жизнь границы и моя жизнь — это не только нарушители, погоня за ними. Ну ладно, не будем спорить. Короче говоря, я основательно опираюсь на ученых, надеюсь на них, но краем глаза продолжаю смотреть на собаку обыкновенно, то есть как смотрит на них большинство людей, не читающих специальных книжек и не боящихся приписывать своим четвероногим друзьям некоторые человеческие качества.
Ну. Идем мы по безлюдным улицам Рава-Русской. Крайний слева — Джек. Рядом, в центре, лейтенант, а я справа. День. Сияет солнце. Небо чистое. Сколько дней прошло, пролетело, а я до сих пор почему-то помню, хотя ничего особенного не случилось, как мы шли. Гулко стучат по булыжнику наши солдатские кирзовые. Собачьих шагов не слышно. Джек идет мягко, пружинисто, с низко опущенной головой.
Шли, шли и вдруг остановились. Николаев погладил собаку, заглянул ей в глаза.
— Откуда ты, Джек? Какая у тебя родословная? Кто обучил тебя пограничному уму-разуму? На какой заставе служил? Что хорошего успел сделать в своей жизни? Какой добрый след оставил на границе? Как звали твоего дружка-инструктора? Где он теперь? Жив? Убит? Пропал без вести? Дошел до Берлина? Вернулся домой без руки или ноги?
Собака смотрела на Николаева своими большими умными глазами и, казалось, все понимала.
Я засмеялся.
— Много сразу вопросов задаете, товарищ лейтенант.
Николаев не отозвался на мою улыбку, хотя обычно беспрестанно, как и я, расплывался в улыбке. Сейчас лицо его было задумчивым, печальным.
— Трагическая история у Джека. Многое он мог бы рассказать… Саша, ты должен его полюбить. И тогда, только тогда заглянешь в его собачью душу.
— А разве?..
— Есть, Сашок, и у собак душа! — он взглянул на меня лукаво и засмеялся.
— А как же наука?
— Верь науке, все там правильно. Но и себе, своему чутью доверяй. Без этого никогда не станешь хорошим следопытом…
Вот как говорил начальник службы собак, ученый человек Николаев. Теперь вы поняли, откуда мое отношение к собакам? Да, мы с товарищем Николаевым оказались единомышленниками в этом вопросе. С наукой не ссорились, но и собственным опытом не пренебрегали. Плохой тот инструктор и следопыт, который чувствует себя только дрессировщиком. Человека в себе не надо глушить даже в отношениях с собачьим народом. Ну!..
Хорошо бы вам, прежде чем начнете писать книгу, повидаться с товарищем Николаевым, поговорить с ним. Живет он недалеко от Москвы, можно сказать, по соседству с вами, на окраине города Подольска, в бывшей деревне Сырово. Поедем, а? Вот обрадуется мой тезка! Его тоже зовут Александром. Александр Михайлович Николаев.
С главной крымской магистрали сворачиваем влево. Проезжаем немного по узкой улочке, еще раз сворачиваем и метров через двести попадаем в Сыровский зеленый-презеленый и прохладный переулок. Перед домом № 15 останавливаемся. Смолин выскакивает из машины и отправляется на разведку. Минут через пять выходит со двора в обнимку с человеком, на котором старая ватная фуфайка, на голове какой-то плоский, должно быть, еще бабушкин берет с мышиным хвостиком, руки в липком садовом черноземе. Это подполковник в отставке Николаев. Пограничник стал садоводом любителем. Садовничает по вечерам и выходным. После демобилизации работает на одном из подольских заводов старшим инженером. Там же, в должности инженера трудится и его жена. Старшая дочь уже закончила машиностроительный институт, младшая перешла на третий курс. Ему не меньше пятидесяти, но выглядит он не старше Смолина. И такой же щедро улыбчивый, как и в годы молодости. Я никогда прежде не видел Николаева. Знаю только по рассказам Смолина. Но я бы узнал его только по одной этой обаятельной улыбке, открытой, как у детей, доверчивой, чистой, пробуждающей у вас самые добрые чувства. Приехали мы к Николаеву на вечерней заре, а уехали перед восходом солнца. Ужинали, Говорили. Выходили, в сад, дышали свежим воздухом, курили. Пили чай и опять говорили. Во всех подробностях восстанавливала послевоенную жизнь на западной границе, боевую дружбу начальника службы собак отряда Николаева и следопыта, инструктора Смолина. Возвращались мы к себе в Переделкино утром, по росе. Окружная дорога безлюдна. Первые лучи солнца золотят вершины деревьев подмосковных лесов. Я молча веду машину, а Смолин рассказывает…
Собака и человек
В первое время на границе мы так были неустроены, так бедны, что у нас в отряде не нашлось для Джека даже будки или какого-нибудь сарайчика. Николаев привязал собаку в конюшне и, улыбаясь, сказал мне: — Давай, Саша, опекай этого красивого кавалера, готовь к охране границы. Посмотрим, что из него получится. Боюсь, староват он, не восстановит того, что знал когда-то. Но делать нечего. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Действуй! Я не просто стал опекать Джека, но прямо-таки вцепился в него. Сначала он закапризничал. Николаева сразу признал, а меня держал на расстоянии, как чужого. Будто знал, что я новичок и только поверхностно, не до костей пропитался пограничным духом. На другой день, когда я пришел в конюшню, он облаял меня, скалил зубы. Пришлось терпеливо ухаживать за ним, как и Газоном, приручать к себе с помощью кормежки, четыре дня он держал меня на расстоянии. На пятый позволил вывести себя из конюшни на выгул. На шестой стал с ним заниматься. Плохо Джек работал. Прочно забыл, как идти по следу. Смутно помнил аппортировку, не выполнял простой команды: «ко мне», «лежать», «рядом», «стоять», «ползи», «фас». Вечером, усталый, опечаленный, пришел я к Николаеву, доложил. Лейтенант усадил меня за стол, угостил вареной картошкой с селедкой, чаем. Я ел вкусный домашний харч, от которого давно отвык, а лейтенант утешал меня. — Не отчаивайся, Саша. Собака стоит того, чтобы с ней повозиться. Да и нет у нас другого выхода: границе нужен следопыт. И как можно скорее. Отправим тебя завтра в школу вместе с Джеком. Там он быстро восстановит дрессировку. Долго мы не расставались в ту ночь с лейтенантом. Пили чай и говорили. И все больше о собаках. Слушать нас со стороны, наверное, было не интересно, но мы не скучали, а я — особенно. Раньше Николаев понравился мне как мягкий, доброжелательный человек. Теперь я открыл в нем любителя и друга собак. Все знает о собаках. И умеет рассказывать. Повезло мне. Слушаю его и радуюсь. Взял он меня за руку и увел далеко-далеко от наших дней, от нашей цветущей земли — в древнекаменный век четвертичной эры. И не блуждает в потемках. Чувствует себя в доисторической эпохе по-свойски, как дома. — Ни городов, ни деревень, ни дорог, ни железа, ни мостов, ни огня, ни хлеба, ни одежды в то время еще не было. И людей, какие мы теперь, не было. И собак не было. Были дикие животные. Но вот человек нашел способ добывать огонь — сначала веретеном, потом кресалом. И запылал огонь в пещере человека древнекаменной эры. Он и согревал моего предка, и защищал от диких зверей, и сближал его с другим человеком. Первый свой митинг люди провели у костра. Да, Саша, да! Первую радость братства испытали тоже у костра. Щеки у лейтенанта раскраснелись, будто он и в самом деле сидит у костра. Глаза горят. Слова тоже горячие. — Прошло время, и человек догадался приручить и своего лютого врага — волка. Сделал его домашним животным. Первым другом человека были не корова, не лошадь, не овца, не курица, не свинья, а собака. Не забывай об этом, Саша. Сорок тысяч лет дружат люди и собаки. Собака предупреждала людей о нападении хищных зверей. Помогалаохотиться. Охраняла стада. Таскала тяжести во время перехода с одной кочевки на другую. Впрягалась в сани. Стояла на страже крепостных стен. Облачалась в металлический панцирь с колючим ошейником. Сопровождала египетских стрелков из лука. Нападала на врагов своих друзей и преследовала их. Шла в головной шеренге впереди рабов, впереди свободных бойцов. Охраняла обозы от нападения неприятельской конницы. И даже иногда склоняла чашу весов войны в пользу тех, кому служила. Так случилось во время войны Испании с Францией, в знаменитом сражении под Валенсией. Четыре тысячи собак-бойцов помогли Испании одержать победу. Все армии мира, все полководцы ценили четвероногих воинов. В военных походах Петра Великого его личная собака разносила во все концы полей сражения царские приказы. Собаки сопровождали русские войска на Кавказе, в войнах с турками. Они были зачислены «на пайки от казны», как и солдаты. Сторожили. Ходили в боевые охранения. Сидели в секретах. Подносили патроны. Доставляли на командные пункты донесения. Хорошо служил собачий народ. И все-таки первый в России питомник военно-полевых собак был создан в Измайловском полку только в 1912 году. В империалистическую войну в царской армии было всего триста служебных собак. Англия, Франция и Бельгия, вместе взятые, имели столько же. А одна кайзеровская Германия бросила в бой тридцать тысяч немецких овчарок. После своего поражения Германия, согласно Версальского договора, передала странам-победительницам не только оружие, но и несколько тысяч своих овчарок. И мы, как ты знаешь, в эту войну заставляем работать собак на победу. Наши четвероногие друзья ищут мины, спрятанную взрывчатку, тайные склады оружия. Охраняют военные объекты. Вытаскивают с передовых раненых. Такова, Саша, краткая история боевых собак. Вспоминай ее почаще, работая с Джеком. На другой день меня и Джека отправили в школу. Были мы там сравнительно недолго. Мой Джек в считанные дни восстановил угасшие рефлексы. По учебному следу стал ходить так, что удивлял даже бывалых инструкторов. Через два месяца мы вернулись домой высокообразованными, зная самые новейшие ухищрения, к которым прибегали нарушители границы. Николаев встретил нас со своей неизменной улыбкой. — Ну, школьники, как дела? — Лучше всех, товарищ лейтенант. Любое испытание выдержим. — Проверим! Приказал одному солдату обмундироваться в дрессировочный костюм и проложить слепой след на пять километров. Лесом. Полем. Оврагом. По болоту. Пересечь не менее трех раз какую-нибудь речушку. Зайти в село. Побывать в доме. Выйти. Скрыться где-нибудь в надежном месте и ждать. Солдат ушел в четыре часа дня, а Николаев отправил нас работать только в шесть. Усложнил задачу. Ничего. Джек не оскандалился. Даже все острые, тупые и прямые углы брал верхним чутьем, на хорошей скорости. Хитроумные петли, сделанные солдатом, проскакивал и брал прямую линию следа. Не отчаивался, не паниковал, не мельтешил, когда подходил к речке. Уверенно входил в воду и на той стороне быстро брал след. В деревне, среди людей, животных и множества посторонних запахов не отвлекался от цели, не терял ее, шел прямо к ней. В общем, нашел «нарушителя», потрепал его как следует за ватный рукав, удовлетворил свою злобу. Я не рассказываю подробно об этом показательном поиске потому, что впереди у нас много всамделишних, с выстрелами, с боем, с кровью.
 Николаев все пять километров бежал вместе со мной, чуть сзади, контролировал нас с Джеком и ни одним словом не подбадривал, хотя мы работали на совесть. Не очень похвалил нас и на финише. Раньше, до школы он был добрее.
— Ничего пока работает собачка. Весело. Посмотрим, как она в настоящих условиях во время боевой тревоги на границе поведет себя. Это и к вам, Смолин, относится. Так что настоящее испытание впереди. На границе.
Николаев все пять километров бежал вместе со мной, чуть сзади, контролировал нас с Джеком и ни одним словом не подбадривал, хотя мы работали на совесть. Не очень похвалил нас и на финише. Раньше, до школы он был добрее.
— Ничего пока работает собачка. Весело. Посмотрим, как она в настоящих условиях во время боевой тревоги на границе поведет себя. Это и к вам, Смолин, относится. Так что настоящее испытание впереди. На границе.
Вот и граница. Ночь. Небо низкое, темное. Ни одной звезды. Деревья черные, мохнатые. Накрапывает дождь. Ни человека вокруг, ни огонька, ни искорки. Сырой ветер позванивает колючей проволокой, гудит в телеграфных проводах нашей пограничной линии. Прямо напротив куста, под которым лежу я, мой помощник, солдат-первогодок и Джек, на той стороне узкой вспаханной полосы — чужая сопредельная земля. Оттуда мы ждем появления нарушителя. Самое удобное место для перехода границы. Лощина с ручьем. Кустарник. Камни. Сусликовые курганчики. Заросли бурьяна. Ждем час, два, три. Молчим. Не шелохнемся. Не курим, конечно, хотя и хочется — уши даже опухли. Смотрим и смотрим на запад. До того взгляд напряжен, а слух обострен, что в глазах двоится и чьи-то шаги слышатся, шорох какой-то, перешептывание. Один раз примстилось даже клацанье затвора. Пора перевести дыхание. Я нажимаю на плечо товарища, отдаю тихо команду: — Перекур! Опрокидываемся на спину, лицом к небу. Автоматы кладем на грудь. Джек несет службу, слушает, вглядывается в темень, а мы преспокойно отдыхаем. Хорошо! Славно. От головы отливает кровь. Руки и ноги стали легкими. Свободнее, радостнее бьется сердце. Не шумит в башке. Тот, кто не служил на границе, не лежал вот так в ночном наряде, в своем первом наряде, сливаясь с землей, с травой, с ночью, тот и представить себе не может, как утомительна эта тихая работа. Тяжести таскать легче, честное слово. Весь напряжен как струна: зрением, слухом, обонянием, ожиданием. Каждое мгновение ждешь появления врага. Все время сжимаешь автомат. Все время готов стрелять и преследовать. Лежишь и бежишь. Заглядываешь вперед, что может произойти: какую позицию ты займешь, а какую враг, что он сделает и чем ты ему ответишь. В общем, переживаний хватало. Иной раз сердце так колотилось, что на той стороне, за границей, казалось, было слышно. Первая моя ночь на границе, самая длинная, самая трудная. Вторая будет не такой трудной и длинной. Сотая покажется легкой. Тысячная пролетит незаметно. Ничего не произошло в первую ночь. Не было даже ложной тревоги. Но почему же она так памятна мне, так запала в душу? И поныне слышу тревожный, глухой гул ветра. И поныне шумит своими влажными листьями ракитовый куст. И поныне чувствую теплоту плеча напарника. И поныне слышу его шепот: — Ползет, кажется. Смотри, смотри!.. Первая любовь, первая работа, первая тревога, первое самостоятельное дело никогда не забываются.
Первые нарушители
Ночью, часа в три или четыре, я уже успел выспаться, меня разбудил Николаев. — Подъем, Смолин! Тревога! Я вскочил. Пока одевался и обувался, Николаев рассказал, что случилось. Пограничный наряд в составе трех человек, из резервной заставы майора Копытова, кем-то был обстрелян на проселочной дороге. Двое солдат ранено. Неизвестные скрылись в лесу, направились в тыл. Все произошло час тому назад. Диверсанты успели, очевидно, далеко убежать. — Ставь Джека на след и преследуй. Засовываю в карманы пистолет, легкие гранаты, пристегиваю к ремню подсумок с боеприпасами. Хватаю автомат и бегу в конюшню к Джеку. Собака уже на ногах, предельно возбуждена: нетерпеливо скулит, натягивает поводок, рвется в бой. Еще одна новость и загадка! Никогда раньше во время учебных тревог он так себя не вел. Как Джек узнал о настоящей тревоге? Предчувствие? Услышал топот солдатских ног в казарме, повелительные голоса командиров, бряцанье оружия? Условный рефлекс воскресил в его памяти прежние тревоги на той заставе, где он служил до войны? Не знаю, в чем дело, но радуюсь. Группу преследования возглавлял капитан Приходько. В помощники мне был выделен ефрейтор Нестеров, высокий, сильный и выносливый, как сразу я определил, парень. Прибежали мы на то место, где было совершено нападение. Зажгли два керосиновых факела. На пыльной проселочной дороге хорошо были видны отпечатки, оставленные телами раненых. И следы крови еще хорошо сохранились. Уцелевший солдат из наряда рассказал мне и капитану Приходько, откуда и как стреляли диверсанты, куда ушли. Я пустил Джека на правую обочину, в сторону леса. Покрутившись немного метрах в ста от дороги, на опушке леса, он встал на след и помчался. Я приказал ефрейтору Нестерову не отставать и побежал за собакой. Видели вы, как лошадь тащит за собой по снежной целине на веревке лыжника? Вот так и Джек мчал меня на длинном поводке. Да не по снегу, а по траве, по земле, через рытвины и дождевые лужи. Лошадь, а не собака. Еле успевал за ней. Вот когда я по-настоящему узнал, какой силой наделен мой Джек. Не смог я его сразу удержать, когда захотел это сделать. Вот тебе и старик. Зря беспокоился Николаев. Седеющий Джек моложе всякого трехлетка. Он еще повоюет. Ветер свистит в ушах. Ветви хлещут по лицу — еле увертываюсь, чтобы спасти глаза. Деревья сливаются в сплошной частокол, будто мчусь мимо них на автомобиле. Нестерова не вижу. Слышу только за спиной его топот и шумное дыхание. Молодчина. Не отстает. Редко кому это удается. Видно, натренированный бегун. Знал майор, кого дать мне в помощники. Самого Приходько и его группы преследования не слышно. Давно отстали. Ничего, по выстрелам и крикам обнаружат нас. По сигнальной ракете. Подоспеют на помощь, когда дело дойдет до развязки. Ничуть я не беспокоился, что вырвался с Нестеровым вперед. Лесная просека вывела нас в топкую низину, к широкому ручью. У самой воды Джек впервые остановился. Туда-сюда тычет носом, жалобно скулит. Потерял след. Я достал коробок спичек и осветил берег. На пепельно-черной, податливой, как резина, земле ясно отпечатались подошвы пяти пар сапог большого размера. Ого! Пятеро! И все навьючены автоматами, гранатами, боеприпасами и, может быть, пулеметами. Люди, идущие налегке, не оставляют таких глубоких, как калоши, вмятин с особенным нажимом на каблук. На той стороне ручья, напротив меня, следов не было. Известная уловка. Диверсанты прошли какое-то расстояние по воде, смывающей следы. Куда они направились? Вверх или вниз по течению. Скорее всего вверх — там место глуше. Почему я так решил? Не знаю. Чутье, наверное, подсказало. И я не ошибся. Диверсанты прошлепали по воде до узкой горловины оврага и вышли на берег в затылок друг другу. Следы еще мокрые. Были они тут час тому назад или полтора. Всего-навсего. Значит, они где-то близко. Еще километров семь-восемь погони — и все. Остановка у ручья позволила группе преследования догнать нас. Капитан Приходько прерывисто дышал. Его широкое, с заметными морщинами лицо сплошь обсыпано крупными каплями. Из-под фуражки выбивался темный мокрый чуб. Тяжело было ему проделать такой ночной кросс по пересеченной местности. Человеку под сорок. Ранен на войне, нога повреждена, сердце пошаливает. — Ну, как, Смолин, дела? — чуть отдышавшись, спрашивает Приходько. В темноте он не видел отпечатков. — Все в порядке, товарищ майор. Стоим на следу. Их пятеро. Сильно вооружены. Бывалый пограничник не стал допытываться, как я узнал, что диверсантов пятеро и что они вооружены. Все понял. И сказал: — Не зарывайся, Смолин. Действуй с оглядкой на нас. Твое дело проработать след до конца. Лишь в самом крайнем случае вступай в бой. — Я вас понял, товарищ капитан. Разрешите продолжать преследование? — Давай, браток, давай! Да, пожалуйста, береги себя. Так странно, так по-штатски прозвучало это слово «пожалуйста». Приходько обнял меня и подтолкнул вперед, в предрассветную темноту. Джек потащил нас с Нестеровым в глубь оврага, заросшего кустарником. Холодная роса сыпалась с ветвей. Метров через двести мы стали мокрыми с головы до ног, отяжелели. Трудно было идти еще и оттого, что ложе оврага поднималось в гору. Сквозь поредевшие ветви уже проглядывало сильно побледневшее небо. На нем было мало звезд. И оно было красноватое по самому краю, там, где всходит месяц. Мы выскочили из темного оврага на простор. И без огня теперь видно, куда мы попали. Безлесая равнина. Через пшеничное поле пробита дорога. Джек сразу бросился влево. Но, пробежав немного, остановился, закружился на месте. Сделал три или четыре петли и потащил нас назад, откуда мы выбрались. Ясно! Нарушители здесь какое-то время отдыхали или стояли и решали, куда пойти. Потом туда и сюда метнулись. И, может быть, спорили: одни тянули направо, другие — налево. Если это так, значит, у них раздор. Они не признают командира; неуверенны в себе. Так я подумал, изучая истоптанные следы на дороге. Нельзя преследовать врага бездумно, на авось, надеясь только на собачку и свои крепкие ноги и здоровое сердце. Мчись во весь дух, не давай нарушителю оторваться от тебя на далекое расстояние, все время наступай ему на пятки. Но одновременно успевай размышлять, что да как и почему. Летчик-истребитель все успевает делать за считанные секунды: и за приборами следить, и за небом, и за землей, и маневр рассчитывает. Работа пограничника тоже больше умственная, чем физическая. Следопыт, если он даже хорошо, как олень, бегает, метко стреляет, собаку куда надо нацеливает, по следу здорово ходит, но плохо и не вовремя размышляет, после драки кулаками машет, — такой следопыт наломает дров, подведет границу… Но все это, что я теперь говорю, пришло ко мне не сразу, не в ту ночь, а гораздо позже. Тогда же, над оврагом, я только-только начинал по-настоящему вникать в пограничную службу. Побежали мы с Нестеровым дальше. Минут десять мчались по удобному месту — по дороге. Потом Джек круто свернул вправо и привел нас в заросший бурьяном, местами обсыпавшийся, с обвалившимися краями танковый ров. Вырыли его лет пять назад, в первые дни войны. Сохранился целехоньким, не поврежден нигде ни единой гусеницей. Километра три тянулся он с юга на север, рассекая пшеничное поле. Когда мы выбрались из него, месяц поднялся высоко. Пробежали мы, судя по времени, километров пятнадцать. Это по прямой. Если же учесть все зигзаги и петли, то больше двадцати наберется. Хороший рывок сделали диверсанты от места своей засады. Небось уверены, что надежно оторвались, запутали следы. Может быть, и вовсе не думают, что их преследуют. Предполагают, что свидетелей преступления не осталось. Только утром, по их расчетам, пограничники должны обнаружить убитых. Следопыт должен думать и за противника. Стараться угадывать его замыслы, планы, ходы, И не надо бояться ошибки. Во всяком деле бывают промахи. Но меньше сшибается тот, кто умеет фантазировать. Так все оно и есть. Поверьте моему пограничному опыту. Джек тащит нас от танкового рва в небольшой лесок. Прочесали его насквозь. Выбегаем на опушку и видим большое село. Это Гича. Далеко от границы, Бывал я здесь раза три. Знаю все его ходы и выходы. Нарушители в этом селе затаились. Непременно здесь. Не осмелились идти дальше. Им нужна ночь, безлюдные глухие овраги, сырые и темные леса. Они боятся солнца, людей. Но кто-то их все-таки приютил. Скрытые бандеровцы? Старые дружки? Врываемся в село не по главной улице, а задами, огородами. Такова воля Джека. Он бежит там, где прошли нарушители. Трудно было ему работать в лесу и овраге, где деревья, травы и цветы, кустарники источают массу эфирных запахов и заглушают знакомый след людей. Еще труднее ориентироваться в населенном пункте, где тьма-тьмущая посторонних запахов. Куры, голуби, гуси, свиньи, овцы, лошади, коровы, их сильные запахи сбивают Джека со следа, преграждают дорогу к цели. Я это знаю и то и дело натягиваю поводок, чтобы собака не спешила, не нервничала. Подбадриваю ее словами: «хорошо, хорошо». Пробился Джек через все преграды. Обоняние у него молодое, сильное, безотказное. И мысленно я подбадриваю своего друга: давай, Джек, давай, милый, ищи! Отличись, Оправдай надежды. Подходим к дому. Крыша под белым железом. Стены кирпичные. Ставни крепкие, с запорами, разрисованные. На крылечке рычит здоровенный лохматый пес. Ну, все, подумал я, пропала наша операция. Дальше дорога Джеку заказана. Забудет про свою работу, сцепится с дворовым псом, утеряет запах нарушителей. Плохо я еще знал его. Недооценил. Промчался он мимо крыльца. Полное равнодушие к бедному родственнику. Выбежал на средину двора. Постоял там, повертел туда-сюда носом, разобрался, что к чему, и бросился к закрытым воротам. Так был возбужден, так нетерпелив, что даже взвился на задние ноги, а передними царапал доски, подавал знак: там, мол, на другой стороне ворот наши с тобой враги. Я ударом ноги распахнул ворота, выскочил вслед за Джеком. Но он не побежал на улицу. Остановился, сделал широкую петлю и устремился обратно во двор. Но уже другим путем. Перемахнул через невысокую каменную ограду и, не отрывая головы от земли, фыркая, словно прочищая ноздри, понесся к клуне — к большому и высокому сараю, где молотят в плохую погоду и хранят солому и сено. Дверь в сарай чуть приоткрыта. Джек лезет в узкую щель. Прет напролом, бока обдирает. Но я не пускаю его далеко внутрь. Так, на всякий случай. Тащу изо всей силы назад и думаю: неужели здесь затаились нарушители? Неужели задержим? С такими мыслями и раскрыл обе половины двери. О собаке успел позаботиться, а про себя, про то, что нас с Нестеровым могут продырявить, забыл. Забыл и про свой автомат. Он висит на шее. У меня в руке обыкновенный офицерский пистолет. Разве с ним одолеешь вооруженных до зубов диверсантов? Никогда больше не повторял я этой ошибки. Входим в полутемный сарай, набитый сеном, и видим соломорезку, а на ней — большую поливанную чашку и пять деревянных ложек. Ясная картина! Только что отобедали дорогие гости и теперь, наверное, отдыхают. Где же они устроились? Я бросаю беглый взгляд направо и налево, на вороха соломы. И тут же слышу щелк запала гранаты и душераздирающий вопль Нестерова: — Са-а-а-а-а-шка! Не столько предостерегающий крик моего напарника, сколько характерный звук взведенной гранаты подействовал на меня. Всякий солдат, провоевавший на фронте, хорошо знает, что ему полагается делать вот в такие критические секунды. Если хочешь остаться живым, не зевай: изворачивайся ужом, подпрыгивай как горный козел и лети как пуля. Я выскочил из сарая вместе с Джеком, упал на землю вниз лицом. Все было сделано вовремя. В то же мгновение там, где мы были несколько секунд назад, взорвалась граната. Мимо! Живы! Невредимы! Как раз к этому времени, к началу боя подоспела вся наша группа преследования. Мы окружили сарай. — Выходи по одному! — приказал капитан Приходько. Не выходят ни по одному, ни гуртом. Молчат. Капитан повторяет приказ: — Выходи! Если через две минуты не сложите оружие… Нарушители не ждут, пока истекут две ультимативные минуты. Открывают стрельбу. И автоматы и ручной пулемет бьют туда, откуда отдавал свой приказ Приходько. Мы ответили. Трассирующие пули подожгли клуню. Огонь и густой белый дым наполнили двор. Стало нестерпимо жарко. Мы с Джеком отползли подальше, на огород. Огонь набирал силу. В сарае начали рваться боеприпасы. Запахло паленым. — Прекратить стрельбу! — голосом, который можно было услышать и под землей, приказал капитан Приходько. И, немного помолчав, добавил, уже не для нас, а для нарушителей: — Выходите во двор, если не хотите сгореть живьем. Молчат. Не желают сдаваться. Или уже задохлись в дыму? Я лежал с Джеком в зеленой густой кукурузе, смотрел на сарай. И опять оплошал. Я был уверен, что все уже кончено, и автомат отложил в сторону. Было такое некрасивое дело, было, каюсь. Не сразу я стал таким Смолиным, какого в кинокартине «Над Тиссой» и по телевизору показывают. Не один год прошел, прежде чем пограничного ума-разума набрался. Пожалуйста, не вычеркивайте из моего рассказа это место, когда будете писать книгу. Обещаете? Вот спасибо. Ну! Лежали мы в кукурузе, смотрели на огонь. Джек сделал стойку, насторожился, подал мне знак. Прямо из пожарного пекла, весь в дыму, выползает лохматый и бородатый мужик. Да не кое-как. Ловко, быстро, по-змеиному. Я поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Попал. Дернулся нарушитель. Ранен, но не смертельно: послал он мне встречные пули из маузера. Одну, другую, третью. А я ему не отвечаю: перекосило патрон в стволе. Ругаюсь, силюсь ввести оружие в строй, а про то, что автомат рядом со мной лежит, забыл. Виноват, конечно, но достоин и сочувствия. Первый бой принял на границе, с первым нарушителем столкнулся. Через такое проходят все, почти все новички. Эта моя схватка в деревне Гича была бы первой и последней, если бы не напарник Нестеров. Он доконал автоматной очередью маузериста. Подошли мы к нему, повернули, постояли над ним. Голова косматая, морда опухшая, заросшая до ушей жестким волосом. Не хватает двух передних зубов. На плечах драная, прожженная в нескольких местах телогрейка. На ногах хромовые, с твердыми лакированными голенищами офицерские сапоги немецкого пошива. На левой руке на указательном пальце толстое золотое кольцо. Клуня сгорела дотла. Мы нашли в золе останки еще четверых. И обгоревшие до ржавчины железные части автоматов и ручного пулемета. Ни фамилии, ни имени, ни места рождения, откуда и куда шли — ничего этого не установили. Безымянные. Без роду и племени. Да, я забыл сказать, как вел себя Джек в разгар этой операции. Как только взорвалась вражеская граната, он весь ощетинился и стал злобно лаять на сарай. Мы стреляли, а он лаял. Бушует огонь, трещат, падают деревянные балки, а он все лает. До хрипоты налаялся. Присмирел, подобрел, когда обнюхал обугленное железо и кости. Очень был доволен. Всю обратную дорогу искал моего взгляда, прижимался к моей ноге, руку лизал. И я готов был лизать ему лапу. Честное слово. Любил я его и раньше, но в ту боевую ночь я прикипел к нему сердцем. Убедился, что он не подведет ни меня, ни границу. Товарищ! Помощник! Друг! Телохранитель! Сторож! Мои глаза и уши. Мои руки и ноги. Что? Следопыт очеловечивает животное? Да разве Джек животное? Замечательное существо. Только говорить не умел, а все остальное делал как бог. После случая в деревне Гича Джека стали приглашать на все заставы нашего отряда. Где прорыв — нас туда бросают. И покатилось, завертелось наше с Джеком колесо от Рава-Русской до самых Карпат и Закарпатья. Вдоль всей западной границы. Везде нас знали. Особенно гордился своим крестником начальник службы собак отряда товарищ Николаев. Очень и очень радовался, что «старик» оправдал его надежды. Много мы с Джеком обезвредили нарушителей, но никогда не забывали первых. Хороший был у нас почин. Здесь я вторгаюсь в рассказ Смолина. — И все пятеро были записаны на ваш счет? — Ну! Так почему-то решил начальник отряда. Неправильно. Мы воевали всей заставой. Общие они, нарушители. — Очень правильно сделал ваш начальник, дорогой Саша. Кто встал на след и распутал его? Кто пробивался к логову диверсантов? Кто указал заставе цель? Смолин смотрит на меня своими серыми ясными глазами, тихо и лукаво улыбается. Чувствую, он не соглашается со мной, но не возражает ни единым словом. Далеко он отсюда, от наших дней. Вспоминает молодость — и счастлив. Молчит — и наслаждается мыслями. Я люблю людей, которые умеют силой своего сердца и ума перерабатывать любые самые тяжелые жизненные впечатления в цветы и мед жизни. Смолин принадлежит к этой редчайшей категории. Все, что ни делал он в своей солдатской жизни, он теперь воспринимает как свое славное прошлое. И правильно. Жизнь есть подвиг.Вот и дождались мы, брат, с тобой долгожданной победы. Дожили! Дошли! Долетели! Оглянись назад, где мы были. На ледяных перевалах Главного Кавказе кого хребта. В калмыцких степях. На Тереке. На Волге. Под Москвой. Под Ленинградом. Под Мурманском. И куда попали сегодня, в День Победы! В Берлин! В Будапешт. В Белград. В Бухарест. В Вену. В Прагу. В Варшаву. На берега Одера, Дуная, Влтавы. К теплому, Адриатическому морю пробились. Стихами, брат, надо было бы писать это письмо, а не обыкновенными словами. Поздравляю тебя, Витя, с великим днем. Представляю, как ликуешь сегодня ты и весь твой завод, снабжавший фронт своими машинами. Празднуем и мы, пограничники. Но на свой лад, конечно. Я, например, всю ночь с 8 до 9 провел на границе. Дождь и ветер исхлестали до костей. Еще и теперь, хотя на заставе тепло, дрожу, как цуцик. Надо было бы поспать после тяжелого наряда, полагается, но сна нет ни в одном глазу. Как можно дрыхнуть в такой день?! Слушаю радио. Болтаю с хлопцами. Вспоминаю войну: где был, что делал, как громил фрицев и как они меня били. Да, всякое бывало. Не думал я, брат, и не гадал, что в последний день войны окажусь не там, где все фронтовики, — в логове фашизма. Мечтал, надеялся, был уверен, что вместе со всеми товарищами буду штурмовать Берлин, ставить на колени треклятую фашистскую столицу. Без меня водрузили наше знамя над рейхстагом. Без меня разгромили гитлеровские полчища. Обидно все-таки. Жалко. Не успел как следует насладиться наступлением, не отвел душу. Ты не воевал, Витя, ты не поймешь меня. Отступающий солдат — это еще не солдат. Наступающий солдат — это половина солдата. Полным солдатом становится тот, кто сумел отделаться легкими ранами в отступлении и умудрился уцелеть в наступлении. Так говорил мой первый фронтовой командир. Теперь понял? Вот такие, Витя, пироги.
«Красавица»
— Ну! Что вам еще хочется услышать? Про все наши дела с Джеком нельзя подряд рассказывать — бумаги у вас мало. Да и для Аргона у вас не хватит времени и энергии. Кто такой Аргон? Мой друг. О нем речь впереди. Ну, решайте. — Давайте отберем главные, так сказать, ваши подвиги с Джеком. Какие операции вы считаете самыми трудными? — Все трудные. Не было у нас с Джеком ни одной легкой ночи, ни одного свободного дня. В тяжелое время мы с ним жили и воевали. Восстанавливали границу на разоренном и выжженном месте. Под постоянным огнем врага. С фронта и с тыла.Да, трудное и сложное было то время. Бандеровцами, бульбовцами, ауновцами кишели пограничные горы и леса. Агентуру засылали на нашу территорию недобитые гитлеровцы, окопавшиеся под крылышком своих новоявленных заокеанских друзей. И сами «друзья» перебрасывали к нам пеших, механизированных и летающих лазутчиков. Всякая тварь лезла через наш рубеж, пакостила, как могла. Разрушали мосты, сжигали сельсоветы, правления колхозов, убивали активистов, терроризировали крестьян. В Москве, на Урале, в Сибири, на Украине и во всей стране тишина, мир, а пограничники все еще воевали. Великую победу народа в Отечественной войне отстаивали, закрепляли ее в боях местного значения. Не публиковались о них сводки Совинформбюро. Газеты ничего не писали о солдатских подвигах. Малая была война. Пограничная. Но кровь лилась немалая. Пота солдатского тоже было пролито много. Сапоги Смолина были почти всегда мокрыми, разношенными, каши просили. И обмотки мокрые, и штаны затрепанные. Отчего им быть сухими, когда люди сутками и неделями напролет не вылезали из прикарпатских болот и дебрей лесных? Разъезды, бесконечные разъезды. Форсированные марши. Беготня. Тревога за тревогой. Галоп аллюром три креста. Автоматная стрельба. Взрывы гранат. Пожары. Смолин с Джеком за послевоенные годы поднимались по тревоге сотни раз, протопали по границе и ее тылам несколько тысяч километров. Отдыхали там, где позволяла обстановка, В сараях. В лесу. У костра, На сеновале. На деревянных нарах. Мылись кое-как, в железной бочке, в прудах и речках, под дождем, Бань тогда еще не было даже на заставах. Все брали с боем. Корм чаще всего был подножный — никакая база снабжения, если у нее и были продукты, не поспевала гоняться за летучими отрядами пограничников. Не было у них ни теперешнего пограничного высокогорного пайка, ни трех-четырех пар обуви — парадных и рабочих сапог, резиновых скороходов и валенок. Не было непромокаемых плащей, полушубков, особо теплого белья. Не было вертолетов. Не было «газиков» с двумя ведущими осями. Не было вездеходов для переброски людей по бездорожью. Не было теперешних приборов для ночного видения. Не было вдоволь раций, не было локаторов. Не было тракторов для вспашки контрольно-следовой полосы. Не было на границе инженерных сооружений. Не было хитроумной, как в наши дни, электросигнальной системы. У пограничного наряда не было даже электрических фонарей. Жгли лучину и самодельный факел. Да, было время. Сплошь боевое, тревожное, радостное, гордое. Не желал Смолин другой молодости. Все лучшее, что испытал он в жизни, — там было, на послевоенной границе.
Смолин задумался о своем прошлом и опять улыбается. — Все тревоги хорошо помню, но одну — особенно. Это было уже не в Рава-Русской. Меня с Джеком перевели на другую заставу, на новое направление. У нас на границе обстановка непостоянная. Важное направление, как только пограничники окажутся на высоте и крепко дадут нарушителям по зубам, превращается во второстепенное. Враг беспрерывно ищет удобную для себя лазейку. И на какое-то время он нашел ее на участке заставы старшего лейтенанта Постного. Вы не думайте, что я придумал ему фамилию. Самая настоящая. Постный он только на бумаге. Хороший был офицер. Боевой. Не везло ему долго потому, что на заставе было мало опытных пограничников, а надежного следопыта и вовсе не имелось. Стал я служить на заставе Постного. С границей и с солдатами поладил быстро — всякая граница для меня родной долл. Как-то отправился в ночной наряд. Моим напарником был назначен рядовой Хафизов, молодой татарин, плечистый, подвижный и горячий. Хорошо говорил по-русски, но любил молча делать свои дела. Вышли мы со двора заставы в хорошую погоду, а пока дошли до границы, нас догнало летнее ненастье. С Карпат подул холодный сырой ветер, принес тяжелые низкие тучи. В полночь разразилась сильная гроза. Там и сям, впереди и сзади, на сопредельной стороне и у нас гремит гром. Молнии рассекают небо вдоль и поперек. Огненные зигзаги расползаются по всему небесному куполу, как трещины на раздавленном стекле. Льет холодный дождь. По канавам гудят потоки мутной воды. Деревья в лесу черные, поникшие, Травы и хлеба полегли. Телефонные провода висят. Некоторые столбы повалены. Все живое пришиблено непогодой, онемело, оглохло. А мы с Хафизовым и Джеком живем, бодрствуем. Для пограничников в любое время — рабочая пора. Мы обязаны хорошо работать и в пургу, и в грозу, и в туман, и в темень. Всегда. Затаились на опушке леса, под густой елкой, и ждем нарушителей. Ни единой сухой нитки на нас нет. На воде лежим, водой укрываемся, воду с губ слизываем, воду головой чувствуем. А что делать? Приказ есть приказ. Джек не жалуется на свою долю. Сидит на задних и, навострив свои прекрасные уши-флажки, вглядывается, вслушивается в грозовую ночь. Часа в три гром утих, дождь прекратился, тучи вернулись в свое карпатское логово, и мы с Хафизовым и Джеком повеселели. До рассвета, до того времени, когда нам надо было проверять контрольно-следовую полосу, мы успели немного обсохнуть. В назначенный старшим лейтенантом Постным час пошли вдоль распаханной полосы. В то время она не была такой широченной, как теперь. Раз в пять меньше. Хороший прыгун, вооруженный шестом, мог свободно ее перескочить. Перед рассветом темнота бывает особенно густая. Электрических фонарей у нас не было, На двоих один керосиновый светильник — «летучая мышь». При таком бедном освещении можно было легко просмотреть вражьи следы. Пограничник хитер на выдумки. Намотали мы на палку конопляную кудель, смочили керосином, подожгли. Здорово светит. Все хорошо видно. С дымящим и чадящим факелом мы шли по скользкой дозорной тропе и проверяли КСП, Сгорит один факел, делаем другой. Километра два шли полем. Все было в порядке. Дозорная тропа вывела нас в лес. По одну сторону просеки — СССР, по другую — сопредельное государство. Кое-где сохранились пограничные, еще довоенных времен, дубовые столбы. Глухомань, звериный заповедник. Лесная КСП там и тут истоптана зверьем. Мы с Хафизовым не верим своим глазам, приглядываемся, исследуем следы — не ухищренные ли? Нет, настоящие. Прошли кабаны, косули, олени. Их здесь немало. Идем дальше. Головы наши все время опущены. Взгляды прикованы к вспаханной земле. Влажная, пухлая, черная, она после дождя хорошо сохраняет самый легкий след. Даже заячий. Вдруг мы увидели глубокие, одинаковой формы ямки. Останавливаемся. Рассматриваем. Человек наследил, не иначе. Сделал вид, что от нас за границу уходит. Сердце мое учащенно забилось. Я говорю Хафизову: — Нарушитель. Спиной к нам пришел. — Спиной? — удивился мой молодой напарник. — А как ты узнал? — А чего тут хитрого? Видишь, каблуки вдавлены, а носки еле прикасаются к земле. Прошла женщина. Туфли у нее примерно тридцать седьмого размера, на венском каблуке, подошва резиновая, в елочку. Шла она без багажа, налегке. След не очень свежий, двухчасовой давности. Видно, сразу, как только гроза утихла, и перемахнула. Далеко не успела уйти. Километров пятнадцать, не больше. Иду на преследование, а ты, Хафизов, мчись на заставу. Слышал? Понял? Повтори! Хафизов скороговоркой повторил все, что я сказал. — Все правильно. Так, слово в слово и доложи начальнику заставы. Давай мчись. Одна нога здесь, другая — там. Хафизов подвернул повыше, под ремень, полы шинели и побежал. Через час будет на заставе. Раньше по такой земле не добежишь. Я остался один. Медленно светает. Джек сидит около меня и, задрав голову, тревожно заглядывает в глаза, дрожит. Нервно зевает, ждет команды. Догадывается, псина, что предстоит большая работа. Ну! Застегнул я все пуговицы на шинели, затянул потуже ремень, приладил автомат как следует за спиной, чтобы не болтался, понадежнее прикрепил к поясу гранаты и запасные диски с патронами. Достал пистолет. Зарядил. Потом не спеша подвел Джека к отпечаткам нарушителя и громко, четко скомандовал: — След! След! След!!! Ищи, Джек! Он сразу, с первой попытки, верхним чутьем подхватил запах следа и со всех ног помчался в наш тыл, в лес. Мимо хмурых сосен. В лощину. Через поляну. Преодолел просеку. Обошел мутное озерце и прилегающее к нему болото. Вырвался на большую песчаную лысину. К этому времени уже совсем рассвело, и тут на сыром утреннем песке я увидел следы босых ног. Да, отпечатки женские. Аккуратные, небольшие, с неискривленными, не старушечьими пальцами. Известное дело, для такого выбирают молодых, здоровых и не пугливых, умеющих за себя постоять. Молодая баба, наверное, зубастая и вооружена. Посмотрим. Побежал я с Джеком по босоногому свежему следу. Каждую минуту готов увидеть нарушителя. Бегу пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а его нет и нет. Километров десять, если не больше, крупной рысью отмахал. Остановился. Дал передышку себе и Джеку. Собака в ней не нуждается, рвется вперед. Не пускаю. Пусть набирается сил — пригодятся. Стою, прислонившись к дереву. Прислушиваюсь. Мысленно вглядываюсь вперед, Вытираю с лица пот. Надо отдышаться: чересчур здорово рванул, не рассчитал, думал, скоро догоню нарушителя. Джек зарычал, натянул поводок. Смотрю, из кустов выходят две девчушки с корзинами. Головы укутаны в теплые платки, а ноги босые. Они тоже увидели меня. Обомлели. Испугались. Но Джек не рвется к ним. — Не бойтесь, девоньки, я крепко держу собаку. Вы откуда? Они назвали ближайшую лесную деревню Житницы. — Вы что здесь делаете? — Грибы собираем. — Давно? — С самого рассвета. — И много собрали? Они встряхнули корзинами. — Много. До краев. Домой уже идем. — А другие грибники в лесу есть? — Есть. Тетка Васена, тетка Лизавета, Маруська Блюзнюк с братом, бабушка Марина. — Где они? — Там, — девочки махнули руками в ту сторону, откуда прибежал я с Джеком. Вот тебе и на! Неужели кто-нибудь из них, тетка Васена или тетка Лизавета, заблудился и оставил след на границе? Бывало и такое. Посмотрим! — Как вас зовут, девчата? — Я Галя Гарусная, — сказала одна. — А я Таня Вербная, — сказала другая. Сам не знаю, почему я заинтересовался их именами. Ни к чему вроде мне было их знать. Так просто спросил. Галя и Таня. Спросил и забыл. — А чужих грибников вы не встречали в лесу? — Нет, не встречали. Все. Поговорили. Отдохнули. Можем бежать дальше. — След! След! Ищи, Джек. Искать ему не надо. И не терял. Опустил голову и побежал. Между деревьями уже пробивалось солнце. Косые струны его лучей висят между соснами. Сильно пахнет грибами. Или мне кажется, что пахнет. Бегу за Джеком, одним следом интересуюсь, жду схватки с нарушителем, однако все, что делается по сторонам, почему-то вижу, и всякие посторонние мысли лезут в голову. Поют птицы. Блестит роса. Ветра нет, но на осинах лопочут крупные мясистые листья. Из некошеных и никем не мятых трав выглядывают розовые, красные, белые, синие цветы. Алеет малина, земляника. А грибов, грибов, да все белых, столько вокруг — в один присест можно корзину набрать! Джек вдруг круто свернул в сторону, подбежал к густым кустам терновника, ощетинился и зарычал. Я поднял пистолет, но стрелять не собирался. Там, в темных колючих зарослях может быть не нарушитель, а грибник. Вполне возможно. Джек рычит сильнее, натягивает поводок, взвивается на дыбы. Пустить или не пустить? Опасно и то и другое. — Эй, кто там? — закричал я. — Выходи, — и перебросил автомат со спины на грудь и клацнул затвором. Из кустов сейчас же откликнулись. — Не стреляй, пан жолнеж, если не хочешь убить молодую матку. Голос молодой, веселый. Нет в нем никакого страха. Нарушители не так разговаривают с пограничниками. Местная жительница? Проверим! — Выходи сюда! — приказал я. Какое-то время в кустах было тихо. Потом стал слышен шорох, ветви раздвинулись, и на песчаную поляну вышла пригожая, лет двадцати молодуха. Босоногая. Среднего роста. Черные густые волосы заплетены в две толстых тугих косы. Белая блузка. Темный деревенский жакет. Черная домотканая юбка. На спине плахта с каким-то мягким барахлишком. В руке алюминиевый бидончик с молоком или ягодами.
 Васена, наверное, из деревни Житницы. Или Лизавета.
— Кто такая? Откуда? Что здесь делаете?
— На какой вопрос раньше отвечать? — улыбается молодуха.
Говорит она по-украински, но с сильным польским акцентом. Но это еще ничего не значит. Многие местные жители так разговаривают. Среди них немало поляков.
— Документы есть?
— Какие у меня документы, пан пограничник? Я здешняя, из деревни Буска. Иду к маме в Кухарское лесничество.
— В Кухарское? А сюда вы как попали?
— Ногами, пан пограничник. Шла, шла и попала.
— А вы знаете, где находитесь?
— Нет, пан пограничник, не знаю.
— В двадцати километрах от Кухарского лесничества. На запад.
— Вон куда меня, бедолагу, занесло. Я так и думала, шо заблудилась. Гроза виновата. Я ще вчера вечером вышла из хаты. Дытыну положила в колыску, убаюкала, сказала свекру, щоб приглядывал — и помчалась. Думала, за ночь туда-сюда обернусь. Но по дороге попала под грозу. Ну и напугалась же. И намокла, як курица. Ой, пан солдат, не приближайтесь! — закричала женщина. Но сейчас же засмеялась и добавила: — Не вас я боюсь, а собаки. Солдаты не кусаются.
И умолкла. Смотрит на меня больше чем приветливо и ждет, что я скажу, что сделаю.
А я молчал и улыбался по привычке. Женщина приняла мою улыбку на свой счет, как ответ на ее зазывной смех и шутку. Ничего, пусть себе заблуждается.
— Пан, будь ласка, укажите дорогу в лесничество. Может, и вам туда надо, а? Вдвоем веселее будет шагать.
— Как тебя зовут, красавица? — спросил я. — Не Марыся случаем?
— Правильно, Марыся, — обрадовалась женщина. — Вот это да, вот это диво! А как же ты узнал, солдатик?
— Очень просто. На твоем лице вот этакими литерами написано, что ты Марыся.
— Нет, правда, скажи — как узнал?
— Твои земляки сообщили.
— Какие?
— Те самые… Твоя мать в Кухарском лесничестве живет?
— В Кухарском.
— А соседи у тебя Галя Гарусная и Таня Вербная?
— Верно, они самые.
— Вот от них я и узнал. Значит, Марыся?
— Угу. А тебя, пан солдат, как звать? Иван, наверное? Все вы, русские, Иваны.
Я немного помолчал и, оглянув женщину от босых ног до бровей, строго сказал:
— Ну, вот что, Марыся, или как там тебя. Хватит сказки рассказывать. Пошли на заставу.
— Пан солдат, не пойду я на заставу. Я домой пойду. В лесничество.
— Я вас задерживаю, гражданка. Временно. До выяснения личности.
Красивое, измученное бессонной ночью лицо женщины исказилось страданием. Темные большие глаза наполнились слезами.
— Отпусти ты меня, Иван, ради христа.
— Повторяю: задерживаю до выяснения личности.
— А чего тут выяснять? Вся я тут. Смотрите, пан пограничник, выясняйте.
— Что у вас на спине? Покажите!
Она сейчас же сбросила небольшой плоский узел на землю, развернула. Показала грязные туфли, праздничное платье, платок, краюху хлеба домашней выпечки, кусок сала.
Посмотрел я бидон. Он был полон кислого молока.
— У мамы нету коровы, — пояснила молодуха. — Я каждый раз, когда иду к ней в гости, ряженки прихватываю.
Я оставил Джека охранять женщину, а сам пошел в кусты терновника, чтобы посмотреть, не спрятано ли там что-нибудь. Ничего не нашел. Вернулся. Женщина смотрела на меня умоляющими глазами.
— Дорогой пан пограничник, не задерживайте! — она прикоснулась к своей пышной груди. — Я должна дытыну годувать, молоко перегорит. Отпустите, будь ласка.
— Я вам уже сказал: мы должны выяснить вашу личность.
— Чего ж тут выяснять? Я Марыся Вронская. Живу в Буске, вторая хата от речки. Синие ставни. Муж работает на станции. Свекор — дома, по хозяйству. А родом я с Кухорского лесничества. Каждая собака меня знает. Отпусти, не бери на свою чистую душу тяжкий грех.
Очень убедительно говорила Марыся или как ее там звали. Если бы я был первый день на границе, я, может, и поверил ей. Мы, пограничники, народ недоверчивый, вот в таких случаях, когда обнаружили на КСП следы.
— Ничего, Марыся, моя душа стерпит.
— Я пожалуюсь твоему начальнику.
— Правильно сделаешь. Где ты была, Марыся, два часа тому назад? Отвечай!
— Где?.. — она оглянулась в ту сторону, откуда мы с Джеком прибежали. — Вроде бы там. А может быть, и не там. Голова у меня кругом пошла.
— А почему ты спряталась в кусты при моем приближении?
— Волка твоего испугалась.
— Ну! А почему ты границу переходила задом наперед?
— Какую границу? Что ты, солдат! За кого ты меня принимаешь?
— Ну! Собирай вещи, пошли на заставу. Там все выясним и довезем до лесничества.
— Ну, если так, я согласна. Пойду. Можно мне надеть чулки и обуться?
Я кивнул. Марыся села на землю, оголила мокрые ноги выше колен, вытерла их головным платком. Ничуть не стесняется. Я не хотел смотреть на то, что она делает, но не мог не смотреть, Ноги у нее белые, тугие, с круглыми розовымиколенями. Натягивает чулки, застегивает резинки, а сама смотрит на меня, улыбается.
— Сколько тебе лет, Ваня? Двадцать исполнилось?
Молчу.
— Ты еще не женат, Ваня? А дивчина у тебя есть? Давно дома не был?
Тихонько смеется, словно на свидание ко мне пришла, и ласково допрашивает:
— Ты еще не целованный, Ваня?
Одета она во все деревенское. На шее дешевые бусы, медный крестик на груди. Но дух от нее какой-то сдобный, одеколонный, табачный. Не деревенская девка. Не проветрилась и в лесу. Дух города остался.
Дело прошлое, чего греха таить: засмотрелся я на красавицу Марысю. Было такое дело, было. Не забывайте, что и мне тогда всего-навсего двадцать один стукнул. И я ни разу в своей жизни не свиданничал с дивчиной. Никто еще не говорил мне ласковых слов. И не смотрел никто так, как эта Марыся.
Ну! Засмотрелся, но не обалдел. Не забыл, кто я и что мне надо делать. И в мыслях ничего плохого не промелькнуло. Усадил я Джека в сторонке, переложил пистолет из руки в руку и сказал:
— Гражданка, я должен вас обыскать.
Она смотрит на меня веселыми ясными очами, белые зубы блестят в алой щелочке губ. Смеется.
— Будь ласка, обыскивай. Только не щекочи. Я боюсь щекотки.
Ну и баба! Попалась с поличным, капкан за ней захлопнулся, а она не теряется. Знали бандеровцы, кого посылали через границу.
Я осматриваю карманы ее юбки и жакета, а она мурлычет сквозь смех:
— Ой, солдатик, какие же у тебя руки холодные! И дрожат. Ты курей воровал, да?
— Не шевелитесь, гражданка! Стойте смирно.
— Да как можно быть смирной, когда ты…
— Без глупостей, гражданка… Помолчите.
— Вот так вояка! Бабьих слов опасается.
— Знаю я, куда ваши слова направлены.
Я сделал быстрый, самый поверхностный обыск и отстранился. Ничего не обнаружил. Если бы нарушитель был мужчиной, я бы не церемонился. Перетряхнул бы всю его одежду и всего основательно исследовал.
— И все?! — усмехнулась Марыся. — Плохо обыскиваешь, Иван. Не заглянул туда, где бабы прячут главные секреты.
Она выпятила грудь, развернула плечи, закинула за спину руки, что-то там быстро и ловко сделала и выдернула из-под кофточки белый, теплый даже на вид лифчик.
— Смотри! Ищи!
— Гражданка, и этот номер вам не пройдет. Видали мы и не такое.
Неправда. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть.
Но она не угомонилась.
— Боишься? Меня? Такой хорошей?!
— Одевайся, гражданка! Спрячь свои приманки. Побереги для какого-нибудь зверя.
— Дурак ты, Иван. Большой дурак. Такая удача тебе привалила, а ты…
И повернулась ко мне спиной.
— Застегни, а то у меня руки короткие.
Я оттолкнул ее так, что она чуть носом не запахала. Лифчик лежит в одном месте, а она в другом.
До сих пор не могу простить себе этой грубости. Сорвался. Ослабел. Что вы сказали? Самооборона? От кого обороняться? От чего? Таких жалеть надо, а не бить. Не сама она такую жизнь выбрала. Кто-то заставил ее.
Ну. Лежит она, снизу вверх смотрит на меня. Нет уже во взгляде ни ласки, ни приветливости. Поскучнело лицо.
Я подцепил автоматом лифчик, перебросил к задержанной и в третий раз сказал:
— Оденьтесь, гражданка!
— Зря ты боишься, солдат. Не стану я жаловаться твоему начальству, И наговаривать на тебя не буду. Неплохой ты хлопец. Кричишь, строжишься, а глаза у тебя добрые-предобрые. И сердце, видно, доброе.
— Моя доброта не для вас, гражданка. Для таких, как ты, я автомат имею.
— Постой, солдат, не кляни! Ты ж ничего не знаешь, кто я и что. И не следователь ты, не прокурор, не судья. Всего-навсего пограничник. Твое дело поймать нарушителя и сдать начальству.
— Ошибаетесь, гражданка. Когда я несу службу на границе, я выполняю обязанности высшего представителя власти и закона. Одевайтесь!
Я ей одно говорю, а она мне другое.
— Спасибо тебе, представитель, что не воспользовался. Всю жизнь буду помнить.
— Хватит вам, гражданка. Поднимайтесь!
— Не верю. Все равно не верю. И ты будешь помнить меня, солдат. А, может быть, мы еще где-нибудь встретимся, а?
Я гаркнул на нее так, что Джек залаял и бросился на Марысю. Я с трудом удержал его.
Марыся поднялась и, сидя на земле, тяжело вздыхая, натянула шерстяные чулки, обулась. Я снял с нее туфлю, приложил к своей мерке, сделанной на границе. Совпадает. Точно. И в длину и в ширину. Марыся смотрела, смотрела на мою работу и вдруг заплакала в голос.
— Да, солдат, я перешла границу. Оттуда я, с той стороны. Полька. Мать, отца и всех братьев убили бандеровцы. Одна я осталась. Чудом уцелела. Убьют и меня, если поймают.
Плакала искренне, в три ручья слезами заливалась и рассказывала, какие зверства творят на той стороне националисты с трезубцами.
— На твоей земле я решила искать спасения, а ты… Разве так советские люди делают?
— Чего ж ты ночью, да еще в грозу, в проливной дождь бросилась на границу? Почему для такого дела день не выбрала?
— Какой там выбор, когда за тобой по пятам убийцы гонятся?
— А почему ты большой дорогой не пошла? Почему глухомань выбрала?
— Заблудилась, Поверь, солдат. Где петухи запоют, туда я и иду. Клянусь маткой бозкой, я говорю тебе чистую правду. — Она приложила руку ко лбу, плечу и груди.
Я не верил ни одному ее слову, но слушал с интересом. И сам не молчал. Вреда от нашего разговора ни границе, ни Смолину не предвидится. Почему же не поговорить?
Ну! Сидим мы с ней на земле, чуть поодаль друг от друга, и вроде мирно беседуем. Я, по совести сказать, не торопил ее. Ни к чему. Я был уверен, что старший лейтенант Постный уже принял меры и выслал нам навстречу людей.
— Марыся, ты грамотная?
— Гимназию окончила.
— Кто твои родители?
— Отец лесником был в Люблянском воеводстве.
— Ну, а ты сама работала?
— Еще как! С малых лет отцу и матери помогала.
— Трудовая, значит, барышня. И образованная. Ну! Если все так, как ты говоришь, почему же ты против трудового советского народа воюешь? Почему нашим врагам помогаешь?
— Пан пограничник, вы ошибаетесь. Я… я никому не помогала. К сожалению. Даже себе самой.
— Ладно, хватит трепаться, пани Марыся. Вставай. Шагом марш. Руки назад. И без глупостей. Если попытаешься бежать — застрелю. Все, Пошли.
И мы пошли. Она впереди, а я с Джеком чуть позади, Идем и молчим.
Вышли на тыловую дорогу, километрах в пятнадцати от заставы. Тут я и столкнулся с нашими. Они перехватывали возможные пути отхода нарушителя границы. Все. Задача выполнена. Идем домой вместе. Солдаты смотрят на Марысю по все глаза. Всяких успели повидать нарушителей, но такого… Вопросы ей задают. Но теперь она отмалчивается. Потеряла охоту разговаривать. Ни на кого глаз не поднимает. Злая как ведьма. А когда один из особенно любопытных тронул ее за плечо, она шуганула его отборной руганью.
Окончательно все прояснилось.
На безлюдной пыльной дороге показалась наша парная бричка. На передке, с вожжами и кнутом в руках, сидел Хафизов. Около нас он осадил разгоряченных лошадей.
— Товарищ старшина, разрешите доложить… Начальник заставы приказал срочно доставить задержанного…
Энергично, четко, по-уставному выговаривал слова, но при этом ошалело смотрел на «задержанного». Наверное, и у меня был вот такой же дурацкий вид, когда я увидел босоногую пани.
— Это… Это и есть нарушитель? — совершенно растерявшись, пробормотал Хафизов.
— Ну! — сердито отозвался я. — А ты думал, нарушители бывают только в штанах. Поворачивай оглобли!.. Садитесь, пани Марыся!
— Ничего, я пешком.
— Приказываю сесть. Ну!
Не спеша, важно озираясь, поставила ногу на ступицу колеса, вскочила на бричку, расселась на соломе, как барыня. Спина ее почти касалась гимнастерки кучера. Хафизов, с красным, напряженным лицом, испуганно оглянулся через плечо на пани Марысю и резко отодвинулся.
А мы с Джеком расположились рядом с ней. Ничего с нами не случится. Все перетерпим.
— Поехали!
Рядом, да не вместе. Одногодки, ровесники, но чужие друг другу, как лед и огонь, лебедь и жаба. Едем. Молчим. Курим, Думаем свои думы.
Красивая она, конечно, ничего не скажешь. Чистая снаружи. Белотелая. Молодая. Здоровая. Сильная Ей бы сейчас в самый раз работать, свой дом и колхозное хозяйство тащить на себе, горы сворачивать, мужа любить, детей рожать и радоваться, на них глядя, а она… Придется отбывать наказание. И красота, и молодость, и материнство зачахнут, увянут, наверное, в местах заключения. Такую жизнь, такую жизнь, дуреха, своими руками загубила. И так мне жаль стало эту Марысю. По правде сказать, я обрадовался, когда мы доехали и я сдал задержанную офицерам из комендатуры. Увезли ее. Что дальше было — не знаю.
Долго помнили на заставе эту нехлопотную операцию. Солдаты назвали ее «Красавица». Зубоскалили. На все лады подсмеивались надо мной. Я не обижался. Отмалчивался.
Рассказчик поднял на меня невеселые глаза и улыбнулся какой-то неизвестной мне до сих пэр улыбкой чуть-чуть растерянно, беспомощно, несколько виновато и насмешливо-вопрошающе:
— Все записали?
— Все. До последнего слова.
— И зря. Конец не надо было записывать.
— Почему?
— Все равно потом вычеркните.
— Почему я его вычеркну, Саша?
— Про такое обычно не пишут в книгах, статьях, рассказах.
— А мы вот напишем. И будем отстаивать правду. Правду характера Смолина. Мне, если хотите знать, больше всего понравилась именно концовка вашего рассказа. Это очень хорошо, что вы не стыдитесь своей жалости. Сочувствие к павшим, заблудившимся, споткнувшимся, ошибающимся, соблазненным — признак нравственного здоровья человека. Классовая ненависть к врагу не исключает в человеке человечности. Наоборот. Пролетарское сознание как раз и делает человека человеком. Я очень рад, Саша, что вы и в свои двадцать уже понимали, что люди и с ружьями, поставленные в сложные обстоятельства, должны оставаться людьми.
Васена, наверное, из деревни Житницы. Или Лизавета.
— Кто такая? Откуда? Что здесь делаете?
— На какой вопрос раньше отвечать? — улыбается молодуха.
Говорит она по-украински, но с сильным польским акцентом. Но это еще ничего не значит. Многие местные жители так разговаривают. Среди них немало поляков.
— Документы есть?
— Какие у меня документы, пан пограничник? Я здешняя, из деревни Буска. Иду к маме в Кухарское лесничество.
— В Кухарское? А сюда вы как попали?
— Ногами, пан пограничник. Шла, шла и попала.
— А вы знаете, где находитесь?
— Нет, пан пограничник, не знаю.
— В двадцати километрах от Кухарского лесничества. На запад.
— Вон куда меня, бедолагу, занесло. Я так и думала, шо заблудилась. Гроза виновата. Я ще вчера вечером вышла из хаты. Дытыну положила в колыску, убаюкала, сказала свекру, щоб приглядывал — и помчалась. Думала, за ночь туда-сюда обернусь. Но по дороге попала под грозу. Ну и напугалась же. И намокла, як курица. Ой, пан солдат, не приближайтесь! — закричала женщина. Но сейчас же засмеялась и добавила: — Не вас я боюсь, а собаки. Солдаты не кусаются.
И умолкла. Смотрит на меня больше чем приветливо и ждет, что я скажу, что сделаю.
А я молчал и улыбался по привычке. Женщина приняла мою улыбку на свой счет, как ответ на ее зазывной смех и шутку. Ничего, пусть себе заблуждается.
— Пан, будь ласка, укажите дорогу в лесничество. Может, и вам туда надо, а? Вдвоем веселее будет шагать.
— Как тебя зовут, красавица? — спросил я. — Не Марыся случаем?
— Правильно, Марыся, — обрадовалась женщина. — Вот это да, вот это диво! А как же ты узнал, солдатик?
— Очень просто. На твоем лице вот этакими литерами написано, что ты Марыся.
— Нет, правда, скажи — как узнал?
— Твои земляки сообщили.
— Какие?
— Те самые… Твоя мать в Кухарском лесничестве живет?
— В Кухарском.
— А соседи у тебя Галя Гарусная и Таня Вербная?
— Верно, они самые.
— Вот от них я и узнал. Значит, Марыся?
— Угу. А тебя, пан солдат, как звать? Иван, наверное? Все вы, русские, Иваны.
Я немного помолчал и, оглянув женщину от босых ног до бровей, строго сказал:
— Ну, вот что, Марыся, или как там тебя. Хватит сказки рассказывать. Пошли на заставу.
— Пан солдат, не пойду я на заставу. Я домой пойду. В лесничество.
— Я вас задерживаю, гражданка. Временно. До выяснения личности.
Красивое, измученное бессонной ночью лицо женщины исказилось страданием. Темные большие глаза наполнились слезами.
— Отпусти ты меня, Иван, ради христа.
— Повторяю: задерживаю до выяснения личности.
— А чего тут выяснять? Вся я тут. Смотрите, пан пограничник, выясняйте.
— Что у вас на спине? Покажите!
Она сейчас же сбросила небольшой плоский узел на землю, развернула. Показала грязные туфли, праздничное платье, платок, краюху хлеба домашней выпечки, кусок сала.
Посмотрел я бидон. Он был полон кислого молока.
— У мамы нету коровы, — пояснила молодуха. — Я каждый раз, когда иду к ней в гости, ряженки прихватываю.
Я оставил Джека охранять женщину, а сам пошел в кусты терновника, чтобы посмотреть, не спрятано ли там что-нибудь. Ничего не нашел. Вернулся. Женщина смотрела на меня умоляющими глазами.
— Дорогой пан пограничник, не задерживайте! — она прикоснулась к своей пышной груди. — Я должна дытыну годувать, молоко перегорит. Отпустите, будь ласка.
— Я вам уже сказал: мы должны выяснить вашу личность.
— Чего ж тут выяснять? Я Марыся Вронская. Живу в Буске, вторая хата от речки. Синие ставни. Муж работает на станции. Свекор — дома, по хозяйству. А родом я с Кухорского лесничества. Каждая собака меня знает. Отпусти, не бери на свою чистую душу тяжкий грех.
Очень убедительно говорила Марыся или как ее там звали. Если бы я был первый день на границе, я, может, и поверил ей. Мы, пограничники, народ недоверчивый, вот в таких случаях, когда обнаружили на КСП следы.
— Ничего, Марыся, моя душа стерпит.
— Я пожалуюсь твоему начальнику.
— Правильно сделаешь. Где ты была, Марыся, два часа тому назад? Отвечай!
— Где?.. — она оглянулась в ту сторону, откуда мы с Джеком прибежали. — Вроде бы там. А может быть, и не там. Голова у меня кругом пошла.
— А почему ты спряталась в кусты при моем приближении?
— Волка твоего испугалась.
— Ну! А почему ты границу переходила задом наперед?
— Какую границу? Что ты, солдат! За кого ты меня принимаешь?
— Ну! Собирай вещи, пошли на заставу. Там все выясним и довезем до лесничества.
— Ну, если так, я согласна. Пойду. Можно мне надеть чулки и обуться?
Я кивнул. Марыся села на землю, оголила мокрые ноги выше колен, вытерла их головным платком. Ничуть не стесняется. Я не хотел смотреть на то, что она делает, но не мог не смотреть, Ноги у нее белые, тугие, с круглыми розовымиколенями. Натягивает чулки, застегивает резинки, а сама смотрит на меня, улыбается.
— Сколько тебе лет, Ваня? Двадцать исполнилось?
Молчу.
— Ты еще не женат, Ваня? А дивчина у тебя есть? Давно дома не был?
Тихонько смеется, словно на свидание ко мне пришла, и ласково допрашивает:
— Ты еще не целованный, Ваня?
Одета она во все деревенское. На шее дешевые бусы, медный крестик на груди. Но дух от нее какой-то сдобный, одеколонный, табачный. Не деревенская девка. Не проветрилась и в лесу. Дух города остался.
Дело прошлое, чего греха таить: засмотрелся я на красавицу Марысю. Было такое дело, было. Не забывайте, что и мне тогда всего-навсего двадцать один стукнул. И я ни разу в своей жизни не свиданничал с дивчиной. Никто еще не говорил мне ласковых слов. И не смотрел никто так, как эта Марыся.
Ну! Засмотрелся, но не обалдел. Не забыл, кто я и что мне надо делать. И в мыслях ничего плохого не промелькнуло. Усадил я Джека в сторонке, переложил пистолет из руки в руку и сказал:
— Гражданка, я должен вас обыскать.
Она смотрит на меня веселыми ясными очами, белые зубы блестят в алой щелочке губ. Смеется.
— Будь ласка, обыскивай. Только не щекочи. Я боюсь щекотки.
Ну и баба! Попалась с поличным, капкан за ней захлопнулся, а она не теряется. Знали бандеровцы, кого посылали через границу.
Я осматриваю карманы ее юбки и жакета, а она мурлычет сквозь смех:
— Ой, солдатик, какие же у тебя руки холодные! И дрожат. Ты курей воровал, да?
— Не шевелитесь, гражданка! Стойте смирно.
— Да как можно быть смирной, когда ты…
— Без глупостей, гражданка… Помолчите.
— Вот так вояка! Бабьих слов опасается.
— Знаю я, куда ваши слова направлены.
Я сделал быстрый, самый поверхностный обыск и отстранился. Ничего не обнаружил. Если бы нарушитель был мужчиной, я бы не церемонился. Перетряхнул бы всю его одежду и всего основательно исследовал.
— И все?! — усмехнулась Марыся. — Плохо обыскиваешь, Иван. Не заглянул туда, где бабы прячут главные секреты.
Она выпятила грудь, развернула плечи, закинула за спину руки, что-то там быстро и ловко сделала и выдернула из-под кофточки белый, теплый даже на вид лифчик.
— Смотри! Ищи!
— Гражданка, и этот номер вам не пройдет. Видали мы и не такое.
Неправда. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть.
Но она не угомонилась.
— Боишься? Меня? Такой хорошей?!
— Одевайся, гражданка! Спрячь свои приманки. Побереги для какого-нибудь зверя.
— Дурак ты, Иван. Большой дурак. Такая удача тебе привалила, а ты…
И повернулась ко мне спиной.
— Застегни, а то у меня руки короткие.
Я оттолкнул ее так, что она чуть носом не запахала. Лифчик лежит в одном месте, а она в другом.
До сих пор не могу простить себе этой грубости. Сорвался. Ослабел. Что вы сказали? Самооборона? От кого обороняться? От чего? Таких жалеть надо, а не бить. Не сама она такую жизнь выбрала. Кто-то заставил ее.
Ну. Лежит она, снизу вверх смотрит на меня. Нет уже во взгляде ни ласки, ни приветливости. Поскучнело лицо.
Я подцепил автоматом лифчик, перебросил к задержанной и в третий раз сказал:
— Оденьтесь, гражданка!
— Зря ты боишься, солдат. Не стану я жаловаться твоему начальству, И наговаривать на тебя не буду. Неплохой ты хлопец. Кричишь, строжишься, а глаза у тебя добрые-предобрые. И сердце, видно, доброе.
— Моя доброта не для вас, гражданка. Для таких, как ты, я автомат имею.
— Постой, солдат, не кляни! Ты ж ничего не знаешь, кто я и что. И не следователь ты, не прокурор, не судья. Всего-навсего пограничник. Твое дело поймать нарушителя и сдать начальству.
— Ошибаетесь, гражданка. Когда я несу службу на границе, я выполняю обязанности высшего представителя власти и закона. Одевайтесь!
Я ей одно говорю, а она мне другое.
— Спасибо тебе, представитель, что не воспользовался. Всю жизнь буду помнить.
— Хватит вам, гражданка. Поднимайтесь!
— Не верю. Все равно не верю. И ты будешь помнить меня, солдат. А, может быть, мы еще где-нибудь встретимся, а?
Я гаркнул на нее так, что Джек залаял и бросился на Марысю. Я с трудом удержал его.
Марыся поднялась и, сидя на земле, тяжело вздыхая, натянула шерстяные чулки, обулась. Я снял с нее туфлю, приложил к своей мерке, сделанной на границе. Совпадает. Точно. И в длину и в ширину. Марыся смотрела, смотрела на мою работу и вдруг заплакала в голос.
— Да, солдат, я перешла границу. Оттуда я, с той стороны. Полька. Мать, отца и всех братьев убили бандеровцы. Одна я осталась. Чудом уцелела. Убьют и меня, если поймают.
Плакала искренне, в три ручья слезами заливалась и рассказывала, какие зверства творят на той стороне националисты с трезубцами.
— На твоей земле я решила искать спасения, а ты… Разве так советские люди делают?
— Чего ж ты ночью, да еще в грозу, в проливной дождь бросилась на границу? Почему для такого дела день не выбрала?
— Какой там выбор, когда за тобой по пятам убийцы гонятся?
— А почему ты большой дорогой не пошла? Почему глухомань выбрала?
— Заблудилась, Поверь, солдат. Где петухи запоют, туда я и иду. Клянусь маткой бозкой, я говорю тебе чистую правду. — Она приложила руку ко лбу, плечу и груди.
Я не верил ни одному ее слову, но слушал с интересом. И сам не молчал. Вреда от нашего разговора ни границе, ни Смолину не предвидится. Почему же не поговорить?
Ну! Сидим мы с ней на земле, чуть поодаль друг от друга, и вроде мирно беседуем. Я, по совести сказать, не торопил ее. Ни к чему. Я был уверен, что старший лейтенант Постный уже принял меры и выслал нам навстречу людей.
— Марыся, ты грамотная?
— Гимназию окончила.
— Кто твои родители?
— Отец лесником был в Люблянском воеводстве.
— Ну, а ты сама работала?
— Еще как! С малых лет отцу и матери помогала.
— Трудовая, значит, барышня. И образованная. Ну! Если все так, как ты говоришь, почему же ты против трудового советского народа воюешь? Почему нашим врагам помогаешь?
— Пан пограничник, вы ошибаетесь. Я… я никому не помогала. К сожалению. Даже себе самой.
— Ладно, хватит трепаться, пани Марыся. Вставай. Шагом марш. Руки назад. И без глупостей. Если попытаешься бежать — застрелю. Все, Пошли.
И мы пошли. Она впереди, а я с Джеком чуть позади, Идем и молчим.
Вышли на тыловую дорогу, километрах в пятнадцати от заставы. Тут я и столкнулся с нашими. Они перехватывали возможные пути отхода нарушителя границы. Все. Задача выполнена. Идем домой вместе. Солдаты смотрят на Марысю по все глаза. Всяких успели повидать нарушителей, но такого… Вопросы ей задают. Но теперь она отмалчивается. Потеряла охоту разговаривать. Ни на кого глаз не поднимает. Злая как ведьма. А когда один из особенно любопытных тронул ее за плечо, она шуганула его отборной руганью.
Окончательно все прояснилось.
На безлюдной пыльной дороге показалась наша парная бричка. На передке, с вожжами и кнутом в руках, сидел Хафизов. Около нас он осадил разгоряченных лошадей.
— Товарищ старшина, разрешите доложить… Начальник заставы приказал срочно доставить задержанного…
Энергично, четко, по-уставному выговаривал слова, но при этом ошалело смотрел на «задержанного». Наверное, и у меня был вот такой же дурацкий вид, когда я увидел босоногую пани.
— Это… Это и есть нарушитель? — совершенно растерявшись, пробормотал Хафизов.
— Ну! — сердито отозвался я. — А ты думал, нарушители бывают только в штанах. Поворачивай оглобли!.. Садитесь, пани Марыся!
— Ничего, я пешком.
— Приказываю сесть. Ну!
Не спеша, важно озираясь, поставила ногу на ступицу колеса, вскочила на бричку, расселась на соломе, как барыня. Спина ее почти касалась гимнастерки кучера. Хафизов, с красным, напряженным лицом, испуганно оглянулся через плечо на пани Марысю и резко отодвинулся.
А мы с Джеком расположились рядом с ней. Ничего с нами не случится. Все перетерпим.
— Поехали!
Рядом, да не вместе. Одногодки, ровесники, но чужие друг другу, как лед и огонь, лебедь и жаба. Едем. Молчим. Курим, Думаем свои думы.
Красивая она, конечно, ничего не скажешь. Чистая снаружи. Белотелая. Молодая. Здоровая. Сильная Ей бы сейчас в самый раз работать, свой дом и колхозное хозяйство тащить на себе, горы сворачивать, мужа любить, детей рожать и радоваться, на них глядя, а она… Придется отбывать наказание. И красота, и молодость, и материнство зачахнут, увянут, наверное, в местах заключения. Такую жизнь, такую жизнь, дуреха, своими руками загубила. И так мне жаль стало эту Марысю. По правде сказать, я обрадовался, когда мы доехали и я сдал задержанную офицерам из комендатуры. Увезли ее. Что дальше было — не знаю.
Долго помнили на заставе эту нехлопотную операцию. Солдаты назвали ее «Красавица». Зубоскалили. На все лады подсмеивались надо мной. Я не обижался. Отмалчивался.
Рассказчик поднял на меня невеселые глаза и улыбнулся какой-то неизвестной мне до сих пэр улыбкой чуть-чуть растерянно, беспомощно, несколько виновато и насмешливо-вопрошающе:
— Все записали?
— Все. До последнего слова.
— И зря. Конец не надо было записывать.
— Почему?
— Все равно потом вычеркните.
— Почему я его вычеркну, Саша?
— Про такое обычно не пишут в книгах, статьях, рассказах.
— А мы вот напишем. И будем отстаивать правду. Правду характера Смолина. Мне, если хотите знать, больше всего понравилась именно концовка вашего рассказа. Это очень хорошо, что вы не стыдитесь своей жалости. Сочувствие к павшим, заблудившимся, споткнувшимся, ошибающимся, соблазненным — признак нравственного здоровья человека. Классовая ненависть к врагу не исключает в человеке человечности. Наоборот. Пролетарское сознание как раз и делает человека человеком. Я очень рад, Саша, что вы и в свои двадцать уже понимали, что люди и с ружьями, поставленные в сложные обстоятельства, должны оставаться людьми.
Ну, Витька, держись! Сегодня я тебе, женоненавистнику, такое напишу!.. Раз ты хочешь знать, как я живу после службы — давай читай. Смотри, ничего не пропускай. Сегодня, в воскресенье, в мой выходной день познакомился я с одной дивчиной. Иду я по длинной-длинной улице села Потыличи. В парадном обмундировании. В начищенных сапогах. Бритый. Наодеколоненный. С белым подворотничком. С папиросами и деньгами на мелкие расходы в кармане. Все честь по чести. Спешить не спешу, но и не прохлаждаюсь. Взял курс в штаб отряда. Дело там было у меня по комсомольской линии. Ну, иду, по сторонам оглядываюсь, поклоны сельским жителям отдаю. Дошел до угла, поравнялся с хатой, крытой соломой, с расписными ставнями. Смотрю, около хаты в огороде старенькая женщина в черной плахте и белой рубашке землю навозными вилами скребет. Глянул я на нее и обомлел. Показалось мне, что она как две капли воды похожа на Татьяну Матвеевну, на мою маму. Остановился. Курю. Смотрю, как неумело, через силу ковыряется в земле, а у самого сердце готово выпрыгнуть из груди. Так мне стало жаль старенькую, что хоть плачь. Мужа, видно, на этой войне потеряла. Может, еще и сыновей в придачу. Она заметила солдата, торчавшего около плетня. Разогнулась, из-под руки вглядывалась в меня с опаской. Молчала, молчала, а потом спросила: — Ты кого шукаешь, пограничник? — Так, бабуся, никого. Гуляю. Работы ищу. У вас не найдется? — Работы у нас хоть отбавляй. Да не твоя она. Мужицкая. — А разве я не мужик, бабуся? До призыва в армии землю пахал, волам хвосты крутил и все такое прочее. С этими словами я вошел во двор, взял у бабуси вилы, поплевал в ладони и, не снимая парадного обмундирования, вскопал всю грядку. Земля еще была тяжелая, сырая, не прогретая. Потом прошибло меня порядочно. Но ничего, вида не подаю, что притомился. Снял китель и к новой работе рвусь. Говорю: — Ну, бабуся, что вам еще сделать? — Дрова колоть умеешь? — А как же. В лесном краю родился и вырос. Давайте топор. Наколол дровишек. Сложил о дну поленницу. Накрыл ее ржавым листом железа. И за другую принялся. Вошел, брат, в охоту. Понравилось делать домашнюю работу. Про все свои комсомольские дела забыл. Колю себе дрова и колю. Незаметно три с лишним часа пролетело. Глянул на часы — и ахнул. Опоздал в отряд. Ну что ж, завтра поеду. Бабуся от меня не отходит ни на шаг. Ахает и охает. Благодарит. Спрашивает, как меня зовут. Рассказывает, на каком фронте и когда погиб ее муж. Предлагает выпить молочка, поесть пасхи, сдобного кулича и крашеных яичек. Ну. Переколол я все дрова и говорю: Ну, а теперь можно и молочка выпить. — Пойдем, Сашко, сыночек, в хату, пойдем. Вошел. Две просторные комнаты. Стены беленые. На столе огромный кулич, обложенный крашеными яйцами. На окнах белые занавески. На подоконниках цветы. На полу — домотканые дорожки. Зеркало в рамке вышитых рушников. Кровати застланы кружевными покрывалами. Горы подушек. — Бабуся, почему у вас три кровати? — А нас трое. — Кто и кто? — Я и две моих доньки. Одна малолетка, а другой уже двадцать исполнилось. Вот они, посмотри! Снимает со стены фотографию, протягивает мне. Смотрю без всякого интереса, так, из вежливости. Младшая дочка еще худенькая и большеглазая, с косичками. А старшая — высокая, полная, гладко причесанная, лицо строгое, красивое. Спрашиваю: — Ну и как же их зовут? — Юся и Галина. — Юся? Что за имя? Польское? — Юзефа. Юлия. Нет, мы не поляки. Так уж назвали, В наших краях у многих украинцев польские имена. Ешь, Сашко, пирожки, пей молоко! Горилки у нас не водится, извиняй. Некому пить. Если еще раз заглянешь в нашу хату, так припасем. — Может, и загляну, бабуся. Вы очень похожи на мою маму. Она тоже одна живет: отец погиб на войне, а четыре сына — солдаты. Спасибо за угощение. Поднялся я, вышел из-за пасхального стола, надел фуражку, обнял бабусю и пошел к двери. Тут, на пороге, и столкнулся с Юсей. Стоим, смотрим друг на друга и молчим. Она в точности такая же, как на фотографии, только на плечи была накинута радужная шаль. Мы смутились, шагу сделать не можем ни вперед, ни назад, а бабусе весело. Смотрит на нас и смеется. — Ну, чего же вы перелякались? — Она подошла, взяла меня за руку, — Это Сашко Смолин. Пограничник. Известный следопыт. — Она взяла руку дочери. — А это моя старшая донька Юся. Юзефа. Ну, а что дальше было? Все. Больше ничего не было. Верь не верь, а так оно и есть. Сам знаешь, не из робкого я десятка, а тут почему-то оробел, застыдился, онемел, оглупел. Слова не мог выдавить из себя. Представляешь? Буркнул я что-то себе под нос и, не глядя на Юзефу, вышел из хаты. Уже через десять шагов называл себя последним дураком, разносил на все корки, но вернуться все-таки не посмел. Пошел на заставу и, поверишь, с досады лег спать и проспал до вечера. Целых три дня я ее не видел. Некогда было: на границе пропадал. На четвертый не выдержал и пошел, по длинной-длинной улице села Потыличи. Перед белой хатой с соломенной крышей и расписными ставнями остановился, открыл плетневую калитку. Не прогнали. Вот такие, брат Витя, пироги.
Дела сердечные
Теперь пусть Смолин отдохнет. Я беру на себя обязанность рассказчика. Прошло несколько дней, как растаяли снега на южных склонах гор, в ущельях еще лежали спрессованные сугробы, по вечерам было прохладно, но лощины и пригорки ужо зеленели молодой травой, небо уже по-весеннему высокое, чистое, голубое. Уже появились птицы и вьют гнезда. И солдаты днем уже не надевают бушлатов и на перекур собираются не в теплой сушилке, а в летней беседке. Никогда люди не говорят, не размышляют так много о любви, как весной. Никто так много не говорит о любви, как молодые солдаты, несущие службу в высоких горах, вдали от населенных пунктов. Раннее утро. Вся застава — казарма, канцелярия, склады, собачий питомник, дорожка, спортивный городок, — каждый ее уголок залиты ярким весенним солнцем. Смолин сидел перед беседкой, на пеньке и, подставив солнцу по-зимнему белое лицо, зажмурясь, курил свой неизменный «беломор». Со стороны казармы послышались быстрые шаги. Смолин не открыл глаз. Он и так узнал, кто направляется к нему. Николай Кузьмин. Редактор стенной газеты. Баянист. Запевала. Правофланговый заставы. Первый балагур. Скрытный парень. И мастер заставлять других раскрывать перед ним душу. — Здорово, старшина! Где ночевал? Кого на какой ручке держал? Смолин молча кивнул. Кузьмин оседлал перила беседки. Курил сигарету «Верховина», болтал ногами и веселыми насмешливыми глазами рассматривал Смолина. Чувствовалось, что его подмывало поговорить. Начал он без обычного своего зубоскальства, добродушно, дружески. — Первый раз вижу, Саша, как ты сидишь сложа руки. Чудно! Даже не верится. Ты ли это, старшина? Все время куда-то спешил, об чем-то тревожился, что-то делал, а сейчас нежишься на весеннем солнышке. Смолин засмеялся. — Таким уродился, ничего не поделаешь. Не научили отец с матерью отдыхать. Работать заставляли. — Умные у тебя были родители. Говорят, ты в пушкинских местах, в знаменитом Большом Болдине родился. Правда это? — Ну! Чего ж тут дивного? — И еще говорят, что ты какой-то родственник Пушкину. И это тоже правда? — Ну! Правда. — По какой линии? По материнской, наверное. — По духовной, Коля. — Как это? — Россию люблю как Пушкин. Предан России как Пушкин. Люблю, как и Пушкин, жизнь, людей, стихи, лес, реки, поля, закаты и восходы. Ненавижу подлецов, лизоблюдов, лодырей, брехунов. — Ну, если так считать, тогда и я духовный родственник Александра Сергеевича. — Так оно и есть, Коля. Все мы, сегодняшние люди, братья Пушкину. Никто не был к нему так близок, как мы. — Это верно. Мой дед и отец знали только два-три пушкинских стихотворения, а я могу читать наизусть целый том. Ну ладно, хватит о славных предках. Поговорим про нашу простую молодую жизнь. Говорят, ты вчера опять был в кино с одной местной дивчиной. Это правда, Саша? — Ну, был. А тебе что, завидно? — Не завидно, а интересно. Очень даже интересно. Ее зовут, кажется, Юзефа. Или Юлия. Так? — Можно и так и так. И еще Юсей. Для меня она — Юся. — Нравится она тебе? Смолин покраснел и опять засмеялся. — Смотри, какой любопытный! Ну, допустим, нравится. А дальше что? — Говорят, ты жениться на ней собираешься. По любви или так… критический возраст подошел? — Чудак человек. Если бы не полюбил, жениться бы не потянуло. — До свадьбы любишь, а после свадьбы разлюбишь. Бывает и так. — У меня так не будет. Не умею криводушничать. Ни обманывать, ни обижать, ни обещать того, что сделать не могу. — Понятно. Значит, ты собираешься осчастливить Юзефу? — Что ты, Коля! Юся меня осчастливит. Николай с самым искренним удивлением посмотрел на своего собеседника. — Она тебя осчастливит? Тебя?! Такого знаменитого? Такого молодца? Да ты, Сашка, оказывается, цены себе не знаешь. Не я чудак, а ты. Протри глаза, оглянись, в какое время живешь. Сейчас невест — хоть пруд пруди, а женихов, да еще таких как ты, — раз-раз и все. Ты должен выбирать наикращу дивчину на свете, а не она тебя. — Вот я и выбрал. Самую наилучшую. — Странный у тебя вкус, Саша. Не обижайся, старшина, за прямоту. — Ничего, не извиняйся. Давай говори. Интересно, Не от всякого услышишь правду. Ну? — Я говорю, в здешних краях нет пригожих дивчат. Все наилучшие остались там, в России: на Волге, на Урале, в твоем Большом Болдине. — Мне жаль тебя, Коля. Такой молодой, а уже близорукий. Закажи себе очки — и ты увидишь, что и здесь, как и в России, много хороших девушек. Кузьмин ничуть не обиделся. Даже как будто был доволен, что задел Смолина за живое, заставил разговориться. Усмехнулся и спросил: — Между прочим, что такое «хорошая девушка»? Объясни, пожалуйста, если тебе не надоели мои вопросы. — Могу и объяснить. Только боюсь, что ты не поймешь. — А ты попробуй. Ну! — Хорошая девушка — это… это… как тебе сказать?.. Смотришь на нее — и тебе все время хочется смеяться, песни петь, куда-то бежать, обнимать всякого встречного и поперечного. Рядом с ней чувствуешь себя сильным, красивым, никого и ничего не боишься. В огонь и воду можешь броситься. Горы свернуть. Воевать и работать готов за пятерых. — Все?.. Ну и сказал! По твоим словам выходит, что не она, девушка, хорошая, а ты, парень. — Вот, я же говорил, что не поймешь… Если ты будешь хорошим, то и она, твоя девушка, тоже будет хорошей. Жена — вторая половина мужа. Так говорят умные люди. И я им верю. И еще они говорят так: готовых жен не бывает. Хорошие жены рождаются в доме мужа. Слыхал ты, Коля, такие слова? — Чудно рассуждают эти твои умные люди. И ты вместе с ними. По вашей опасной теории выходит, что жениху не надо выбирать невесту, ему можно жениться на любой, на самой плохой дивчине и делать потом из нее хорошую жену. Так? — Сколько тебе лет, Николай? — При чем здесь возраст? Мне было двенадцать, когда отец бросил мать и четверых пацанов и смылся к другой. Мать умирала от горя, а через два с чем-то года на том самом месте, где обычно сидел и спал отец, появился новый… муж моей матери. И он тоже сбежал от какой-то женщины. Два сапога — пара. Любили, разлюбили и опять полюбили. Интересно, по какой теории они действовали? Оба, между прочим, фронтовики, ответственные, авторитетные товарищи. Смолин долго молчал. Он серьезно, чрезвычайно внимательно, новыми глазами вглядывался в обычно скрытного и насмешливого Кузьмина. И все, все понимал, чем тот мучился в свои двадцать с лишним лет, ради чего затеял этот нелегкий для себя разговор. Смолину вдруг захотелось обнять парня и сказать, что он никогда и нигде не обижал ни девушек, ни женщин и что Юлию он будет любить всю жизнь. Не успел. На крылечко канцелярии выскочил дежурный по заставе, сержант Лихарев и закричал: — Старшина! Вас вызывает лейтенант Петров. Смолин вскочил и энергично пожал руку Кузьмину, Спасибо, Коля. Все, что ты сказал, я намотаю себе на ус. Мы еще поговорим с тобой на эту опасную тему. Начальник заставы был официален — руки Смолину, как это делал обычно, не подал. Сесть не пригласил. Строго оглядел с ног до головы и спросил: — Вы здоровы, товарищ Смолин? — Так точно, товарищ лейтенант. — Оружие в порядке? — Так точно. Смолин отвечал быстро, энергично, весело, а сам уныло думал: «Что это с ним? За какие такие мои проделки он рассердился? Вроде бы не за что». Петров прошелся по канцелярии от двери к окну. Раз и еще раз. Остановился перед Смолиным, вскинул на него глаза. — Капитана Копылова, нашего соседа, артиллериста, знаешь? — Как не знать! Спортсмен первого разряда. Он к нам на заставу в волейбол ходит играть, а мы к нему на батарею — в футбол. — А молодую жену его видел? — Так точно. Капитан нас познакомил с ней. Мариной ее зовут. Из местных она. Копылов недавно, месяца три назад женился. — Так. Ну, а еще что тебе известно о ней? Хорошая она женщина? — А кто же ее знает. Мужу виднее, какая она. — Ну, а на твой взгляд? — Вроде бы симпатичная хохлушка. Компанейская. Веселая. Добрая. Работящая. — Женился бы ты на ней? — Нет, товарищ лейтенант. — Почему? — Потому что она замужем. — Ну, а если была бы свободной? — Я могу жениться только на той, какую полюблю. — Полюбишь?.. Или любишь?.. Прошу уточнить. По-северному белое лицо Смолина густо покраснело. Голова поникла. Губы сжались и отвердели. — Что, трудно ответить на такой ясный вопрос? Ладно, можешь не отвечать, все ясно. Так вот, товарищ Смолин. Эта самая «симпатичная» хохлушка из местных, недавно вышедшая замуж за Копылова, оказалась связной бандеровской банды. Накрыли ее с поличным в тот момент, когда она передавала своим сообщникам сведения. Мы ее задержали, оформили документы и направляем в отряд. Конвоировать арестованную приказываю тебе. Понял? С языка Смолина чуть-чуть не сорвалось: «Почему мне, товарищ лейтенант? Разве это мое дело?» Сдержался. И с присущей ему дисциплинированностью ответил: — Так точно, товарищ лейтенант, все понял. Приказано конвоировать задержанную Копылову. Разрешите исполнять? — Постой. Вопросы есть? — Никак нет, товарищ лейтенант. — А личного порядка? — Тоже нет, товарищ лейтенант. — Неужели тебя не удивляет, что эта симпатичная Марина оказалась вражеским агентом? Смолин некоторое время молчал, глядя в пол. Потом вскинул голову и прямо, глаза в глаза, посмотрел на Петрова. — Разрешите отвечать, товарищ лейтенант? — Да. — По правде сказать, меня удивляет другое. — Ну? — Почему вы так со мной разговариваете? — А как я с вами разговариваю, товарищ Смолин? Разве я был с вами груб? Я вас оскорбил, унизил? Потребовал чего-нибудь такого, чего не имею права требовать? Отвечайте! — Никак нет, товарищ лейтенант. — Так в чем же дело? Что вас удивило? — Ничего, товарищ лейтенант. Это я так… оговорился. Лишнее сболтнул. — Нет, вы должны сказать. Правда так правда. — Нечего мне больше вам сказать, товарищ лейтенант. Разрешите исполнять приказание? — Затаил обиду, Смолин? — Что вы, товарищ лейтенант. Подчиненный не имеет права обижаться на своего начальника. Командир всегда, в любом случае бывает справедливым. — Садись, Смолин, поговорим по душам. — Спасибо, товарищ лейтенант, я постою. — Садись. В ногах правды нет. — Как у кого, товарищ лейтенант. В ногах нарушителя, убегающего от меня, ее нет. В моих же ногах, когда я преследую нарушителя, она, эта правда, есть. Должна быть. Начальник заставы засмеялся. — Это ты точно сказал. Не в бровь, а в глаз. Молодец, в карман за словом не лезешь. Молчишь, молчишь, а потом как скажешь… Не учел твоей особенности. Извини. Давай садись. Ну, и упорный ты, Смолин. Хочешь, чтобы я попросил тебя? Могу. Пожалуйста, Александр Николаевич, сделай одолжение, возьми стул. Смолин опять густо покраснел и сел. Руки выложил на колени. Глаза опустил. Молча и напряженно ждал, что ему еще скажут. — Люблю я тебя, Саша, — начал лейтенант. — Ценю. Уважаю. Добра хочу. Смолин молчал, не поднимал головы. — И потому вот так разговариваю с тобой. Боюсь я за тебя, Саша. Береженого, как говорится, и бог бережет. Ты меня понял? — Никак нет, товарищ лейтенант. — Не хочешь понять? Ну, раз такое дело, каши с тобой мы не сварим. Иди. Постой. Ты не думай, что конвоировать эту Марину унизительно для прославленного следопыта. Важная она персона. Я должен быть уверен, что ее доставят по месту назначения. От тебя она не убежит. Это ты способен понять? — Понял, товарищ лейтенант. Доставлю в срок и аккуратно. — Ну вот, слава богу, хоть по одному вопросу договорились. Давай выполняй. Дежурному уже отданы все распоряжения. Желаю успеха. Смолин козырнул, по всем правилам отпечатал строевой шаг и вышел. На душе у него было нехорошо. Больше собой был недоволен, чем лейтенантом. Зря полез в бутылку. Надо было спокойно его выслушать. Тогда было бы ясно, чего он добивается. Впрочем, ему и теперь, после намеков лейтенанта ясно, что именно ему не нравится. Все дело в Юзефе. Дежурный по заставе уже приготовил телегу, запряженную самой выносливой лошадью, с чудной кличкой — Попик. Прозвали ее так, очевидно, за лохматую, не поддающуюся гребенке гриву и такой же ершистый хвост. Но работал Попик охотно, резво. Всю дорогу, если желаешь, может бегом промчаться. Ездовым был выделен рядовой Деревянкин. Копылову уложили на дно телеги, на сено. Смолин, с автоматом в руках, сел у нее в ногах. На всякий случай он прихватил с собой еще несколько гранат. У ездового тоже был автомат. Время сейчас трудное, опасное. Не исключено, что бандеровцы попытаются отбить свою связную. Весь личный состав заставы стоял у казармы, когда выезжали со двора. Дорога в штаб отряда была хорошая. Часа через полтора Смолин рассчитывал быть на месте. Минут десять ехали молча. Потом ездовой достал папиросы и спросил: — Товарищ старшина, разрешите закурить? — Давай, вали. Только смотри, не очень окуривай даму. Деревянкин покосился на лежащую вниз лицом Марину и засмеялся. — Что вы, товарищ старшина, я человек деликатный. Марина резко повернулась на бок, поднялась и села. Лицо ее было белым, будто вымазано мелом. Покусанные губы кровенились, Она облизала губы и сказала хриплым голосом: — Хлопцы, дайте закурить. Умру, если не дадите. Ездовой не пошевелился. Только презрительно хмыкнул. Смолин вытряхнул из пачки «Беломора» папиросу. Она схватила ее, жадно затянулась, раз, другой, третий. Белые ее щеки немного порозовели. Перевела дыхание, взглянула на Смолина своими черными злыми очами и усмехнулась. — Ну, Сашко, о чем ты думаешь, глядя на меня? — Какой я тебе Сашко? — Боишься признаться, что знаком со мной? — Мало ли с кем я знаком. Заткнись! — Нет, Сашко, я тебе все скажу, что хочу. Я с малых лет дружила с твоей Юзефой. Мы с ней с одного гнезда вылетели. Одинаково кукуем. Не страшно тебе такие слова слушать? Если страшно, давай затыкай мой рот сеном. — Ну и стерва ты. Как только таких людей земля держит? Сама на дно идешь и других, ни в чем не виновных, хочешь потянуть за собой. — А я ничего плохого не сказала о Юзефе, И не скажу. Добрая вона людина. Она перед Советской властью чистая. Но разве вы теперь, после того как схватили меня, поверите в ее невиновность? Вы и ее не сегодня, так завтра схватите. Раз дружила со мной — значит, запачкалась, значит, тоже бандеровка. Скажи, разве не так? — Таких, как вы, Марина, уже не разубедишь. Давай лучше помолчим. — Я еще успею намолчаться. Напоследок с тобой вволю поговорю. Я пропала, и подружка моя Юзефа тоже пропадет. — Какая она тебе подружка? Первый раз слышу. Никогда я не видел вас вместе. — Пропадет! Жалко мне Юзефу. Теперь ее все за три версты будут обегать. И ты первый. Заставят тебя отвернуться от нее. Вот так же когда-нибудь будут конвоировать и твою любимую Юсю. Эх, Сашко, Сашко!.. Кому ты служишь? Даже полюбить, кого хочешь, не имеешь права. Смолин уже даже не сердился на нее. Слушал — и посмеивался. Белыми нитками шита ее хитрость. Пусть себе болтает. Она еще минут десять несла всякую чушь, Увидев, что ее слова никак не действуют на него, приумолкла. — Ну, выговорилась? — спросил Смолин. — Отвела душу? Теперь я кое-что тебе скажу. Вот ты говорила, что с Юзефой из одного гнезда вылетела, что кукуете вы одинаково. Может, так оно и было. Но почему же ты оказалась такой вот, а Юзефа другой? Почему она искренно, от души полюбила своего будущего мужа, а ты, как змея, пригрелась у Копылова на груди? Вот чего я не пойму. Один хлеб ели, одну воду пили, под одним небом жили, а такие разные. Марина уткнулась лицом в сено и не отвечала.Как ты думаешь, Витя, можно полюбить плохого человека? Я, брат, по правде говоря, больше самому себе задаю этот вопрос, чем тебе. Твоя точка зрения насчет любви давно известна. Ты не только плохую, но и хорошую дивчину не хочешь и не можешь любить. Сухарь ты, Витя. Непромокаемый. Железный. Не надо было бы посвящать тебя в такие мягкие дела, но что делать. Привык я, дурак, не скрывать от тебя ничего, чем живу, о чем думаю. Можешь смеяться надо мной, но я все равно выскажусь и по этому щекотливому вопросу. Надо высказаться, навести в душе порядок. Ну, так вот. Можно ли полюбить плохого человека? Оказывается, можно. Бывает. Я знаю один такой случай. Знаком я с влюбленным. Парень как парень. Не дурак. Грамотный. Толковый во всех отношениях. А она… она, его жена, оказалась политически чуждым элементом. Представляешь? Стерва разыгрывала из себя хорошую. И не один день. Несколько месяцев. И он ничего не видел, не чувствовал, не угадывал. Этого, брат, я никак не могу понять. Любовь, настоящая любовь, по-моему, глазаста как стереотруба — есть у нас, пограничников, такой прибор. У любви, по-моему, чутье и нюх как у самой лучшей розыскной собаки. Настоящую любовь нельзя обмануть. Она все понимает, чувствует, разгадывает. Я вот, например, не мог бы полюбить девушку с кривой душой. Неправдивую, бессовестную, злую, ленивую. Как бы она ни притворялась, как бы ни старалась быть ласковой и все такое, я бы все равно раскусил ее. Честное слово, я не хвастаюсь. В любом человеке вижу самое малое притворство. Поверишь, даже по взгляду понимаю, кто чего стоит. Не знаю, откуда это у меня. Наверное, от родителей. Да еще от моей следопытской работы. И по этой же причине я не побоюсь влюбиться и в местную дивчину. Если влюблюсь, значит, она девушка достойная, моего корня и покроя. Вот такие пироги, Витя. Ты, конечно, спросишь, почему это я вдруг разговорился на такую тему. Все сейчас же объясню. Помнишь, я писал тебе о Юзефе? Встречаемся мы с ней часто. А это кое-кому не нравится из наших товарищей. Ворчат, Предупреждают. Боятся, что Смолин не с той дивчиной, с какой надо, время проводит. Представляешь? Вот, брат, в какой переплет я попал. Трудно мне вот этак же просто, откровенно, как тебе, объяснить им, что зря они боятся. За некоторых других они правильно беспокоятся, а за меня — зря. Не могу ошибиться в таком деле. Не должен. Душа минера у меня. Не знаю, брат, как им растолковать, что я сам себя всю жизнь оберегаю от всех напастей. Вот и все на сегодня, Витя. В другой раз напишу кое-что о Юзефе и себе. После того, как окончательно прояснится наш с нею горизонт.
Прощай, Джек!
Непостоянная, переменчивая была в ту раннюю весну погода: днем ясное небо и солнце, к вечеру нависали дождевые тучи, ночью сыпалась то ледяная крупа, то мокрый снег, а к утру землю сковывал исчезающий с восходом солнца морозец. Бывало, что на вечерней заре дул по-зимнему свежий ветер, а к рассвету наползал сырой, по-осеннему непроглядный туман. В одну из таких ночей пограничная застава была поднята по боевой тревоге. Через несколько минут старшина Смолин и его Джек в составе наряда прибыли на границу. Это было редчайшее для этого района нарушение: КСП перешли сразу четыре человека. По труднопроходимому, задымленному туманом оврагу, который начинался далеко на сопредельной стороне и тянулся в глубь нашей территории, какие-то люди, весьма осторожные и хорошо подготовленные, перешли границу и скрылись. Посадив собаку в стороне, Смолин при свете карманного электрического фонаря тщательно исследовал отпечатки на вспаханном грунте — четыре пары мужских сапог. Глубина и длина отпечатков говорили о том, что все мужчины были рослые, грузные. След был относительно свежий, получасовой давности. Запомнив все это, он вернулся к собаке. Джек успел отдохнуть и успокоиться. Взяв его на поводок, Смолин подвел к следу и спокойным, властным голосом отдал команду: — След! След! Джек возбужденно нагнул массивную голову, энергично обнюхал отпечатки и стремительно рванулся вперед по «горячему» следу. — Хорошо! Хорошо! — подбодрил Смолин собаку и, чуть сдерживая ее на поводке, побежал за ней. Солдаты в боевом порядке сопровождали их. Много в пограничной службе сложных и трудных дел. Преследование — труднейшее из них, Здесь ты должен проявить все, буквально все боевые качества пограничника: зоркость и чуткость, стремительность и сноровку, ловкость и бесстрашие, ум и хладнокровие, осторожность и риск. Одно преследование не похоже на другое. Каждый раз это — величайшее испытание, венец усилий многих людей. Велика ответственность возглавляющего наряд, ведущего преследование. Ты должен бежать как олень, видеть и слышать все, быть разведчиком и следопытом, ты должен быть умнее и ловчее самого опытного и ловкого нарушителя. Твои усилия должны обязательно завершиться поимкой нарушителя. Как бы враг ни был опытен, вооружен, как бы он далеко ни ушел, ты должен догнать его, вступить в борьбу, обезвредить или уничтожить. Джек уверенно бежал по следу — по заросшей бурьяном целине, по дну оврага, по болоту. Ни предрассветная темнота, ни густой туман, ни дождь, прошедший недавно, ночью, не сбивали его со следа. Все, что имел Джек, — смелость и злобу к посторонним людям, бесстрашие к выстрелам, неутомимость в беге, отвращение к пище из чужих рук, обостренное обоняние, тонкий натренированный слух, умение лазить по лестницам, прыгать через изгороди — решительно все было восстановлено в нем Смолиным. Сотни километров проделал Смолин с Джеком в школе в часы тренировок и на службе. Лесом и оврагами. Степью и болотами. Днем и ночью. Весной и осенью. В буран и в дождь. Джек бежал мягко, плавно, быстро. Его крепкая клинообразная морда почти не отрывалась от земли. Между черными сухими губами белели крупные клыки. Уши ни на одно мгновение не утрачивали настороженности. Щетинилось седое ожерелье шерсти на могучей шее. След нарушителей петлял то влево, то вправо, то под прямым, то под острым углом. Джек, несмотря на быстрый бег, ни разу не сбился со следа. Самый знаменитый скороход не выдержал бы такого темпа на дальней дистанции. Смолин сдерживал собаку поводком и вполголоса подавал команду: «Тише!..» Овраг кончился. Выскочили на свежевспаханное поле. Небо выше поднялось над землей. Заметно посветлело. На востоке разгорелась заря. Смолин оглянулся. Пограничники отстали. Сзади, неподалеку, бежал только сибиряк Степанов, потомственный таежный охотник. Метров триста следы тянулись полем, потом увели в лес, густой и сырой, еще полный ночной темноты. Под каждым кустом мог затаиться враг. Джек рвался вперед и тихонько повизгивал. Было похоже на то, что нарушители вблизи. Смолин не остановился. Он отлично знал, что в лесу на влажной мшистой почве и вследствие малоподвижности воздуха след сохранялся дольше. Джек возбужден именно по этой причине — свежее, «горячее» стал след. Опыт подсказывал Смолину, что нарушители использовали каждую минуту, чтобы уйти как можно дальше от границы, выбраться на простор. Значит, их можно преследовать смелее, не растрачивая драгоценного времени на предосторожность. Пока она излишняя. Пока! Старшина ослабил поводок. Почувствовав это, Джек резко набавил скорость. Обоняние собаки — тончайший инструмент. Она живет в мире запахов. В лесу этот мир многообразен, но Джек уверенно пробирался через все препятствия. — Хорошо! Хорошо! — подбадривал своего друга Смолин. Вдруг Джек остановился, словно наскочил на стенку, Смолин предупредительно отпустил поводок. Собака метнулась в сторону, пробежав несколько метров, обернулась и подала голос. Смолин увидел на земле брошенную нарушителями куртку. Поднял ее, осмотрел. Она еще сохраняла терпкий запах пота. Поставив собаку на след, побежал дальше. Весенний день пробивался в лес. Нехотя отступали сырые угрюмые сумерки. Стали видны деревья, каждое в отдельности — осина, ольха, дуб, клен. Заблестела ночная роса на мхах. На них темнели отпечатки следов нарушителей. Смолин ускорил движение. Солдат Степанов не отставал. Он бежал чуть-чуть позади. Оборачиваясь, старшина видел его скуластое, раскрасневшееся, исполненное решимости лицо и мокрый черный чуб, выбившийся из-под фуражки, Автомат у него все время был наготове. Джек выбежал на просеку. Здесь было много следов. На земле хорошо отпечатались обувь, копыта, шины колес. Трудная это задача — не потерять след на большой дороге, но великолепное чутье Джека не подвело и на этот раз. Низко неся голову, собака продолжала уверенно бежать по дороге. Метров через двести Джек остановился, усиленно принюхиваясь. Потом резко, под прямым углом, свернул вправо, потащил Смолина в лес. След привел в овраг и оборвался на берегу речушки, набухшей бурными весенними водами. Джек так был захвачен погоней, так приучен преодолевать любые препятствия, что при первой же команде «Плыви!» ринулся в поток и уверенно преодолел его. Форсировал речку и Смолин. На другом берегу Джек отряхнулся и бархатным холодным носом коснулся руки Смолина: приласкай, мол, дружище! Старшина улыбнулся и поощрительно потрепал по загривку своего помощника. Не дожидаясь приказания, Джек нашел потерянный след и побежал дальше. Минут пять спустя он вывел Смолина на поляну, в центре которой были сложены березовые дрова. С подветренной стороны поленницы поднимался дым костра и доносились голоса. «Они!» — подумал Смолин и положил палец на спуск автомата. Но, странное дело, Джек не проявлял беспокойства. Поведение собаки внушило тревогу Смолину. Не на ложном ли следу Джек? Еще больше встревожился Смолин, когда Джек, не добежав до поленницы, круто свернул влево, в лесную чащу. Остановив его рывком поводка, он заколебался: что делать? Довериться собаке, идти за ней или посмотреть, что за поленницей? «Верю я тебе, дружок, но все-таки проверю», — решил старшина. Он жестом приказал Джеку следовать за собой. Собака привыкла выполнять волю инструктора. Теперь же подчинилась ему неохотно. Бесшумно выскочив из-за поленницы, Смолин увидел сидящих у костра людей. Они закусывали и ничуть не испугались пограничника. Джек подбежал к дровосекам. Мирно, равнодушно обнюхал их сапоги и отошел, оглядываясь на лесную чащу и тихонько повизгивая. Смолин уже знал, что перед ним люди, не имеющие отношения к тому, что произошло ночью на границе, тем не менее он придирчиво проверил их документы и убедился, что это лесорубы-сезоннники. Вернувшись назад, Джек взял оставленный след и помчался дальше. Велики были возможности Джека, но не беспредельны. Он начал уставать. Не оттого, что пробежал десять или двенадцать километров, — для выносливой овчарки это сущие пустяки. Джек израсходовал силы на то, чтобы среди массы других запахов разыскать след нарушителя. О, это нелегкая работа! Предельно была напряжена нервная система. Если вовремя не дать собаке отдохнуть, то она временно потеряет способность идти по следу. Джек пробежал еще километров пять-шесть. Смолин остановил его и повелительным жестом уложил на траву под кустом голого орешника. У старшины был припасен кусок вареного мяса. Он лег рядом с собакой и стал подкармливать ее, поощряя командой: «Хорошо! Хорошо!» — В чем дело? Почему залег? — спросил подбежавший Степанов. — Отдыхаем, — спокойно ответил Смолин. — Да разве можно сейчас отдыхать? — Можно. — Так ведь… — Поспешишь — людей насмешишь. Загоревшее лицо Смолина жарко пылало. По щекам бежали струйки пота. Но серые, стального блеска глаза были жестко прищурены и вглядывались в тихий утренний лес. Чутье Смолина, умеющего слушать и сердцем, говорило ему, что обманчива теперь тишина. Немало средств у пограничника на вооружении: боевая техника, опыт и мастерство, чекистские традиции, поддержка населения и многое, многое другое. Но нет пограничника, который пренебрегал бы в своей работе таким испытанным оружием, как чутье. Чутье пограничника — особое чутье. Приходит оно несразу, не в первый год службы, но рождается и воспитывается с первого дня, с того часа, когда ты пошел по дозорной тропе. Смолин поднялся, подал команду, и собака уверенно пошла вперед. Пограничник еще пристальнее стал вглядываться в лес. За каждым деревом, под любым кустом, в овражке, в ветвях ели мог затаиться нарушитель с автоматом в руках. Ко всему будь готов! Глаза Смолина видели весь лес сразу и каждое дерево и кустик в отдельности. Казалось, ничего подозрительного не было среди красавцев дубов, до сих пор не потерявших бронзовых своих листьев и среди долговязых обнаженных осин, и там, в дальней роще ольшаника. Но вот Джек насторожился, ощетинился и зарычал. В гуще молоденьких елочек Смолин сразу же увидел силуэты людей. Шепотом отдал команду: — Ложись! Прильнув к земле, чуть склонив голову и двигая острыми ушами, Джек всматривался в ельник. Оттуда дали автоматную очередь. Смолин ответил — огонь по огню. Степанов поддержал его. Подоспели солдаты, и завязалась перестрелка. Диверсанты вынуждены были принять бой… Смолин приказал двум солдатам обойти ельник слева, а сам в сопровождении Степанова подался вправо, перебежками, от куста к кусту. Джек не отставал от Смолина: ложился, переползал, бежал. Пограничники надвигались со всех сторон. Огненная петля вокруг диверсантов сжималась все туже. Внезапно огонь со стороны нарушителей прекратился. Смолин тоже перестал стрелять. Что это значит? Ушли или перебиты? Сквозь ельник, изрезанный пулями автоматов, он увидел распластавшиеся на земле две черные фигуры. Только двое! Где же остальные? Неужели успели удрать? Да, похоже на то. Осторожно Смолин подполз к убитым. Они лежали, уткнувшие в землю. Перевернули их на спину. Увидел заросшие лица. На крепких ремнях подвешены гранаты, автоматные диски в чехлах, кинжалы в ножнах. Как ни торопился Смолин, но он внимательно, с острым любопытством вглядывался в обезвреженных диверсантов. Никогда не привыкнет человек видеть зверя в облике человека. Сколько зла натворили на земле эти два молодчика с испитыми лицами, сколько людей сделали несчастными! — Ефременко и Гарбузов, оставайтесь здесь. Каминский и Филиппов пойдут на связь. Мы продолжаем преследование. Выполнять! — скомандовал старшина. Джек отдохнул и до крайности был возбужден и озлоблен выстрелами. Он бежал с прежней, как и в начале преследования, резвостью. Свежий след он брал верхним чутьем. Смолин дал собаке полную волю. Пробежав около двадцати километров оврагами, лесами, топкими лугами, вязкими пашнями, Смолин чувствовал себя способным преодолеть еще столько же. Он мчался за Джеком, готовый каждую минуту открыть огонь по врагу. Еловые ветки, покрытые дождевой росой, хлестали по разгоряченному лицу. Пот заливал глаза. Ноги попадали в колдобины, полные весенней воды, цеплялись за корни и кустарник. Смолин падал и поднимался, прежде чем Джек успевал натянуть поводок. Славился Смолин и на заставе и в комендатуре своей рассудительностью, хладнокровием. На этот раз ситуации была такова, что только стремительное преследование могло завершить дело. Увлеченный погоней, Смолин забыл о себе и о своем верном друге. Неожиданный встречный огонь напомнил ему, что и он и его Джек тоже смертны. Старшина залег у толстой сосны и под ее прикрытием начал поливать пулями кустарник, скрывший диверсантов. Падая, он скомандовал: «Ложись!» Джек повиновался, но с какой-то странной, необычной для него медлительностью. Он сначала опустился на колени, потом уткнул морду в землю и вдруг беспомощно, безжизненно завалился на бок. Мох вокруг его головы густо покраснел и чуть задымился на прохладном воздухе. Смолин посмотрел в широко раскрытые глаза Джека, на его редкие седые усы, поникшие уши, атласно-розовые изнутри и замшевые снаружи, на его ослепительно-белые клыки. Что-то надломилось в груди Смолина: ему стало трудно дышать и смотреть… После непродолжительной перестрелки диверсанты стали отходить. Сначала прикрывались огнем, а выбравшись из кустов, вскочили и побежали. Смолин увидел их спины между дальними деревьями. Они бежали изредка оглядываясь, как шакалы. Старшина понял: огнем автомата их уже не достать. Они скрылись в лесу. Смолин мысленно проследил их дальнейший путь. Конечно, теперь они не станут метаться из стороны в сторону, петлять след. Побегут прямо, чтобы скорее добраться до крупного населенного пункта, до железнодорожной станции.— Не доберетесь! — заскрежетал зубами Смолин. Он не ошибся. Диверсанты вышли как раз туда, где он подрезал им путь, — к лесной просеке, ведущей к железной дороге. Они пробирались друг за другом. Первым шел высокий и худой, в меховой шапке и кожаной куртке, подпоясанный ремнем. Вторым — плечистый, в потрепанной шинели, в расстегнутой до последней пуговицы, с могучей волосатой грудью. Оба были вооружены автоматами и гранатами. Такие живыми не сдаются. Затаившись в кустах, Смолин хладнокровно, почти в упор навел на идущего впереди автомат и дал короткую очередь. Диверсант упал. Второй бросился бежать. Смолин хотел уложить его, но сдержался вовремя: «Пригодится для допроса». Он только резанул его струей пуль по ногам. — Лежать! — скомандовал он рухнувшему посреди просеки бандиту. Дрожащие руки с короткими толстыми пальцами поспешно потянулись к оружию и сейчас же бессильно упали. — Сдаюсь… не стреляй, — простуженно прохрипел враг. Смолин поднял автомат нарушителя, ощупал его карманы и в изнеможении, вдруг охватившем его, сел на пенек, рукавом гимнастерки вытер мокрый лоб, лицо. Потом достал портсигар, закурил, выпуская дым густыми клубами. Из-за летучей гряды весенних туч показался малиновый край солнца. Лучи его гигантскими копьями ударили в землю. Задымилось насквозь мокрое обмундирование старшины. Светлее и теплее, совсем по-весеннему стало в глухом лесном царстве.
Неподалеку от того места, где разыгрался бой, на вершине какой-то небольшой горы Смолин выдолбил небольшую яму, положил в нее Джека, забросал землей, присыпал листьями, посадил маленькую елочку. Прощай, Джек! Прощай, дорогой!
Как мне понравились новые деньги? Не знаю, брат. Не успел рассмотреть их как следует. Получил и в тот же день отослал в Большое Болдино, матери. Они ей нужнее, чем мне. Я, брат, на полном довольствии у государства. Живу как при коммунизме. С 24 февраля 1941 года, с тех пор, как призвали в армию, деньги в моей жизни занимают самое последнее место. Вернее, никакого места я им не предоставил. Не заслужили. Питание — бесплатное. Обмундирование — бесплатное. Помещение и койка с постелью — бесплатные. Баня — бесплатная. Кино — бесплатное. Вакса для сапог — бесплатная. Почта — бесплатная. Газеты — бесплатные. «Беломор» только покупаю. Привык к такой жизни. И прекрасно себя чувствую. Никаким пережиткам недоступен, не то, что ты. Небось у тебя, Витя, каждого первого числа душа уходит в пятки от страха: хватит ли заработанных денег до аванса или получки или как они там у вас называются? Вот такие пироги, дорогой мой. Ну, а если серьезно сказать, так я очень доволен, как и ты, что поменяли деньги. Давно пора! У здешних спекулянтов полным-полно довоенных червонцев. А сколько их было у бандеровцев! В одном схроне мы обнаружили пять мешков со старыми деньгами. Немцы во время нашего отступления нередко захватывали целые миллионы. Так что очень даже хорошо, что произошел обмен. Хапуги и ворюги не понесут в банк награбленные деньги. И в сберкассе они не хранили свой капитал. Обанкротились. Прогорели. А мы с тобой, как и весь народ, выиграли. Сегодня наш рублик звонкий, полновесный. Ну а теперь, Витя, я по секрету доложу тебе вот что. Плохо для моего будущего, что деньги не занимают в моей жизни никакого места. Пока я холостяк, обхожусь и без них. А если, чего доброго, женюсь? Не век же я буду жить один. Надо, брат, взяться за ум и завести свой счет в сберкассе. Как, правильно я рассуждаю?
«Валеты» и Косматый
Заскучал Смолин без друга. Затосковал. Места себе не находил. Разучился улыбаться. Неразговорчивым стал. На людей избегал смотреть. Конечно, он понимал, что Джек всего-навсего собака, негоже, нехорошо так убиваться, но ничего с собой поделать не мог. Был пограничник как пограничник, всегда на первой линии огня, всегда впереди тревожной группы, а теперь… Безоружный пограничник. Есть у него автомат, пистолет, гранаты — и все-таки разоружен. Для следопыта хорошая собака — это глаза, уши, обоняние. Есть она у тебя — ты быстроногий, смелый, зоркий, веселый, всеми уважаемый, всем нужный, все слышишь, видишь, всегда связан с границей живой пуповиной. Нет ее — осиротел… «Джек ты мой дорогой, работать бы нам с тобой еще и работать! Хватило бы тебя еще года на три-четыре, если бы не дурацкая пуля. Зачем я снял с тебя поводок и послал в огонь? Почему не удержал? Как не понял, не догадался, не почувствовал, что тебя гибель ждет?» Такие мысли терзали Смолина каждый день. С утра до вечера. Такую собаку не сберег! На вершине холма, где зарыт Джек, принялась елочка, зеленеет трава, а Смолину до сих пор слышится встревоженный лай. И поныне горят ладони, облизанные воспаленным языком умирающего Джека. И снится он Смолину чуть ли не каждую ночь. Отряд обжился на границе, хорошо обстроился. На всех заставах теперь достаточно обученных собак: розыскных, сторожевых, караульных. Неплохо укомплектован и питомник. Но Смолину выбирать было не из чего. Посмотрит на одну, потянется к другой, облюбует третью — и разочаруется. Не то, совсем не то, что ему хочется. Всем, кажется, хороши собаки, и выучкой, и ростом, и мастью, и породистые, и злые, и молодые, но не лежит душа к ним. Джек всех затмевает. Дают ему любую, а он не берет. Ждет. Ищет. Авось, на его счастье, подвернется собачка, хотя бы отдаленно напоминающая старину Джека! Будет и у него пес. Непременно. Кто-то, где-то выращивает превосходную собаку, предназначенную судьбой для Смолина. Не знает ни ее клички, ни масти, ни характера, но уже любит. Где-то они встретятся? Когда? Хорошо бы поскорее. Ну! Что делать? Как избавиться от тоски? Смолин идет к Николаеву. Все как есть рассказывает и просит послать его стрелком в тревожную группу. — И что вы будете там делать? — Что и все. Ловить парашютистов, диверсантов и всякую другую пакость. Николаев смотрит на Смолина ласково, с сочувствием, а на словах официально строжится. — Не могу я этого сделать, товарищ Смолин. Вы специалист и нужны нам здесь. В тревожной группе людей достаточно. — Никому я здесь не нужен, товарищ старший лейтенант. С утра до вечера баклуши бью. — Сами виноваты, товарищ Смолин. Берите молодую собаку, дрессируйте, воспитывайте. — Где ж ее взять? Нет в отряде подходящих собак. — Ну, знаете!.. Плохо стали видеть, товарищ Смолин. В моем распоряжении добрая сотня рабочих собак, да в питомнике столько же. — Собак много, а подходящих к моему характеру нет. — Есть! Выбирать не умеете. Ни злиться, ни повышать голоса Смолин не имеет права. Терпит. Говорит, как ему положено. — С каких это пор, товарищ старший лейтенант, вы потеряли веру в инструктора Смолина? Смягчился Николаев. — Ну, а если умеете, то не хотите выбрать. Привередничаете. — Да вы поймите, товарищ старший лейтенант, но могу я после Джека работать с какой-нибудь собакой. — Другие работают с рядовыми собаками, а вам подавай особо даровитую, особо породистую, особо покладистую, особо приметную! Вот и договорились… боевые друзья. Бывшие друзья. Все. Можно разбегаться. Но они не торопились. Сидели. Смотрели друг на друга. И даже теперь, после всего, что было сказано, Смолин не верил, что Николаев так думал, как говорил. Глаза его по-прежнему были ласковыми. Почему же не скажет он ничего по-доброму? Должность мешает? — Пошлите в тревожную группу, товарищ старший лейтенант. Временно. Проветрюсь, хлебну свежего воздуха — и вернусь. — Ты мне здесь, дорогой Саша, нужен. Не могу без тебя. — Ну если так, я подам рапорт по всей форме. — Подавай. Я наложу резолюцию: «Категорически возражаю». — Я демобилизуюсь. — Не посмеешь. — Для такого дела большой храбрости не надо. — Ты не сделаешь такой глупости. — Какая ж тут глупость? Все пограничники, отслужив свой срок, демобилизуются. — А ты не «все». Ты Смолин! Следопыт божьей милостью. Самородок, плюс школа, плюс опыт, плюс громадная любовь к своему делу. Не можешь ты бросить границу. Глубоко ты вошел в нее. Засохнешь без КСП, без тревог, без преследований, без ракетных всполохов, без красно-белых столбов. Граница — твоя жизнь. Правильно сказал. Хорошо. В душу заглянул. Мысли и чувства Смолина в слова отлил. Раньше не очень нахваливал следопыта, а теперь вот, в самое неподходящее время, проговорился. Действительно, Смолин не мог уйти с границы. Всю жизнь будет носить зеленую фуражку. Нигде не будет ему так интересно, как здесь. На границе он открыл себя. Зачем же бежать отсюда? Смолин засмеялся. С трудом, через силу, подавив собственное сопротивление, но все-таки засмеялся. И Николаев улыбнулся, Совсем мирно. Без всякого усилия над собой. Искренне. Доверчиво. Дружелюбно. — Думаешь, я не тоскую по Джеку? Думаешь, не понимаю, какую мы собаку потеряли? Такой у нас больше не будет. Да, невосполнимая потеря. Но гибель Джека не должна отразиться на нашей работе. Мы с тобой люди, у нас больше возможностей, чем у даровитого Джека. И он еще долго обстоятельно говорил на эту тему. Когда он высказался, Смолин опять принялся за свое: — Товарищ старший лейтенант, отпустите месяца на три-четыре. Мне надо переменить обстановку. Поездить. Побегать. Поработать. Повоевать. Окунусь с головой в кипяток и прорубь — забуду про все. Николаев посмотрел на Смолина, подумал и сказал: — Ладно, убедил. Отпускаю. Может, ты и прав. Бегай! Воюй! Да смотри без ухарства. Возвращайся целехоньким, как стеклышко.В тревожной группе Смолин собирался пробыть два месяца, а провоевал там полгода. Много было всяких случаев, для целой книги хватило бы рассказов. Но я расскажу только про белые снега и березовую рощу. Дело было в разгар зимы, в самую снежную пору. Всюду белела снежная, целина. Сугробы, сугробы, сугробы. Деревенские крыши нахлобучили громадные белые тулупы. Проселочные дороги утрамбованы, подняты над землей, как железнодорожная насыпь. Чуть свернешь — проваливаешься выше пояса. Сибирские снега лежали на западноукраинской земле. Хорошо еще, что сильных морозов не было. Трудно приходилось пограничникам. Да и нарушителям нелегко было убегать, прятаться: метель не мела — все следы отпечатаны на снегах. Встав на лыжи, пограничники очищали глухие леса от бандеровцев. Двоих поймали, связали, уложили в сани и отправили в комендатуру. Смолину и рядовому Бодрых приказано было конвоировать задержанных. Поехали. Бодрых правит лошадьми, а Смолин сидит в задке саней с автоматом наготове и глаз не спускает с головорезов. Все для них кончено. Но разве такие примирятся со своей долей? Пока живы, до тех пор будут сопротивляться, искать выхода из безвыходного положения. Кто знает, не ухитрятся ли как-нибудь сбросить с себя путы? Но вояки с трезубцами на шапках ведут себя смирно. Не шелохнутся. Не смотрят на белый свет. Тихонько посапывают носами. Вроде как спят. Не верит им Смолин. Все время ждет какой-нибудь самой отчаянной выходки с их стороны. Терять им уже нечего. Пан или пропал. Лежат они ногами в разные стороны, валетом. Один русоголовый, с белесыми бровями, белолицый, наголо обритый. Другой — веснушчатый, огненно-рыжий, с золотыми зубами, с аккуратно подстриженной бородкой. Оба молодые, здоровенные, откормленные на чужих хлебах. До костей пропитаны самогоном. Враждебны всему новому. Свое жалкое существование поддерживают только гранатой, автоматом, ножом, пролитой кровью крестьян-земляков. Тысячу раз Смолин убеждался, что для них человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Убивают людей как мух. Не жалеют ни брата, ни сестру, ни мать, ни отца, ни друга, если те не хотят стать их сообщниками. Смолин и его товарищи накрыли их в схроне внезапно, мертвецки пьяными. Взяли без всяких потерь с нашей стороны. Повезло! Обычно такие отпетые молодчики не попадают в руки пограничников живыми. Сражаются до последнего патрона, до последнего дыхания. Смолин ждал беду с одной стороны, а она нагрянула с другой. Лошади бегут резво. Снег искрится под копытами. Сани легко скользят по хорошо укатанной дороге. Поют полозья. От незимнего солнца рыхлеют и синеют гребни сугробов. Потеет колея. В белом поле, на кургане, вне пределов выстрела, сидит лиса и умывается пушистой лапой. Тишина. Покой. Тянет в сон. Смолин встряхнул головой, посмотрел на Бодрых. Напарник клюет носом. Трое суток солдат на ногах без отдыха, без горячего. Смолин шумно крякает и, улыбаясь, говорит: — Коля, давай потрем лоб и щеки снегом. Останавливаются. Выскакивают из саней, окунаются с головой в податливый сугроб и в одно мгновение седеют. Любуются друг другом. Хохочут. Помогло! Остудились. Пропала сонливость и усталость. Вскочили на сани и помчались дальше. А «валеты» по-прежнему дрыхнут. Много, видно, выпили. Никак в себя не придут. Часа три или четыре назад схватили их, а они до сих пор, даже на морозе, на свежем воздухе, окутаны облаком тошнотворной самогонной сивухи. Позади осталось больше двадцати километров безлюдной дороги. Въехали в однодворный лесной хуторок. Запахло теплым навозом, дымом, хлебом. Засверкало на солнце стекло, белое железо. Пограничники понимающе посмотрели друг на друга. Бодрых натянул вожжи. Кони остановились. Смолин, улыбаясь, спросил: — Коля, тебе не хочется испить водички? — Хочется, но не водички, а молочка горячего. — Так, может, попытаем счастья? — Попытаем. Иди ты, а я останусь. Бодрых соломенным жгутом вытирал влажные крупы лошадей, осматривал копыта. Смолин внимательно взглянул на задержанных и сказал: — Смотри в оба, Коля. В тихом омуте черти водятся. Смолин снял с шеи автомат и, держа его в руках, направился в дом. Навстречу ему выбегает простоволосая, в черной юбке и белой рубахе пожилая хозяйка. — Рятуйте, сыночки! Христом-богом благаю. — В чем дело? От кого спасать? Бандеровцы? — Грабят. Покушаются. Да когда же все это кончится, господи?! Помогите, солдатики! Бодрых схватил вожжи и отъехал на край улицы. Здесь, под защитой бревенчатого амбара надежнее. И Смолин с женщиной пошли вслед за санями. — Расскажите толком, что случилось? — допытывался Смолин. — Опять Косматый явился. Вскочил, накричал, ударил, нагрузился салом, яйцами, маслом, одежой и в лес хотел уйти, а тут вы, слава богу. В штаны наложил, вояка, как вас увидел. Идем, я покажу, где он спрятался. Смолин еще не высказал решения, но Бодрых понял, каким оно будет. — Старшина, не имеешь права бросать задержанных. Видал? Дохлые зашевелились. Дружка почуяли. Побледнел солдат. Не из трусливых, а испугался. Не за себя боится. Не хочет, чтобы Смолин шел в дом. Кто знает, один ли Косматый явился на хутор. В лесу, может, целая шайка затаилась. Бандеровцы не показываются в одиночку на дорогах. Да не известно, правду ли сказала хозяйка. «Валеты» приподнялись, оглядываются. Смолин замахнулся прикладом автомата. — Ложись, гады! Упали на солому. Прислушиваются. Ждут. Женщина подошла ближе к саням, заглянула в лица связанным и перекрестилась: — Изловили все-таки зверюк. Слава богу! Сколько они наших людей тут помордовали. Я знаю обоих. Рыжий — Иван, Золотой зуб, а этот, с седыми бровями — Мельник. Руки у обоих по локоть в крови. Зря вы с ними цацкаетесь. «Валеты» обрушили на женщину поток матерщины. Смолин заткнул им рты тряпками. Так оно спокойнее. Женщина взглядом одобрила все, что он сделал. Схватила его за руку, сказала: — Пошли, сынок! Но Смолин стоял и внимательно смотрел на одинокий дом. Хорошая огневая точка. Обстрел во все стороны. Среди леса расположен, в царстве дерева, а сделан из красного кирпича. Белеют аккуратные округлые цементные швы. Крыша — крутая, не держит снег, блестит на солнце оцинкованным железом. Окна большие, с цветочками на подоконниках. Стеклянная веранда. Высокое крылечко. Собака на цепи. Женщина поняла и молчание Смолина и его медлительность. — Не бойся, сынок, я пойду впереди, прикрою. В меня он, может, не посмеет выстрелить. Родня я ему. Этот косматый дьявол — сын моей родной сестры. Я его, зверюку, после смерти сестрички вынянчила, на ноги поставила. И он отблагодарил тетку: утащил в свою берлогу моего мужа, держит там с самой осени. Идем, сынок! Все. Дальше медлить нельзя. Смолин приказал Бодрых поддержать его огнем в случае чего и направился к дому. Женщине не позволил прикрывать себя. Пошел перед нею. Идет, а сердце бьется все сильнее и сильнее. Весь он открыт сейчас пуле. Шапка. Полушубок. Валенки. Военные штаны. Невозможно промахнуться даже плохому стрелку. Если бандеровец наблюдает за улицей — Смолину не сдобровать. Уложит наповал. Там, где захочет. Когда захочет. Вся надежда, что он забился в какой-нибудь угол и ждет, пока пограничники уедут. Неправильно действовал? Без маскировки? Верно. Прямо в лоб на врага шел, а надо было с тыла зайти. Можно сказать, на рожон полез. Надо было вернуться к саням и взять Бодрых на подмогу. Пусть отвлекает внимание бандеровца с улицы, а Смолин нагрянул бы в дом с огорода. И это верно. Так меньше риска было бы. Но Смолин уже не мог всего этого сделать. Стыдно ему было перед женщиной. Она не должна ни на секунду подумать, что он боится сойтись один на один с насильником, с грабителем. Не первый раз в своей жизни Смолин шел прямо на врага. Пять лет не расставался с оружием. Пять лет убивал тех, кто его пытался убить. Привык к тому, что враг его боится. Привык видеть его спину и мелькающие пятки. Чем ты смелее, тем трусливее твой противник. Ну! Подходит к крыльцу, поднимается со ступеньки на ступеньку. Во весь рост идет. Прямо. Но каждое мгновение готов прижаться к земле, метнуться в сторону, ответить огнем на огонь. Обычная готовность пограничника. Без нее долго не навоюешься. Ну! Открывает дверь и отчетливо слышит на веранде щелканье гранатного запала. Незабываемый звук. Смолин ждал его, рассчитывал на него. Граната — это хорошо. Он полагал, что его встретят автоматной очередью. Косматый решил, что граната надежнее. И ошибся. Граната разорвалась на сотни убойных осколков, И ни один не поразил Смолина. Все прожужжали над головой. Крик хозяйки, звон разбитого стекла, истошный вой раненой собаки… Смолин лежит на земле, у основания каменного крыльца, целый и невредимый, и строчит по веранде из автомата. Бодрых, высунувшись из-за угла амбара, поддерживает его своим огнем. Косматый не отвечает. Драпанул, видно, через черный ход. Смолин поднимается, вбегает в дом. Пусто. Пахнет дымом взрывчатки. — Смотри, смотри! — доносится с улицы возбужденный голос Бодрых, а потом и выстрелы. Смолин выскакивает на крылечко и видит, что по двору несется Косматый. Без шапки. Лошадиная грива. Зеленый френч. Ремни крест-накрест. Синее галифе. Черные хромовые сапоги. В руках автомат. Подбежал к кирпичному невысокому забору и перемахнул на ту сторону. Всё. Оторвался. Пулей теперь его не достанешь, Минуты через две-три скроется в лесу.

 Смолин сбросил с себя полушубок, стащил валенки, стряхнул портянки и в одной гимнастерке, босиком преодолел каменную ограду и, проваливаясь в снегу выше колен, помчался за Косматым, Тот был уже невдалеке от черной кромки леса. Бежать ему было куда труднее, чем Смолину. Не догадался он вовремя облегчить себя, а теперь поздно. Пограничник наступает ему на пятки. Он уже слышит тяжкое загнанное дыхание, животный хрип.
Смолин подпустил Косматого к лесной опушке. Залег, дал две коротенькие очереди, и все было кончено…
Смолин сбросил с себя полушубок, стащил валенки, стряхнул портянки и в одной гимнастерке, босиком преодолел каменную ограду и, проваливаясь в снегу выше колен, помчался за Косматым, Тот был уже невдалеке от черной кромки леса. Бежать ему было куда труднее, чем Смолину. Не догадался он вовремя облегчить себя, а теперь поздно. Пограничник наступает ему на пятки. Он уже слышит тяжкое загнанное дыхание, животный хрип.
Смолин подпустил Косматого к лесной опушке. Залег, дал две коротенькие очереди, и все было кончено…
Ты спрашиваешь, кто такое, бандеровцы, откуда они взялись. Правильно! Извиняй, брат, оплошал я перед тобой. Давно бы мне надо было рассказать о них. Ну, так слушай. Про батька Махно, анархиста и бандита времен гражданской войны, слыхал? Про националиста Петлюру и его жовтно-блакитное войско читал? Степан Бандера — это помесь махновца-петлюровца с гитлеровским кровавым и продажным националистом. Все его атаманы тоже из одного коричневого, со свастикой яйца вылупились. Воюют они против нас злее эсэсовцев. Живыми, как правило, не сдаются. Представляешь? Рядовые бандеровцы — это уже не одного поля ягодки. Разномастные. Грамотные и совсем темные. Мужики и городские жители. Больше, конечно, деревенских. Одни добровольно, им показали красивый и пахучий пряник, стали врагами Советской власти, других насильно, под угрозой оружия туда затащили. Третьих подцепили на какой-нибудь хитрый крючок. Четвертым понравилось убивать, грабить, жечь, пить, гулять и называть себя борцами за сильну и самостийну Украину. Есть среди них немало и таких, кто при удобном случае поднимает руки, сдается на милость Советской власти. Образумились. Поняли, что воюют против самих же себя, против своего народа. Для иностранных господ загребают жар чужими руками. Главные силы бандеровцев мы уже разгромили. Добиваем остатки. Находим и громим лесные схроны, заложенные еще при гитлеровской оккупации и с прямой помощью фашистов. Перехватываем на границе новые отряды и группы, которые беспрестанно засылают к нам иностранные разведки. Сегодняшний бандеровец — самый непримиримый и ухищренный враг Родины и мой личный. Там, где «поработает» бандеровец — кровь людская, пепел, грабеж, насилие, слезы. Уж кто-кто, а я это точно знаю. Не раз и не два бывал на местах преступлений. Не одного хватал с окровавленными руками. Не даю я им пощады. Ну, и они, если чуть-чуть зазеваюсь или оплошаю, тоже не пощадят. Вот такие пироги. Смолину, как и минеру, нельзя ни единого разу ошибиться — подорвешься. Ну, хватит тебе моих разъяснений? Все понял?
Красный сапог
Подняли тревожную группу среди весенней ночи по тревоге, погрузили на машины и перебросили на правый равнинный фланг границы округа. Два часа назад здесь с боем прорвалась большая группа нарушителей. Вооружены автоматами, гранатами, ручным пулеметом. Несколько наших солдат ранено. Убит заместитель начальника заставы лейтенант Скрыпников. Диверсанты, несмотря на свое преимущество в огне и живой силе, не могли далеко оторваться от пограничников. Мангруппа вовремя подоспела на помощь товарищам. Рассыпалась длинной плотной цепью, перекрыла все дороги и тропы, ведущие к границе. Главное — не пропустить врага назад. Наступали по всему фронту, медленно загибали края. И все время вели огонь, освещали лес ракетами. Прижимали нарушителей к земле, не давали бежать. Пусть извиваются по-пластунски. Далеко не уползут. Всю ночь преследовали. Не заметили, как день начался. Птицы с дерева на дерево порхают. Вдали кукушка кричит. Вокруг цветы, трава молодая, первые листочки. Шумит ручей в овраге. Солнце сквозь ветви светит. Пахнет весенней землей, прелым листом. Гулять бы в таком лесу, природой наслаждаться, а молодые люди прут без оглядки вперед, стреляют, падают, поднимаются, бегут, опять стреляют. Загнали диверсантов в большую березовую рощу. Позади них — бурная широкая река. Если сунутся в воду, всех перестреляют. Справа и слева — кустарник, осины, мочажник, камыши, непроходимое болото. Всюду еще стелются по земле и висят на ветках ночные сумерки, а здесь, в березовой роще уже утро. Березы излучают много света. Каждая светится своим белым-пребелым стволом. Всем хороши березы, но воевать среди них плохо. Здорово выделяешься на их фоне. Беда! Но что делать? Маскироваться некогда. Надо наступать. Плохо пограничникам, но и нарушителям не сладко. Они тоже отлично видны. Смолин вошел во вкус боевой жизни солдата-стрелка. Не подставляет себя под пули. Не стыдится брюхом утюжить землю: переползает по канавам там, где они есть. От пенька к пеньку. От дерева к дереву. По молодой траве. Иногда поднимается, рывком бежит. Прячется за толстыми стволами. Лежит, стреляет короткими очередями, прикрывая товарищей, бегущих впереди. Потом он бежит, и его прикрывают. Действует Смолин как все. Молча. Разговаривать некогда и не с кем. Все делом заняты. Постреляет две-три минуты лежа, мысленно проложит зигзагообразную дорогу вперед метров на двадцать, вскакивает и перебегает и опять стреляет. Все ближе и ближе река и залегшие на ее плоском берегу нарушители. Скрыться им негде. Еще пять-десять минут боя, и все будет кончено. — Эй, вы, сдавайтесь!.. Голос командира заставы, усиленный мегафоном, гремит на всю рощу. Диверсанты отвечают огнем. Пограничники бросаются в последнюю атаку. «Я должен добежать вон до той старой березы», — думает Смолин. Приземляется и строчит по кусту, под которым клокочет оранжевый огонь. Еще и еще раз пригодилась ему снайперская наука, через которую прошел в первые годы войны. С куста падают молодые листья. Глохнет огонь. Подавлен. Смолин оглядывается. Ищет еще живую сопротивляющуюся точку и не находит. Там и сям чернеют неподвижные тела. Кажется, все. Тихо. Издали доносится голос кукушки. Пахнет речной сыростью. Где-то дятел долбит дерево. Товарищи Смолина один за другим поднимаются, выходят на берег. Разговаривают. Разглядывают убитых. А Смолин все еще лежит. Ему почему-то удобно, тепло и хорошо на сырой весенней земле. Лежал бы и лежал весь день. — Смолин!.. Где Смолин?! — спрашивает командир. — Я здесь, — откликается старшина. Пытается встать, но не может. Правая нога одубела, не слушается. Глянул на нее Смолин и не узнал. Какая-то она длинная стала, набухшая, тяжелая. Через голенище хлыщет кровь. Неужели ранен? Когда? Где? Только что? Или раньше? Много крови потерял Смолин, пока попал на операционный стол. Тяжелое ранение в бедро. Потянулись нудные, душные дни в госпитале.Сегодня, брат, я пообщался с делом рук твоих и через него с тобой. И спешу написать тебе об этом. Комендатура получила новенький «газик». Первый в наших краях. Самого последнего выпуска. Дюжины две солдат облепили его со всех сторон. Рассматривали. Изучали. Сравнивали с довоенными машинами. Хвалили новинку. Представляешь? Был и я среди любопытных. Потрогал руль, заглянул в мотор, постучал кулаком по скатам. Не автолюбитель я, как ты знаешь, но все-таки раскумекал, какой добрый подарок твой завод преподнес стране. Хорошую машиночку сделали вы, черти полосатые. Молодцы! И ты, конечно, вложил в нее свой труд. Горжусь и завидую. Ходил я вокруг твоего «газика» и о тебе думал. Однолетки мы с тобой, дружим с малых лет. Когда-то собирались всю жизнь топать по одной дорожке. Не вышло. Я попал в действующую армию, ты — в трудовую. Я стал пограничником, ты — фрезеровщиком. Но не ты и не я не жалеем, что так получилось. Тебе хорошо живется, и мне неплохо. Все вроде бы устроилось добре. Не собираюсь я менять свою профессию. Видно, на роду мне написано быть следопытом. Так почему же сейчас, глядя на твою машину, я позавидовал? И тебе, Витя, я позавидовал, и твоему рабочему месту. Ты, Витя, производишь своими руками самые нужные вещи. Для людей. Ездят они на замечательных машинах, сделанных твоими руками, и добрым словом вспоминают тебя и таких, как ты. Все, что ты делаешь, можно увидеть простым глазом, пощупать. А я солдат. Работаю, конечно, не меньше твоего, с пользой, конечно. Но все-таки не оставляю позади себя вспаханной земли или горы угля, пшеничного поля или слитка стали, сукна или кирпича, молока или вина. Ты меня понимаешь? Да, брат, да!.. В душе я закоренелый труженик: пахарь, токарь, кузнец. Оттого вот и тебе позавидовал. И не только тебе. Прочитаю в газете о подвиге шахтеров — и туда, в Донбасс меня потянет. Услышу, как в Магнитке вкалывают — хочу быть там. Увижу новый шагающий экскаватор Уралмаша — жалею, что не придется на нем работать. Вот какие пироги.
Аргон Аргонович
Зарубцевалась рана Смолина. Еще нестерпимо свербит, но ходить уже можно без палки. Пока чуть прихрамывает — не беда! Вернулся он к своим, на границу — и сразу же к Николаеву. Старший лейтенант смотрит на Смолина так, будто сто лет не видел. — Ну как, Саша, вволю отдохнул? — Пошел он, этот отдых, подальше! — Не надо было подставлять себя под пулю. — В другой раз умнее буду. Поговорили они так немного, позубоскалили, а потом Николаев говорит: — А я вам, товарищ старшина, сюрприз приготовил. Цвет у него — желто-коричневый. Подсолнух с йодом. И ждет, что скажет Смолин. Тот спрашивает: — Какой такой сюрприз? Горький или сладкий? — Завтра все узнаешь. Потерпи. Потерпел. На другой день с утра во дворе появился гость с соседней заставы. Инструктор службы собак Алексей Пешаков. Рядом с ним на поводке собака. Увидев Смолина, Алеша засмеялся — рад его видеть! — Здорово, Саша! Выздоровел? Соскучился по границе? Смолин молчал, но Пешаков опять засмеялся, будто услышал от него остроумный ответ. — Конечно, соскучился. Чудак я человек. Спрашиваю у голодного, будет ли хлеб жевать. Встряхивает поводком, кивает на своего спутника — голенастого, желто-коричневого, с глупой мордой щенка. — Как на твой следопытский взгляд, Саша, хороша собачка? Смолин взглянул на нее. — Ничего песик. — И только? Да ты посмотри получше! Как следует посмотри. — А зачем? Покупать не собираюсь. — Не нужны мне твои деньги. Даром отдам. Дарю по случаю твоего воскресения из мертвых. Ты знаешь, у нас слух прошел, что тебя тогда наповал убили. Я не верил. Не сделали, говорил, еще такую пулю, которая могла уложить наповал Сашку Смолина. — Ты все такой же, Леша. Мастер зубы заговаривать. — Да ты что? Думаешь, стараюсь сбыть с рук дохлый товар? Собака — высшей категории. Сам бы воспитывал, да жаль друга. Бери, Саша, да помни. Смолин еще раз, теперь внимательно оглядел щенка. Раскрыл пасть, осмотрел зубы. Ему месяцев семь, не больше. Экстерьер симпатичный, морда жизнерадостная. Масть подходящая. Но как далеко ему до Джека. Подошел Николаев. Смотрит на следопытов, на собаку. Молчит. Ждет, что скажет Смолин. Закончив беглые смотрины, старшина сказал: — Зря ты меня жалел, Леша. Я не собираюсь обзаводиться собакой. Он сказал неправду. Не хотел обидеть хорошего человека. И Алексей это сразу понял. Засмеялся. — Так я тебе и поверил! Обзаведешься. Не сегодня, так завтра, Не можешь ты без собаки. На всю жизнь собачник. Одной мы с тобой породы. Бери, Сашка, не выдумывай всякой всячины. «Нет, Джек, — подумал Смолин, — я тебя не променяю ни на кого. Во всяком случае сейчас. Может быть, потом…» Он смотрел на щенка с тоской: хотя бы немного, самую малость был похож на Джека. — Дорогой Леша, не возьму твою собаку. — Почему? Не нравится? Сказать ему правду? На смех поднимет. Смолин очеловечивает собаку и так далее. — Мне нужна взрослая собака, Леша, а твоя — еще молокосос. — Вот и хорошо. Молокосос тебе как раз и нужен. Приучишь к себе. Выдрессируешь сам. А Николаев слушает разговор следопытов, хитро улыбается и все молчит. — Нет, Леша! Если бы щенок был действительно стоящим, ты бы с ним ни за что не расстался. Знаю я тебя, прижиму. — Ничего ты не знаешь. Есть у меня хорошая, молодая собака. Вторая не положена. Потому и отдаю. — Кому-нибудь еще всучи ее, Леша. — Эх ты, лопоухий! По правде и по совести тебе говорю: жалко мне с такой собакой расставаться. Такой второй днем с огнем не сыщешь. Выращивал ее как дите родное. Конину добывал. Витаминов на заставе не было, так я в аптеке через одну знакомую покупал. Мяса, овощей, круп — всего было у него вдоволь. Когда вышла фосфорнокислая известь, я давал ему костную муку, смешанную с мелом. Каждый день две ложки рыбьего жира скармливал. Возился с ним от восхода солнца до захода. Играл. Натаскивал. Выгуливал. Обучал прыгать через канавы, через барьеры. Приучил к птицам, животным, лошадям, коровам, машинам, людям в штатском, детям, женщинам. Песику семь месяцев всего, но он уже не боится темноты, ночных шорохов, сигнала машины, грохота поезда. И даже выстрела. Пес что надо. На седле лошади побывал. В кузове грузовика. В кабине шофера. Попробуй отнять у него пищу — оскалится, облает, бросится на тебя, чего доброго, покусает. Посмотри, какой оскал! А грудь, голова, лапы!.. — Хорош Федот, да не тот, — прервал Смолин словоизлияния Леши. — Да чем тебе мой Федот не нравится? — Не знаю, Леша. Не могу сказать. Не лежит сердце — и все. — Сердце? Ну и сказал! Ты кто такой? Инструктор? Или невесту себе выбираешь? Да эту собаку, если хочешь знать, ты должен рвать у меня с руками. Я бы тебе никогда не отдал, если бы начальник службы не приказал! Вот здесь и вмешался в разговор Николаев. — Саша, я не понимаю твоего упорства. Ты вгорячах не успел разглядеть собаку. Смотри как следует. День смотри, два, три, сколько хочешь. Если и тогда не понравится, немедленно отправим назад. Не может такая собака не нравиться. Не твой Джек, конечно, но хороша. Сильная. Красивая. Богатырь! Бесстрашная. Жизнерадостная. Злая. Подвижная. Всем интересуется. Выносливая и быстрая. Поверь мне, Саша, если своим глазам не веришь: собака преотличная. Кто знает, может, еще и Джека перешибет. Смолин не выдержал. Засмеялся и сказал: — Ладно, сосватали. Беру. Как ее величают? Засмеялся и Леша. Сразу простил привередничество. Незлопамятный. — Мать у него Ласка, отец Аргон. И сам он Аргон. Аргон Аргонович. Вся родословная вот здесь, — он вытащил из кармана плотный, из оберточной бумаги, самодельный конверт. — Держи и помни, Саша! Я кормил Аргона по всем правилам науки. Если хочешь правду знать, я ему сахар из-под полы, на свои кровные, присланные матерью, покупал. Тыщи две километров нагулял с ним по лесам, полям и окрестным деревням. Для себя готовил, не жалел ни времени, ни сил, ни денег. Оттого и рос он не по дням, а по часам. Посмотри, мышцы у него железные, львиные. Вынослив, как вол. Быстр, как молния. — Ладно, хватит нахваливать. Уговорили. Пес и в самом деле неплохой. Я оценил его с первого взгляда. — А чего кобенился? — Неужели не догадываешься, Леша?.. Джека забыть не могу. — Ах, вот в чем дело? Тогда все правильно. Прошу прощения. Каюсь в грешных мыслях. Я, брат, подумал, что ты никудышный следопыт, зря тебя отмечали. — Переключись, Леша, на другую волну. Давай рассказывай, что Аргон любит и не любит, какие у него привычки, характер. — Пока не имеет никаких привычек, никакого характера. Чистенький. Что посеешь, то и пожнешь. Твоим характером будет обладать. — Ишь ты, какой грамотный. Ладно, беру твоего Аргона, благодарю, как говорится, от всего щирого сердца и даю слово, что оправдаю надежды. Ну! А теперь поплюй на поводок и пожелай нам удач. Леша выполнил просьбу, и Смолин принял с рук в руки желто-коричневую, головастую, высоконогую, грудастую семимесячную собаку. С этого дня и началась дружба Смолина с Аргоном. К дрессировке Смолин приступил на другой день, а кончил ее чуть ли не через шесть месяцев.Если бы ты видел, брат, куда меня занесла моя охотничья доля! Безлюдные горы в самом глухом углу Карпат. Леса, заваленные валежником, Громаднейшие буки. Хмурые, обросшие седым мохом ели. Старые, медвежьи берлоги. Кабаньи тропы. Грибы, которых некому рвать. Метровый слой лиственного перегноя. Трава по пояс. Незамутненные родники. Обвалившиеся окопы. Догнивающие бревенчатые укрепления, взорванные бетонные доты. В одном из них мы, охотники, нашли себе пристанище. Разожгли костер. Варим кулеш с кабанятиной. Творим грибную жареху. Согреваемся чаркой и вспоминаем все свои удачные и неудачные выстрелы и с гордостью поглядываем на кабанью тушу, лежащую поодаль от костра. Представляешь? Вот жизнь! Сам себе, брат, завидую. Люблю охотиться. Двое или трое суток подряд, без сна и еды, могу бродить по горам и долам, болотам и чащобам. В нашем доме в охотничий сезон никогда не переводится дичь: утки, гуси, зайцы, дикие козы. А в такое время, осенью — и мясо диких кабанов. Приедешь к Новому году, так я тебя копченой грудинкой угощу. Могу и целый окорок выложить на стол. Вот какой я удачливый охотник! Знаю, ты качаешь головой и усмехаешься: не в охотнике, мол, дело. Правильно, угадал! Места у нас особенные, не всякому доступные, богатые всякой дичью и зверьем. Было б только ружье и уменье стрелять. Ну, ладно, бросаю свою неразборчивую писанину. Кулеш поспел — пахнет так, что голова кружится. Плащ-палатка раскинута, и на нее выложены ложки, вилки, ножи, хлеб, огурцы, цыбуля. Начинаете я пир. Понюхай эту мою цыдульку — она вся пропиталась дремучим лесом, медвежьей берлогой, дымом охотничьего костра. Завидуй, брат!
Боевое крещение
На энской заставе оскандалился сержант Канафьев, опытный следопыт, ближайший сосед Смолина. Его прославленная Трещотка, поставленная на свежий след нарушителя, долгое время крутилась на месте, петляла, бросалась туда-сюда и в конце концов привела пограничников на крестьянский двор, к проволоке, на которой, гремя цепью и хрипло лая, метался огромный, лохматый кобель. — В чем дело, сержант? — спросил начальник заставы, капитан Бакрымов. — Куда вы нас притащили? — Виноват, товарищ капитан. Сбился со следа. Разрешите вернуться? — Возвращайтесь! Эх, Канафьев, Канафьев. Не ждал от вас такого… — Да я и сам не ждал, товарищ капитан. Подвела Трещотка. Не пойму, что с ней. Наверное, пустовка. — Нечего на собаку взваливать свое разгильдяйство. Она — ваше зеркало. С вами, сержант, что-то случилось, а не с собакой. Потеряли драгоценное время. Дали возможность нарушителю оторваться. Он сейчас, может быть, уже добрался до станции или вышел на шоссе и на попутной удрал на восток. — Догоним, товарищ капитан! Нам бы только след взять. Разрешите действовать? — Вперед! Не переводя дыхания. Вернулись назад, к границе, к истокам следа и попытались распутать клубок с самого начала. Сержант тычет собаку носом в рыхлую контрольно-следовую полосу и сорванным, отчаянным голосом подает Трещотке команду: — След! След!! Ищи! Куда там ей искать! Отупела от долгого и бесполезного преследования. Заразилась отчаянием инструктора. Мечется по кругу, визжит, скулит и не берет след. Сержант злится, кричит и еще больше нервирует собаку. Все, была собака, и не стало. Чуть не плачет Канафьев. Сам готов стать на четвереньки и побежать по следу. А тут еще над душой начальник заставы. — Ну, что же ты, Канафьев?Разучился работать? Где след? Канафьев рукавом гимнастерки вытер мокрое и красное лицо и, опустив голову, выдавил: — Собака вышла из строя, товарищ капитан. У Трещотки сейчас на уме только кавалеры. — Н-да, тяжелый случай!.. Почему же вы сразу этого не сказали? — Да я и сам не знал. Только что обнаружил. Закон природы, товарищ капитан, ничего не поделаешь. — Не умничайте, сержант! Звоните к соседям слева, пусть пришлют Аргона. — Аргон еще молодой, почти щенок, товарищ капитан. Он и вовсе не возьмет давний след. Я лучше позвоню соседям справа, у них старая собака. — Сержант, выполняйте то, что вам приказано. Немедленно! А время шло. Ночь близилась к концу. След все больше и больше «старел», выветривался. Комендатура и отряд через каждые десять минут тревожно запрашивали: почему до сих пор не взяли след? Что мог ответить капитан Бакрымов? Сослаться на неожиданную ветреность Трещотки? Всю вину взял на себя. Канафьев дозвонился до соседней заставы. Смолин, когда его разбудили и сказали, где и что случилось, тяжело поднял голову и, протирая сонные глаза, недоверчиво посмотрел на дежурного, все еще тормошившего его за плечо. — Канафьев, говоришь, не взял след? — Не Канафьев, а его собака. — Это все равно. Трещотка до сих пор брала след любой давности. — А сегодня почему-то забастовала. — Подробности не сообщили? — Нет. Велели немедленно прибыть на место происшествия. Одевайся. Одна нога здесь, другая там. Смолин покачал головой. — Не хочу я въезжать в рай на горбу товарища. — Что ты сказал, Саша? Повтори! — Я говорю, никогда никому не перебегал дорогу, не подставлял товарищу ножку, не кормился за счет другого. Совесть, слава богу, имею. — Совесть, может, ты и действительно имеешь, а вот солдатского ума у тебя — кот наплакал. Вставай, дюже совестливый человек, и делай свое дело, а не то… — Не поеду. — Эй, соня, протри глаза, прочисти уши! Тревога на границе! Тре-во-га! Слышал? Понял? — Мне на границе нечего делать. Если Трещотка отказалась взять след, то Аргон и вовсе провалится. Не поеду. — Да ты соображаешь, что говоришь? Приказано соседу оказать помощь! Слышишь? Подъем, Смолин! Умыться! Прийти в себя! Дежурный был младше Смолина по званию и моложе возрастом, но кричал и командовал как седой генерал. Он выгнал сонную одурь из его головы, привел в чувство. Следопыт оделся, обулся и, не умываясь, застегивая на ходу ремень, побежал в питомник. Аргон метался вдоль железной сетки и нетерпеливо визжал, поднимался на задние ноги. Чудеса! Как он узнал, что Смолин поднят по тревоге? Чутье? Слух? Инстинкт? Или ему передалось на расстоянии нервное возбуждение пограничника? Ну и собака! Первый раз в ее жизни настоящая тревога, а она ведет себя так, будто уже побывала во всех пограничных переделках. Так или иначе, но Аргон был в полной боевой готовности. Смолин выпустил его из вольера, взял на поводок, приласкал, дал кусочек сушеного мяса, сказал раза три «хорошо» и побежал с ним на конюшню. В одно мгновение оседлал Воронка, приладил к седлу нечто вроде люльки, сплетенной из лозы, и посадил в нее собаку, И тут Аргон чувствует себя на обжитом месте. Крепко сидит, как влитой. От заставы Смолина до соседей около пяти километров, Половину прошли рысью, треть галопом, остальные шагом. Аргон смирно лежал на дне люльки, когда Смолин скакал. Но как только Воронок переходил на шаг, он поднимался. Стоял, навострив уши, и с любопытством озирался вокруг. Все ему было интересно, что видел: лес, поля, дорога, овраг. Живое любопытство для собаки — не порок, скорее достоинство. Через пятнадцать минут Смолин был на границе. Остановился поодаль от людей и, не снимая Аргона с лошади, подошел к капитану, доложил по всей форме о своем прибытии. Начальник заставы с нескрываемым раздражением кивнул на Трещотку, понуро поджавшую хвост, и на удрученного Канафьева. — Наши бывшие знаменитости заблудились в трех соснах, забыли, где у сапога носок, а где каблук. Покажите им, старшина, как надо прорабатывать след. Надеюсь, ваш Аргон в полном порядке? Смолин ответил как можно скромнее. Он щадил самолюбие Канафьева. — Не могу точно сказать, товарищ капитан. Собака есть собака, в душу ей не заглянешь. Она еще молодая. Опыта никакого не имеет. Первый раз в боевых условиях будет работать. — Действуйте! Утрите нос этим… зазнайкам. Презрительный окрик начальника никак не подействовал на Смолина. Он крепко верил в мастерство Канафьева. Его веру и уважение к товарищу не могли поколебать никакие слова, тем более несправедливые. А то, что капитан Бакрымов не вполне справедлив, это было слишком очевидным. Канафьев в пограничных делах разбирался хорошо. Каждому есть чему поучиться у него. Начальник заставы, видимо, не успел разобраться в обстановке и в сердцах обвинял во всем следопыта его Трещотку. Смолин подошел к Канафьеву, стоящему в стороне, молча подал ему руку, крепко, с чувством, сильнее, чем всегда, пожал ее и осторожно спросил: — Ну, что тут у тебя стряслось? В чем загвоздка? Канафьев тихонько, чтобы капитан не услышал, выругался и пнул ногой Трещотку. — Барышня виновата, будь она неладна. Гулять надумала. И без всякого предупреждения. Самое подходящее время выбрала. Выручай, брат. Невеселое было настроение у Смолина и до этих слов Канафьева, но после них и вовсе стало ему нехорошо. Сейчас, в период пустовки, Трещотка не только бесполезная собака, но и опасная. Увидев ее, почувствовав, кобели обычно теряют голову и отказываются работать по следу. Всё. Уйдет нарушитель. Оскандалился Канафьев, и Смолин оскандалится. Многие тайны поведения собаки Смолин еще не освоил, но эту, с помощью Николаева, он давно открыл. — Плохи наши с тобой дела, друг, — сказал он сержанту. — Не надо было Трещотку выпускать из вольера, раз у нее такое дело. Теперь и мой Аргон взбунтуется. — А ты все-таки попробуй. Другого выхода нет. Нарушителя ловить-то надо. — Попробовать можно, но бесполезно. Анализатор обоняния у моего Аргона сейчас работает в сторону твоей Трещотки. Закон природы, ничего не попишешь. — Не теряй драгоценного времени, Саша. — Ладно, не ворчи. Тебе сейчас надо помалкивать в тряпочку, а не указывать. Убери свою барышню куда-нибудь подальше. Отошли ее на заставу. Так будет лучше всего. Понося Трещотку, сержант удалился в темноту. А Смолин тем временем подошел к лошади. Аргон сидел в своей люльке на двухметровой высоте и, казалось, ничуть не был обеспокоен присутствием Трещотки. Почему? Откуда у него такая сверхсобачья дисциплинированность? Не слышит? Не чует? Быть этого не может Слух у Аргона превосходный — метров за двести слышит приближение человека. Чутье тоже острое. Должен он, по расчетам Смолина, почувствовать Трещотку, встревожиться. Тем не менее почему-то спокоен. Неужели условный рефлекс послушания оказался сильнее безусловного, врожденного? Нет! Таких чудес, говорят специалисты, не бывает. Посмотрим! Смолин подвел лошадь вплотную к контрольно-следовой полосе, где нарушитель оставил свои следы, и сдержанно, не позволяя внутреннему беспокойству прорваться наружу, обычным голосом подал команду; — Ко мне, Аргон! Ни секунды не колеблясь, собака, перемахнув через борт ивовой люльки, спрыгнула на землю и, возбужденно дрожа, села у ног следопыта. Смолин погладил ее голову. — Хорошо, Аргон, хорошо! Действительно, пока все было хорошо. Пока. Самое трудное, самое важное — впереди. Усердие и старательность розыскной собаки оценивается не тем, как она выполняет общие команды. Главное в ее работе — взять невидимый след и уверенно, чисто идти по нему и привести к цели. Возьмет или не возьмет молодой, неопытный Аргон след нарушителя после того, как здесь побывала Трещотка? При свете самодельного факела Смолин тщательно осматривает следы нарушителя, а его гложет разъединственная мысль и одно чувство — страх за Аргона. Николаев, занимаясь со Смолиным, тренируя его, всегда предупреждал, чтобы он не бросался очертя голову по следу врага. Поспешишь, говорил он, и подрубишь корни своей победы. Надо точно знать, кого ты преследуешь. Одного нарушителя или двоих. Или целую группу. Смолин согнулся почти до самой земли и разглядывал отпечатки. Контрольно-следовую полосу прошли по крайней мере двое. Может быть, их было даже трое. Все мужчины — сапоги большого размера. Ступали аккуратно, без особой спешки, хладнокровно, след в след. Ступая глубоко вдавлена в рыхлую землю, сильно расплюснута, края следов немного осыпались. Картина ясная. Нарушители бывалые люди. С оружием. Смолин записал в свою книжечку размер ступни: ширину, длину, глубину. Делает свое дело и думает: «Возьмет или не возьмет?» Все будущее собаки поставлено сейчас на карту. Все, чему его учили, все его врожденные и приобретенные рефлексы. Возьмет — и в него все поверят, разнесут о нем добрую славу по всему округу. Не возьмет — пропал. И никто не станет особенно разбираться, что именно помешало Аргону хорошо проявить себя. Не судят только победителя. Теперь, для того чтобы все дальнейшие события были абсолютно понятны, нужно рассказать, как розыскная собака работает по невидимому следу. — Если вы любите собак, любите работу следопыта, — говорил мне Николаев, — вам надо обязательно знать, что такое собачье обоняние. Николаев придвинул к себе чистый лист бумаги и быстро, остро отточенным карандашом набросал абрис головы восточноевропейской овчарки. — Самый главный орган у собаки, самый развитый, самый важный, самый жизненный для нее — обоняние. Находится он вот здесь, — Николаев провел карандашом пунктирную линию внутри собачьей головы — в носовой полости, в области верхнего носового хода и задней части носовой перегородки. — Аппаратик маленький, да удаленький. В его слизистой оболочке заложены обонятельные клетки особой чувствительности. Они раздражаются, когда улавливают запаховые частицы, и это вызывает у собаки ощущение запаха. Понятно? — спросил Николаев и улыбнулся. Я кивнул в знак согласия и попросил рассказывать дальше. — Собака ощущает запах, когда в ее носовую полость, в обонятельную область попадает достаточное количество запахового вещества. Малые дозы не возбуждают нервных окончаний, не вызывают ощущения запаха. И потому собака, поставленная на след, старается вдохнуть в себя как можно больше пахучего вещества. Дышит она в такие мгновения усиленно, быстро, раз за разом. Вдыхает и сейчас же выдыхает, чтобы воздух как можно скорее достигал через носовые ходы обонятельной области. Делает она это инстинктивно. И чем лучше собака, тем инстинкт у нее работает совершеннее. Николаев говорил все увлеченнее. — Орган обоняния почти у каждой собаки очень чувствительный, выше, чем зрение и слух. Следопыту это необходимо знать, Но и утомляется он больше, чем другие органы. Самая хорошая собака теряет чуткость, когда много работает, когда длительное время на нее действует какой-нибудь один сильный запах. Аргон улавливает сильный физиологический запах на расстоянии до километра. Я не раз это проверял. Не каждая собака обладает таким чутьем. Для собак, работающих на границе, главным является запах человека. Все люди имеют свой особый запах. Человеческий запах резко меняется, качественно и количественно, в плохую погоду, в грозу, в пургу, при резких температурных колебаниях. Следопыт должен и это учитывать в своей работе. Нарушителю, долго убегающему от пограничников, как правило, некогда вытирать пот и менять мокрую рубаху. Через 25–30 километров преследования он ужо пахнет не так, как в момент перехода границы. И потому часто он, сам о том не ведая, сбивает собаку со следа. Но бывалый следопыт знает, как надо бороться и с этой трудностью. Смолин вам расскажет и об этом. Ни один человек не оставляет после себя чисто человеческого следа. Сейчас же, как он только пройдет по земле или полежит на траве, к его запаху примешивается дюжина других запахов: полыни, молочая, различных насекомых, почвы, дубильных веществ. Собака, идущая по следу человека, всегда пробивается через тысячу препятствий. Николаев шумно перевел дыхание, улыбнулся. — Фу, наконец-то я выговорился. Отвык от таких лекций. — Нет, придется вам еще кое-что сказать. Все я понял, кроме одного; почему собака, поставленная на невидимый давний след, идет не назад, а вперед, то есть вслед за человеком? — Законный вопрос. Важный. Интересный. Запах человека особенно сильно действует на обонятельные клетки собаки и приглушает, гасит, маскирует все прочие, более слабые запахи: травы, одежды, цветов, обуви, оружия. Собака все время тянется в ту сторону, где запах сильнее, свежее. Куда направляется источник запаха, туда и бежит собака. — Ясно. Перейдем от теории к делу. Теперь, Саша, ваша очередь рассказывать. Взял Аргон испорченный Трещоткой след? Смолин подвел Аргона на коротком поводке к хорошо взрыхленной контрольно-следовой полосе, дал ему вволю обнюхать землю и потом не очень властно, не очень громко, раздельно и четко сказал: — След! Ищи! Аргон сейчас же, как и на учениях и тренировках, уткнулся носом в отпечатки, шумно втянул в себя большую порцию воздуха и мгновенно выдохнул обратно. Не отрывая морды от земли, часто и коротко дыша, он пробежал туда-сюда, вернулся к Смолину и резко рванул поводок вперед. Взял! Все-таки взял. Но Смолин не спешил радоваться. Кто знает, может быть, он взял след собаки Канафьева. Запах Трещотки наверняка сильнее запаха нарушителя. Посмотрим! Через минуту все прояснится. Пока что он не давал Аргону полной воли. Бежал вслед за ним, держа поводок в руках. Где-то недалеко от Смолина и Аргона, слева, в предрассветной темноте затаился со своей провинившейся сукой сержант Канафьев. Повернет к нему Аргон или пронесется мимо? Двадцать, тридцать метров… Пятьдесят! Сто! Слева, под деревом, Смолин видит темную фигуру сержанта. Он гремит своим одубевшим брезентовым плащом, машет руками, что-то говорит. Отгоняет «нечистую силу». Боится, что Аргон направляется к нему. Поздно! Чему быть, того не миновать. Аргон и в самом деле рванулся в сторону Трещотки, но сейчас же остановился, хотя Смолин и не дергал его за поводок и не подал никакой команды. И, оказалось, правильно сделал. Собаку, когда она работает, нельзя дергать, нервировать. Надо полагаться на ее чутье. Аргон постоял несколько секунд, часто и глубоко дыша. Повернулся и побежал вправо и дальше, по невидимому следу нарушителей. — Теперь все, теперь полный порядок! — закричал Канафьев в спину Смолина. — Давай жми без оглядки, Саша, до победного конца. Тыл обеспечен. Иду следом за тобой. В его голосе были радость, благодарность и клятва отплатить товарищу при случае такой же монетой. Смолин бежал лесом и краем глаза видел, как пламенел край неба. Скоро взойдет месяц. Это хорошо. Днем и в лунную ночь нарушители обычно не ходят. Прячутся в лесу, в оврагах, в стоге соломы или сена. Может быть, они уже залегли и Смолин накроет их спящими. Автомат, как всегда, он держал наготове, пистолет и гранаты под рукой. Все, что оставалось позади, все, что мелькает по сторонам, — безопасная зона. Боится он только того, что впереди. Но не очень. Он был уверен, что Аргон, если нарушители окажутся вблизи, подаст ему знак: застопорит, сделает стойку, зарычит. Хорошо вела себя собака, Уверенно, Ходко, Лучше Джека. Ну, если не лучше, то не хуже. Пробежали километров пять. Жарко стало. Смолин вспотел, рубашка мокрая, волосы — будто после купанья. Аргон же был совершенно сухой. У собак потовые железы не на теле, а на мякишах лап. Промчались через сырую поляну. Прошлепали по большой луже, миновали овражек и выскочили в дубовый лес. Здесь, под большим дубом Аргон остановился, будто в стену уперся. Стоит, ушами прядает, визжит и как бы недоумевает: как ему быть, дальше бежать или вернуться? Постоял, подумал и отбежал назад метров на двадцать. Но и там ему не понравилось. Повернулся и побежал к невидимой стенке и снова уперся в нее. Не идет дальше, и все. Стоит. Смолин не понимал его поведения. Потерял запах? Устал? Или нарушители, сбивая собаку со следа, наделали петель и восьмерок? На всякий случай Смолин осмотрел местность около дуба на большом расстоянии. Вензелей десять сделал в разных направлениях — и все напрасно, не взял Аргон след. Так все было хорошо и вдруг… В самом трудном месте, в начале сработал безотказно. Теперь должен работать еще лучше, но… Подоспела вся поисковая группа. Сержант Канафьев и капитан Бакрымов допытываются, что случилось. А Смолин молчит. Нечего ему сказать. Стыдно признаться в поражении. В том, что он с Аргоном оскандалился, уже не сомневался. По ложному, видно, следу пошли. Может быть, по звериному. Но если это зверь, то где же он? Смолин зарядил ракетницу и выстрелил. Лужайка, опушка леса и роскошный дуб, вокруг которого пограничники метались добрых семь или восемь минут, стали видны как днем. — Вот они, вот, на дереве! — закричал ликующим голосом Канафьев. Да, он, а не Смолин первый увидел нарушителей. И не Аргон. Все-таки оскандалились. Собака должна была броситься к дубу, облаять его. Почему же Аргон не сделал этого? Секрета нет. Плохо обучен. Себя, одного себя винил Смолин. Больше некого. Аргон отдавал только то, что вложили в него. Такие невеселые мысли были у Смолина, когда все радовались. Капитан подходит к дереву, приказывает: — Эй, вы, бросайте оружие! Слезайте! Живо! Один сразу спустился. Чуть позже — другой, а за ними и третий спрыгнул. Все упали на землю и не поднимаются. Молодые, здоровенные. Сапоги, автоматы, гранаты немецкие, галифе синее, офицерское, френч табачного цвета, кепки с длинными козырьками, с кокардами и трезубцами. Ребята смеются, радуются, что такие важные нарушители схвачены без потерь. Поздравляют Смолина. Нахваливают его собаку. А он молчит. Не до веселья ому, знает, что с Аргоном надо работать еще много и долго, гордиться пока нечем. Никто не знает, что в душе у Смолина. На себя злится. И Аргону ни за что ни про что досталось. Пнул его ногой. — Фасс! Команду не пришлось повторять. Со всех ног бросился на ночных ходоков, потрепал как следует, отвел свою собачью душу. Те вопили, как недострелянные зайцы. Смолин не останавливал Аргона до тех пор, пока не услышал грозного окрика капитана Бакрымова: — Уберите собаку! Немедленно!!! — Пусть потренируется, товарищ капитан. Она еще ни разу не пробовала на зубок настоящего нарушителя. — Уберите! — Слушаюсь, товарищ капитан. Однако Смолин не спешил. Вразвалочку подошел к Аргону поближе, подозвал его голосом и жестом. Собака здорово увлеклась и все-таки сразу бросила нарушителей, села у ног Смолина. Он погладил ее по голове. — Хорошо, Аргон, хорошо! А про себя горько думает: «Хорошо, да не очень». — Еще как хорошо! — радуется сержант Канафьев. — Я, брат, думал, что дух суки перешибет все прочие запахи. И удивился, по правде говоря, как это Аргон не соблазнился такой приманкой. Силен бродяга. Повеселел и подобрел и начальник заставы. Слушает, смотрит и улыбается. Потом кладет руки на плечи Канафьеву, виновато говорит: — Зря я на тебя раскричался, сержант. Под горячую руку попал. Извини. — Ничего, товарищ капитан. Бывает. Сам собой, без особой команды получился перекур. Не грешно и отдохнуть, привести себя в порядок после бешеной гонки. Вспыхнул костер. Нарушители лежат вниз лицом, скованные стальными наручниками, а пограничники сидят на траве, под дубом, курят. Смеются. Переобуваются. Подсушивают у огня портянки и темные от пота спины. С любопытством поглядывают на своих ровесников, пришедших оттуда, запродавших кому-то свои души, уже обреченных на тюрьму с той самой минуты, когда переступили границу с автоматами, с гранатами в руках. Для них уже померк белый свет, а для пограничников только-только начинается день. Прозрачный дымок, розовый от пламени костра, знойно дымится над поисковой группой. Вековой дуб, овеянный восходящими токами теплого воздуха, расшумелся своей листвой. Аргон, натянув поводок на всю длину, мирно пасется на лужку, как травоядное: ловко отщипывает стебли каких-то одному ему известных лечебных трав и осторожно пережевывает их. Сержант Канафьев не сводит восхищенных глаз с собаки. Притулился к плечу Смолина и шепчет: — Цены нету твоему Аргону. Профессор своего дела. Академик! По невидимому следу шел так, как поезд по рельсам. Любо глянуть. Вороги его, Сашка, пуще собственного глаза. Для границы такая собака — золотой клад. Но пускай ее без особой нужды на задержание вот таких головорезов. Расстреляют. Я бы на твоем месте себя не пожалел, но Аргона не дал в обиду. Мысленно Смолин согласился с Канафьевым, но вслух сказал: — Ты что болтаешь, сержант? Собаки для того и существуют, чтобы задерживать нарушителей. Даже в инструкции об этом сказано. Канафьев осторожно взглянул на капитана, сказал вполголоса: — Так оно так, конечно, а с другой стороны… Человек умеет хитрить с вражьей пулей, а собака беззащитна. Моей Трещотке далеко до твоего Аргона, но я все пули, направленные на нее, перехватываю по дороге и отвожу подальше в сторону. Он смягчил улыбкой свою шутку. Смолин тоже пошутил. — И Трещотка в знак благодарности за твою самоотверженность отказалась брать след. Так, да? — Это ничего, Сашок, природа. Бывает. Трещотка — хорошая собака. Люблю я ее. — А я, думаешь, не люблю Аргона? Да я за него, если хочешь знать правду, в огонь и в воду пойду. Один из диверсантов при этих словах чуть приподнялся с земли, вывернул голову в сторону костра. Некоторое время с величайшим вниманием смотрел на Канафьева и Смолина, потом отвернулся, застонал, заскрежетал зубами. — Ну, чего ты кряхтишь? Пить хочешь? Или до ветра приспичило? — спросил Канафьев. Спросил резко, даже грубовато, но в глазах его явно сквозило желание как-то облегчить положение задержанного. Нарушитель снова вывернул голову к пограничникам и бесстрашно, четко выговаривая слова, сказал: — Ну и ну! Тварь, вонючая псина для вас дороже собственной жизни! Все вы такие. Во всем. Дикари! Варвары! Фанатики! «Первым делом, первым делом — самолеты. Ну, а девушки — потом»… Первым делом, первым делом — заводы, фабрики, колхозы, государство. Ну, а все прочее — потом. Жить когда начнете, дураки? Один раз человек живет на свете. Одиножды! — Смотри, Саша, какой твой крестник оказался разговорчивый! — усмехнулся Канафьев. — Молчал, молчал и сморозил. Интересно! Смолин, не говоря ни слова, вскочил. Обошел по кругу лежащих ничком нарушителей. Быстро нагнулся над тем, кто оказался разговорчивым, перевернул его на спину. Загремели наручники. Жиденькая бородка едва прикрывала пухлые, стеариновой бледности щеки и рыхлый подбородок. Воспаленные, полные заматерелой злобы глаза. Шрамы на виске. Наполовину оторванное ухо. — Так, значит!.. Дикари. Дураки. Фанатики. А ты кто такой? Где твоя грамота, ум? Почему шастаешь в темноте, как ночная зверюка? Мы, значит, жить не умеем… А ты? За что воюешь? За какую жизнь? Против кого? Тебя, умника, как паршивую шавку натравили на нас, и ты загавкал. И вот догавкался. Почему не сопротивлялся, когда тебя науськивали на нашу державу? Почему позволил кому-то распоряжаться твоей молодой жизнью? «Однажды человек живет на свете». Верно! Как же ты, умник, хорошо все так зная, стал падалью в свои двадцать пять? Молчишь? Эх, темнота, темнота!У меня, брат, большущая новость. Надумал жениться. Нет, нет, передумывать не буду. Женюсь бесповоротно. Попался! Подцепила меня местная дивчина с чудным, ненашенским, не болдинским именем. Юзефа. Она же и Юлия. Моложе меня на целых пять лет. Бедовая. Первая, самая первая здешняя комсомолка. И не рядовая, а волевой секретарь. Представляешь, как она будет мною командовать и руководить? Ничего, стерплю. Я люблю умных, справедливых и волевых командиров. А наружность у нее тоже подходящая. Белолицая она. Сероглазая. Русоволосая. Ходить не умеет. С утра начинает бегать. И никуда не опаздывает. Все свои дела за день успевает переделывать, ни единого не оставляет назавтра. Объясняемся мы с ней на разных языках. Я ей говорю «люблю», а она «кохаю». И, знаешь, все нам ясно. А дальше, думаю, и вовсе без всяких слов будем понимать друг друга. Жить нам на заставе сейчас негде. Все давным-давно занято. Юлия тянет меня к себе, в свою хату, к матери. Не хочется покидать заставу, но все равно придется перебираться из казармы на семейную квартиру. Чудно! Сашка Смолин — семейный человек. Никак это не укладывается в моей голове. Двадцать восемь лет был холостяком и вдруг — женатый! Сплю на пуховой перине. Укрываюсь одеялом с кружевными оборками. Каждое утро ем горячие пышки с медом и попиваю свежее молочко. Представляешь? Пропадет худенький, быстроногий, легкий как ветер следопыт Сашка. Появится на заставе толстый, тяжелый, налитый семейным счастьем, с отдышкой старшина-сверхсрочник. И скоро, через год или два спишут его с границы за моральную и физическую отсталость. Вот, брат, какие пироги. Не женись, дружище, пока ты еще молод. Надевай хомут, когда тебе стукнет лес сорок с гаком. С последним холостяцким приветом А. Смолин.
Поединок
Генерал-лейтенант Гребенник Кузьма Евдокимович стоит перед огромной, во всю стену кабинета, крупномасштабной картой, утыканной вдоль государственной границы крошечными красными флажками, и, прижимая к уху телефонную, на длинном шнуре трубку, молча, сосредоточенно слушает. Деревянная легкая указка скользит по карте наискосок с севера-запада на юго-восток. Пересекает линию флажков, останавливается в центре зеленого массива за несколько десятков километров от государственного рубежа. Штабные офицеры, обступившие генерала, внимательно вглядываются в пункты, отмеченные указкой, и что-то записывают в свои блокноты. — Ясно. Спасибо. Жду дополнительных сведений. Генерал кладет трубку на аппарат, смотрит на офицеров и говорит: — Самолет без опознавательных знаков. Военно-транспортный. Появился на большой высоте со стороны польского Поморья. Пересек границы вот в этом квадрате. На бреющем. А в этом квадрате снова набрал высоту. Долетел сюда, до Каменного леса, развернулся, выбросил парашютистов и лег на обратный курс. Генерал указкой очертил на карте довольно большой овал. — Осматриваем этот район. Поднять по тревоге все тыловые части, подразделения, все заставы, прилегающие к Каменному лесу. Сюда, сюда, сюда и сюда направить усиленные поисковые группы. Лучших инструкторов и лучших собак перебросить на машинах вот сюда, сюда и сюда. Не забудьте Смолина. Пусть Смолин и его Аргон атакуют зеленый массив вот отсюда, с южной окраины. Генерал опустил указку, задернул на карте легкие шторы. — Выезжаем на место событий. Штаб оперативной группы базируется в лесничестве Каменного леса. Дальнейшие указания — по радию. Все, товарищи. Действуем!Кто-то требовательно забарабанил в темное окно. Смолин вскочил, распахнул створки и увидел в палисаднике высокого, плечистого, широколицего рядового Бурдина. Приметный парень, его ни с кем не спутаешь. Ясно! Опять тревога на заставе. — Где? — деловито спросил Смолин. Ему надо было знать, на каком участке прошел нарушитель. Пока оденется, добежит до заставы, успеет обдумать, как надо действовать. Бурдин молчал. — Я спрашиваю, где прорыв? Бурдин поднял свою большую голову к небу и сказал: — Там. — Брось дурака валять, Леша. Говори толком. — Парашютисты. Целая пачка. Американского образца. — Парашютисты?! Вот это новость! Да! Где же они приземлились? — Воздушный десант сброшен в нашем тылу, примерно в районе Каменного леса. Тебя назначили командиром одной из поисковых групп. Все это Бурдин выговорил в одно дыхание. Потом, помолчав, добавил уже другим тоном, просительно: — Саша, скажи начальнику заставы, чтобы и меня назначили в поиск. Смолин удивился, посмотрел на солдата, освещенного поздним спелым месяцем. Бурдин снизошел до просьбы?! Это тоже немалое дело. До сих пор он никого никогда ни о чем не просил. Сам всем помогал, но в помощи не нуждался. Самостоятельный. Гордый сверх всякой меры. На все руки мастер. Очень грамотный. Сильный. Волевой. Уверен в себе. Правдив. Исполнителен. Ни с кем не спорит. В друзья никому не набивается. Но каждому — друг и товарищ. Любит молчать, но когда надо, все скажет прямо. Не хвастун. Не суетлив, но действует быстрее и ловчее многих. Вежливый, уважительный, никогда не грубит. Не лодырь. И свою работу делает и чужую нечаянно прихватывает. Играет на баяне, балалайке, гитаре. Сто песен подряд может пропеть. И голос у него чистый, звонкий — за душу хватает. Всем хорош парень, не к чему придраться. Смолин, глядя на Бурдина, всегда изумлялся: эка, сколько одному привалило! И вот этот счастливчик, любимец заставы, опора коллектива и начальника, гордый мастер-пограничник вдруг засомневался в себе, не верит, что его удостоят чести искать парашютистов. Оказывается, Леша истинной цены себе не знает. Бурдин еще раз повторил свою просьбу. — Скажи, Саша! — А зачем говорить? Начальник уже наверняка тебя назначил. Кого еще посылать на такую операцию, как не тебя! — Начальник назначил твоими напарниками Сидорака, Непорожнего, Букреева. А какой Сидорак бегун? Зашкандыбает на первом же километре. Скажи, старшина! Пусть Сидорак останется, а я пойду с тобой. Удружи, Саша. Никогда я еще не принимал участия в таком деле. Очень хочется узнать, настоящий я пограничник или так… пришей кобыле хвост. — Хорошо, Леша, я скажу.
Смолин с Аргоном и вся поисковая группа заставы уже втягивалась в Каменный лес, когда на проселочной дороге запылила машина. Она приближалась на большой скорости. Вездеход с открытым верхом и опущенным на капот передним стеклом догнал пограничников и остановился на обочине. На землю соскочил высокий, плотный, с сильно загорелым лицом генерал. Смолин, по праву старшего, не бросая поводка, приложил руку к фуражке и доложил начальнику войск, которого он хорошо знал, откуда, куда и зачем направляется поисковая группа. Гребенник выслушал Смолина и посмотрел на свои часы. — Опоздали, товарищ старшина, с выходом на исходные позиции. Еще на пятнадцать минут оторвались парашютисты. — Машина подвела, товарищ генерал. Испортилась. Не довезла до нужного места. Пять километров пешком топаем. Не беспокойтесь, товарищ генерал, наверстаем! Гребенник посмотрел на бравого, веселого пограничника, готового топать хоть сто километров, усмехнулся: — Если я в таких случаях разучусь беспокоиться, то мне пора уходить в отставку. Старшина, повторите задачу, которую вам поставил начальник заставы. Быстро! Смолин в одно дыхание, уверенно, будто читал по книжке, изложил, где и как он будет действовать со своей поисковой группой. Гребенник покачал головой. Ему явно не понравился и бравый тон старшины, и его чрезмерная уверенность. — Да, план у вас что надо. Пришел. Увидел. Победил. — Он сурово посмотрел на следопыта. — Вам известно, кого вы должны поймать? — А как же, товарищ генерал. Парашютистов. — Вам приходилось их преследовать? — Нет, товарищ генерал, лично мне не приходилось, но я знаю… — Ничего вы не знаете, старшина, раз не поймали ни одного парашютиста. Парашютисты — это ассы среди нарушителей. Особый подбор. Особая выучка. Особая тренировка. Особое задание. Особое вооружение. Особая ценность каждой головы. Парашютист не оставляет следов на границе. Пробивается в наш тыл в три, в пять раз быстрее, чем обыкновенный нарушитель. Имеет надежную явку. В случае соприкосновения с пограничниками сопротивляется с ожесточенностью смертника. Стреляет без промаха. Его не возьмет даже такая зубастая собака, как ваша. Он бесследно пропадает в лесу, в поле, в овраге, в населенном пункте. Парашютист не сдается живым. А нам он нужен живой. Обязательно живой. И целехонький, не подстреленный, по возможности. Трудная у вас задача, товарищ старшина. Выкладывайте все, на что способны. Все физические и нравственные силы. Вопросы есть? Все ясно? Очень хорошо, если так. Теперь садитесь в машину и — вперед. Чумак, — обратился он к шоферу, — довезите товарищей до пятого кордона и возвращайтесь сюда. На пятом кордоне, на небольшой поляне, в центре которой стоял общипанный со всех сторон небольшой стог сена, шофер высадил пограничников. — Ни пуха, ни пера вам, искатели! Берегите чубы, хлопцы! Парашютисты добре стреляють. Пока. Вездеход укатил, поисковая группа осталась в лесу. Солдаты Букреев, Непорожний, Бурдин вопросительно смотрели на старшину, ждали приказаний. Смолин медленно оглянулся. Снял с шеи автомат. Лицо его было так напряжено, будто через минуту предстояло вступить в бой. — Вот мы и на исходных позициях. Запиши время, Бурдин! Прежде всего давайте обследуем вот эту лосевую кормушку. Ничего мы там, конечно, не найдем, но все равно должны осмотреть. Так, для очистки совести. Со всех сторон обошли стожок. Поворошили сено в одном, в другом, третьем месте. Людей здесь и близко не было. Земля истоптана лосями, косулями, оленями. Только следы животных. Старые, осенние. Весенние. Недавние. Свежие. Свежайшие. — Тут все ясно, — сказал Смолин. — Самое неподходящее место для парашютистов. Заповедное. Людное. Объездчики туда-сюда шастают. Сторожа. Лесники. Ученые. Туристы. Дороги республиканского значения. Много машин. И пограничники сюда частенько заглядывают. Нет здесь парашютистов. Там они, дальше. В глубине Каменного леса. Перешли речку. Притаились в чащобах. Ночью выползут и рванут на восток, между деревнями Корневище и Просяная. Солдат Букреев с изумлением смотрел на Смолина. — Старшина, ты так говоришь, будто своими глазами видел, куда и как пошли парашютисты. — Видеть не видел, а знаю. — Почему? Чутье? Личная разведка сработала? — Больше им некуда деться, Если они не дураки — среди парашютистов наверняка нет дураков, — обязательно пошли в направлении Корневищи, Просяная, Базки. Очень удобная дорога. Более подробно я тебе, Вася, после операции все объясню. Потерпи! — После драки кулаками не машут. Каждый солдат должен знать свой маневр перед боем, говорил Суворов. Букреев улыбался, ему явно хотелось поговорить, но Смолин был строг. Работая, он никогда не зубоскалил. Ничего не ответил он Букрееву. Вместо него заговорил Бурдин: — Твой маневр, товарищ Букреев, определен приказом начальника заставы. Искать парашютистов! Найти! Схватить! Доставить. Всё. Проще пареной репы. — Действительно, просто: дважды два четыре. Посмотрим, как это получится. — У нас, Букреев, обязательно получится, а вот у вас… Первый раз Смолин видит Бурдина в таком состоянии. Бледный, губы трясутся. Отчего бы это? Нервничает солдат. Старая история. Каждый, кто впервые идет на серьезное дело, невольно шумит, храбрится, говорит больше чем надо, придирается к товарищам по пустякам. — Отставить разговоры! — приказал Смолин. — Слушай мою команду. Прочесываем лес насквозь, до десятого кордона и дальше до реки. Непорожний движется на правом фланге, Букреев — на левом, мы с Бурдиным идем в центре. Расстояние друг от друга — в пределах видимости. Во все глаза смотри себе под ноги, на вершины густых деревьев, на кучи сухих листьев, на кустарник. Немедленно сообщаем друг другу обо всем подозрительном. В случае, если я выйду из строя, обязанности командира поисковой группы выполняет Бурдин. Ясно? Рра-аззойдись! Разбежались и пошли с автоматами наготове. Под ногами шуршали прошлогодние листья. Скользила хвоя. Потрескивал сушняк. Весенний, пышно разодетый в зелень лес не просматривался далеко в глубину. Солнце почти не пробивалось сквозь кроны. Непуганые птицы подпускали к себе почти вплотную и неохотно перелетали на соседние деревья. Не умолкала кукушка. Голос ее ни разу не прозвучал ни слева, ни справа, ни позади пограничников. Только впереди. Прокукует, даст знать о себе, немного помолчит и опять принимается за свое. Пограничники — к ней, она — от них. Будто все дальше и дальше в пущу заманивает. Или указывает дорогу. Смолин, человек абсолютно несуеверный, покачал головой: — К чему это ты расшумелась, голубушка? К добру или худу? Аргон неуверенно, с поднятой головой семенил рядом. Вперед не рвался. Часто останавливался, смотрел на своего друга и как бы спрашивал: куда и зачем мы идем? Почему не работаем, а прохлаждаемся? Смолин потрепал собаку по холке. — Потерпи, Аргон Аргонович, скоро у тебя работа будет… Кукушка умолкла. Через какое-то время ее печальный голос послышался уже там, откуда пришли пограничники. — Приказывает назад поворачивать. Ну, что, вернемся? — спросил собаку Смолин. Аргон лизнул руку следопыту и побежал вперед. Прошли километров шесть или семь. Пробились к роднику, выбегающему из-под каменной кручи, прикрытой слоем земли. Тут напарник слева замахал руками. Без всякого крика, молча подавал тревожный сигнал: давай, мол, старшина, сюда, да поживее. Смолин вскинул автомат, дернул поводок, подбежал. — В чем дело, Леша? — Посмотри! На берегу ручейка, среди молодой травы, чернело большое, с остатками холодной золы и углей пятно. Тут же валялись маслянистые обрывки газеты, пустая консервная банка, водочная бутылка. — Прыгуны здесь завтракали, костер жгли. Смолин отрицательно покачал головой. — Сомневаюсь. Не до завтрака, не до костра им. Драпать и драпать надо. И как можно дальше и быстрее. — Бегло осмотрел кострище и убежденно добавил: — Обознался ты, Леша, не были здесь парашютисты. Пепел старый. Двухсуточной давности. Некоторое время они шли рядом. Им не хотелось расходиться. Они давно, как только следопыт появился на заставе, потянулись друг к другу. Им хорошо было вместе, а почему — неизвестно. Не нахваливали друг друга. Ничем не угождали. Большей частью молча играли в шашки. Что-нибудь делали на заставе. Курили. Разговаривали. Сидя рядом в Ленинской комнате, читали, слушали радио. Ходили в ночной наряд. Никогда, ни одним словом не обмолвились о дружбе. И все-таки оба знали, что крепко дружат. — Саша, какое у тебя предчувствие? — вдруг спросил Бурдин. — Насчет чего? — Поймаем голубчиков или не поймаем? — Должны поймать. Только бы на след стать, а дальше дело ясное. Будем преследовать хоть до Сибири, но догоним. — Если бы! — вздохнул Бурдин. — Я бы в отпуск домой слетал. Очень по маме соскучился. И мама в каждом письме умоляет: похлопочи, дорогой сыночек, приезжай в отпуск, поторопись, пока я еще на ногах… Плоха моя мама, очень. Раньше времени состарилась. От горя. От работы. У тебя мать здорова, Саша? — Ничего. Но и у нее доля такая же. Отец погиб на войне. Сама детей растила. Вдруг Смолин схватил Бурдина за руку, потащил в тень дерева, пригнул к земле. — Видел? — Что? Где? — Парень в синей рубашке шарахнулся с поляны в кусты? — зашептал Смолин. — Ах, мальчик! Видел! Ну и что? Это пастушок. Вон и коровы его. — А почему он удрал? Почему от нас прячется? Смолин направился к темным прибрежным кустам. Аргон бежал за ним на укороченном поводке. Пошел к речке и Бурдин. — Эй, хлопчик! — закричал старшина. — Ты чего ховаешься? Иди сюда! Слышишь? Где ты? Тишина. Никакого движения. Смолин еще более укоротил поводок и вполголоса подал команду: «Голос!» Овчарка залаяла, и сейчас же в кустах истошно завопил мальчик. — Я тут, дяденька, не пускайте, ради христа, своего волка. — Не буду, зря кричишь. Иди сюда. Поговорить хочу с тобой. Появился хлопчик лет десяти с бледным, перекошенным от ужаса лицом. Латаная рубашка. Сыромятные, размякшие от росы постолы на ногах. В руках длинная палка, вырезанная из дикой груши, с горгулиной на конце, как у настоящих пастухов. Остановился поодаль, трясется, как в лихоманке, бормочет: — Дяденька пограничник, я ничего не знаю, ничего не бачив, ничего не чув. Смолин передал поводок Бурдину и подошел к напуганному мальчугану. — Успокойся, не плачь. Садись. Вот так. Как тебя зовут? — спросил он ласково. — Петро. — А по батькови? — Батька я не маю. — У каждого человека есть или был батько. Как звали твоего батьку? — Тарасом. — Умер? — Убили. — Кто? Мальчик опустил голову. — Немцы? Бандеровцы? Пастушонок не отвечал. — Ты из какой деревни, Петя? — Корневищи. — Чужих коров пасешь? — Угу. — Давно выгнал? — Спозаранку. — Встретил кого-нибудь на дороге? Мальчик вскинул голову, умоляющими глазами посмотрел на пограничников и заплакал. — Дяденька, я ничего не бачив, ничего не знаю. Ничего не чув. Смолин достал платок и вытер мальчику мокрые щеки и подбородок. — Дурень, чего ты рюмсаешь? Заладил: «Ничего не знаю, ничего не бачив, ничего не чув». Да разве я тебя спрашиваю, знаешь ты что-нибудь или не знаешь? Мне это ничуть не интересно. Я о другом хочу тебя спросить, Петя. Почему ты убежал, когда увидел нас? Испугался, да? — Я ничего не знаю, ничего не бачив. Истинным богом клянусь. И мальчик стал неистово креститься. — Нехорошо, Петя. Перед богом и передо мной нехорошо. И бог видит, и я вижу, что ты неправду говоришь. Он нащупал в кармане кусок рафинада, припасенный для Аргона. Достал, протянул мальчику. — Цукру хочешь, Петруша? Отведай. Наш, солдатский. Слаще гражданского. Мальчик оттолкнул руку Смолина. — Не хочу. Сами ешьте. — Мои зубы не принимают сладость. Горького требуют: табаку, пива, чесноку, цыбули. Ну, Петя, скажешь или не скажешь, почему испугался меня? — Ничего я не знаю, дядя. Святой крест могу поцеловать. — Не поцелуешь. Все ты знаешь. Все видел. Все слышал. Вот что, хлопчик. Давай поговорим откровенно, по душам. Рано утром ты выгнал коров и нечаянно встретил каких-то людей. И они, эти чужие люди, пригрозили тебе смертью, если скажешь пограничникам, где ты их увидел и куда они пошли. Было такое дело? — Не пытайте, дядечка! Я жить хочу. — Спрашивать уже не о чем, Петя. Все ты сказал. — Я ничего не казав. И не скажу. — Давно чужие люди были здесь? — Якы люди? Никого я не бачив. — Я спрашиваю, давно были тут люди, которые грозились тебе? — Дядечка, пожалейте сироту. Один я у мамки. Батька повесили. Братов замордовали. И меня убьют… — Не дадим, Петя. Смолин обнял парнишку, прижал к себе. — У меня тоже батька убили под Варшавой. Такие же головорезы, как те, которых ты утром повстречал. И еще не одного отца они убьют, если мы их не выловим. Сколько их было? Петя молчал. Пугливо озирался. — Пятеро? Трое?.. — Я одного бачив. — Молодой? Старый? — Без усов и бороды. — Автомат у него есть? — Ага. И автомат, и пистолет, и гранаты. И якась сумка на спине. — Дорогу спрашивал? Населенные пункты? — Не… Пытал, были ночью в нашем селе пограничники чи не были. Я сказав, не було. А он сказал: днем обязательно нагрянут. Сховайся от них подальше. Мовчи. Ничего ты не знаешь. Ничего не бачив. А раскроешь рот, то найдем тебя под землей, надвое разорвем и собакам кинем. — Не бойся, Петя. Поймаем мы его. Ты вырастешь, а он все в тюрьме будет сидеть. В какую сторону он пошел? — Туда! — показал мальчик на левый берег реки. — Через греблю. Тикав и все оглядывался. Два раза кулаком мне погрозил. — Ну, спасибо тебе, Петя. — Вы уходите, дядя? А як же я? — Мы скоро вернемся. Через час или два. Вместе с парубком. Покажем тебе его во всей красе, Связанного. — Я боюсь, дядя. — Ничего с тобой не случится, честное благородное, Он уже далеко отсюда. — Я пойду с вами. — Мы теперь шагом не пойдем. Рысью. Галопом. Не успеть тебе. — Успею! Я бегаю швыдче зайца. Возьмите, дядя! — А твои коровы как? — Та нехай они пропадуть, распроклятые. Замучили. Не прогоняйте, дядя! Смолин прижал к своей груди нечесаную беленькую головку пастушонка. — Понимаешь, хлопче, какое дело… Солдаты мы. Воевать будем. Не имеем права тебя под вражьи пули подставлять. — Не турбуйтесь. Я и сам не подставлюсь. Научился. Через наше село вся война прошла. — Нет, Петя, не надо рисковать. Лучше подожди нас здесь. Даю тебе честное благородное: ничего с тобой не случится. — Боюсь. Убьют, — заплакал мальчик. Что делать с беднягой? Запугали. Нельзя оставлять его одного. Умрет от страха. Эх, была не была!.. — Ладно, Петро. Следуй за нами. И ни в коем случае не выскакивай вперед. Падай на землю, если услышишь выстрелы. И вообще, будь ниже травы, тише воды. — Буду, дядя! — Ну как, Алеша, отдохнул? — спросил Смолин у напарника. Бурдин молча кивнул и поправил автомат, висевший на шее. — Ну, а ты, псина? Дыхание у собаки ровное, будто и не пробежала десяти километров. Сидит, вздыбив шерсть на могучей холке. Голову держит высоко. Уши торчат. Коричневые глаза, полные напряженного внимания, пристально смотрят на хозяина. Смолин смеется, треплет собаку. — Ну, чего ты уставился на меня, как дурень на писаную торбу? Чего ждешь? Не понимаешь обстановки? Что тебе не ясно? Почему зря бегали? Не зря. Сейчас ты убедишься. Пошли! Аргон сидел спокойно до того, как было произнесено слово «пошли». Оно прозвучало для него как команда. Вскочил, рванулся вперед, натянул поводок. — Тихо, псина, тихо! — Смолин взглянул на мальчика. — Петя, покажи, где ты встретился с этим… Пастушонок выбежал вперед, но Смолин схватил его, удержал. — Стой на месте. Покажи направление. Мальчик указал рукой в сторону кустов и речки. Смолин подвел Аргона к берегу. Опустился на колени, стал внимательно осматривать росную луговину. Молодая трава всюду была дымчато-зеленой, и только у самой воды она резко выделялась темной узкой полоской. След тянулся вверх по течению реки. Ни одного отпечатка ноги парашютиста не осталось на твердой земле. Ничего, и так все ясно. Смолин подвел Аргона к невидимой тропе и энергично скомандовал: — След! След! Собака шумно выдохнула воздух и сейчас же вдохнула всей грудью. Голова опущена. Хвост — как шея у лебедя. Каждый мускул напряжен. Больше всего Смолин любил в своей работе вот это мгновение. Самое короткое, самое емкое, самое важное, самое опасное. Возьмет или не возьмет?! Если Аргон возьмет след, то парашютист обречен. Если же не возьмет, все пропало. Это как прыжок с высокой скалы в бурное море. Всего пять или шесть секунд летишь вниз головой, от неба к воде, но сколько за это время передумаешь, какой тревогой наполнится сердце… Кажется, взял! Аргон фыркнул, прочистил носоглотку, сердито помотал головой, уткнулся в землю — и пошел. Вдоль берега реки. Бегом. Быстрее, еще быстрее. Поводок натянут как струна. Бежит и ликует, собачий сын. Мордой, ушами, хребтиной, хвостом, каждой своей золотисто-опаловой шерстинкой. Смолин еле успевает. Бурдин отстал метров на десять, а мальчика и вовсе не видно. — Давай, Леша, цепляйся на буксир, — закричал Смолин. — Не надо. Успею. — Цепляйся, кому говорю! Попридержал собаку, освободил конец поводка и бросил напарнику. — Крепче держись, Леша! Выдохнешься, подай знак. Пошли! — и он снова попустил поводок. Аргон тянул как трактор, бежал как гоночный автомобиль. Берегом, все время берегом, в тени верб, ивняка, по траве. Потом по черной скотопрогонной тропе. По дороге. Смолин не отставал от своего друга ни на шаг. Все свои силы, сноровку, все, на что был способен телом и душой, вкладывал в этот стремительный бег. Смолин трудился. Делал главное дело своей жизни… Он еще не видел парашютиста, но уже понимал, чувствовал, догадывался, что расстояние между ними неуклонно сокращается. И это его подбадривало. Парашютист со всех ног удирал от грозящей ему опасности. Смолин со всех ног догонял пулю, припасенную для него. Парашютиста гнали вперед ненависть и страх. Смолин преследовал по пятам беду, упавшую с неба. Беду своей родной земли, своего народа и свою личную. С молоком матери впитал он любовь, уважение, преданность к тому, как трудился и жил его отец-коммунист, как побеждала и боролась его Россия, двести миллионов его соотечественников. Парашютист четыре года воевал против нас в рядах гитлеровской армии, был нещадно бит и все же не образумился. Еще раз поднял вооруженную руку на нашу землю, на наших людей, понесших неисчислимые потери. Принимая все меры для того, чтобы догнать, схватить, обезвредить лазутчика, Смолин выполнял свои прямые повседневные обязанности пограничника-следопыта и вместе с тем проявлял наивысшую свою сущность — солдата, коммуниста, человека. Аргон выскочил на греблю — на вытоптанную, твердую, без единой травинки, узкую полоску земли, сплошь продырявленную копытами лошадей и коров. Слабые запахи следа парашютиста здесь заглушены более мощными. Ничего! Аргон не оплошает. Взял! Да еще и без принюхивания. Верхним чутьем. Перелетел на другую сторону реки. Ткнулся сначала вправо — не понравилось. Вернулся. Побежал налево — тоже непривлекательно. Опять вернулся. Постоял, тяжело, шумно и быстро вдыхая и выдыхая воздух. И пошел прямо. Теперь все так, как надо. Хорошо. Бежит. Набирает скорость. Оглянувшись, Смолин увидел позади себя, метрах в двух, пышущее жаром, потное лицо Леши. Мальчика вблизи не было. Его приметная рубашонка синела среди зелени на той стороне реки. Даже до гребли не добежал. Отстает с каждой минутой. Вот тебе и заяц! Бежит и плачет. Бедняга! Но Смолин не сбавил скорости. Теперь не до Пети. Теперь вперед, только вперед. Никаких задержек. Аргон втащил пограничников в заречный лес. Сыро. Тишина. Седой мох свисает с деревьев. Папоротник укрывает мягкую топкую землю. Неба не видно. Самое подходящее место для засады, подумал Смолин. И тут же отверг промелькнувшую мысль. Как ни соблазнительно это место было для парашютиста, чтобы встретить преследователей автоматной очередью, он не мог им воспользоваться. Ему надо как можно быстрее и дальше уйти. Вперед, во что бы то ни стало вперед. На пути — бурлящая и довольно широкая речушка. На топком илистом берегу отчетливо видны следы сапог большого размера. «Крупный мужик, — подумал Смолин. — Размер обуви сорок пять — сорок четыре». На той стороне следов не было видно. Собака по инерции перемахнула на правый берег. Смолин за ней не последовал. Он уже знал, что парашютист, сбивая преследователей со следа, вошел в воду и дальше побежал по дну ручья. Чем он опытнее, сильнее, расчетливее, тем больше будет держаться воды, смывающей следы. Но сколько бы ни маскировался, рано или поздно ему все равно придется выйти на землю. Это он может сделать и через двести метров, и через километр, а то и дальше, когда сочтет, что достаточно запутал следы. Неизвестно, где выйдет. Надо искать точку выхода. Аргон вернулся обратно, тихонько заскулил и беспомощно, виновато тыкался мордой в колени Смолину. Следопыт чуть-чуть помял замшевые прохладные уши. — Ничего, дружок, не страдай. Все в порядке. Отдохни! — Что случилось, старшина? — встревоженно, тяжело дыша, спросил Бурдин. — След потерялся? — Найдем! Дело нехитрое. Он решил идти дальше с удобствами: охладить свои потные, горячие ноги в родниковой воде. Покури, Леша! Бурдина поразили спокойствие следопыта, его хладнокровие, щедрые в боевых условиях слова «покури». Поразительна была и всегдашняя, добрая, приветливая и чуть лукавая улыбочка. Улыбается, как на заставе в спокойные часы. — Не растрачивай зря времени. Покури! — Какой может быть перекур сейчас, Саша! — Ну, если дым тебе не гож, отдыхай без курева. Выдох!.. Вдох!.. — Брось дурака валять. Нашел время. Пошли вперед. — Отдыхай, солдат, спокойно. Парашютист в данную минуту тоже отдыхает. Он услышит нас на другом конце ручья, если мы начнем бултыхаться. Вода здорово передает звуки. Сидит он на бережку и сбитые свои ноги лечит проточной водой. А теперь… теперь встал, натянул носки, обулся, потопал дальше. Аргон тем временем метался по кругу, ограниченный поводком, искал пропавшие следы. Смолин ему не мешал. Пусть возбуждается. — Мы пойдем вверх по ручью, Леша, — серьезно сказал Смолин. — Ты слева, я справа. Не спешим. Не шумим. Молчим. Смотрим под ноги. Но и что впереди делается, не упускаем. Трогай! Смолин вместе с собакой перебрался на правый берег. Речушка неглубокая, сантиметров двадцать, с неровным и сильно податливым дном. По такой тропе долго не пройдешь, как бы ни был вынослив. Хорошо, если парашютист выйдет здесь, на правом берегу. Если же выберется на левый, придется возвращаться назад. Аргон сразу понял, что требовали от него. Резво бежал чуть впереди Смолина и, уткнув морду в землю, принюхивался. Не проскочит след, нет. Крепко запомнил. И через десять километров возьмет. И через несколько часов не забудет. Въедливая память у него на запахи. Бегут десять, пятнадцать, двадцать минут. А следа нет. Не могли его проскочить ни в коем случае. Значит, парашютист вышел на той стороне. Надо возвращаться и искать след там. Но, уже приняв такое решение, Смолин продолжал бежать, увлекаемый собакой. Ему не хотелось останавливаться. Уж очень целеустремленно, будто что-то видя, чуя, рвался вперед Аргон. Следопыт доверился другу и не пожалел. Минуту спустя Аргон потянул Смолина в воду. Перескочил ручей и на той стороне сразу, верхним чутьем взял след. Вот это да! Вот это собака! — Хорошо, Аргон, хорошо! — Смолин оглянулся на Бурдина, бросил ему конец поводка. — Все, Леша, вошли в колею. Полетели! И погоня возобновилась. Аргон наверстывал, что потерял, едва касаясь земли. Ручей заметно поднимался кверху. Земля становилась тверже. Изредка попадались камни. С каждой минутой в лесу становилось светлее. По расчетам Смолина, пробежали больше двадцати километров. Едкий пот заливал ему глаза. Обмундирование насквозь промокло. Ноги дрожали, плохо слушались. Еще хуже чувствовал себя менее подготовленный для такого марафона Бурдин. Все чаще спотыкался. Если бы упал, вряд ли встал скоро. Держался на ногах потому, что не выпускал из рук опору — натянутый поводок Аргона. Выскочив на старые порубки, увидели сквозь просторные прозоры светлую опушку, а за нею — весенние, зеленые-презеленые разливы озимых хлебов. Аргон потащил их не к зеленям, а значительно правее. Около одного пня остановился, покружился на месте. Тут, видимо, отдыхал парашютист, раздумывал, куда идти. Так оно и есть. Смолин обнаружил следы сапог, недокуренную сигарету, свежий пепел. Парашютист был здесь недавно. — Ну, Леша, догнали! — улыбнулся Смолин. — С минуты на минуту вступим в бой. Приготовься! Бурдин ответил обиженно, даже сердито. — Я давно готов, старшина. В тот самый день, когда переступил порог военкомата. — Смотри, какой запасливый. Завидно. А я, брат каждый раз заново себя готовлю. Ну! Хоть ты и готов Леша, я тебя все-таки предупреждаю: делай только то, что прикажу. Поперед батька в пекло не лезь. Когда один останешься, будешь действовать самостоятельно, пока… прикрывай нас с Аргоном. Аргон рвался дальше: вот-вот лопнет поводок. Смолин дал ему волю. Пронеслись через порубки. Миновали озимые. Выскочили на опушку, на хорошо укатанную проселочную дорогу. Прибежали в хутор. Четыре беленьких под соломой хаты. Старые плетни. Колодцы с журавлями. Смолин ждал, что собака приведет в какой-нибудь двор. Нет, несется прямо, мимо домов. И не по улице. Задами. По огородным тропам. У крайней хаты снова выводит пограничников на дорогу, с двух сторон обсаженную липами. Под одной из них Смолин внезапно увидел лежащего в канаве человека. И тут же вспыхнул, запульсировал огонь и послышалось захлебывающееся продолжительное татаканье автомата. — Ложись! — падая, закричал Смолин. На какую-то долю секунды он опоздал с приказом. Бурдин уже лежал у стены хаты и стрелял короткими, прицельными очередями. Аргон распластался около хозяина. Задние лапы поджал под себя, передние вытянул, положил на них морду, уши упали, хвост прижат к земле. Автоматные очереди срезали бурьян, высекали искры из каменного фундамента хаты. Парашютист стрелял кучно. Поднимешься — и он мгновенно, навсегда припечатает тебя к земле. Осторожно, ни на волосок не отрываясь от земли, Смолин приблизился к своему напарнику. Аргон полз рядом. — Иди на сближение, Леша. Если сможешь, возьми живым. Прикрываю тебя огнем. Он говорил глухо, в землю, но Бурдин услышал, понял. — Живым, только живым! — откликнулся он. — Ну! Короткими перебежками — вперед! — Иду! Вскочил. Метнулся влево, потом вправо. Пробежав зигзагом, упал в придорожную канаву, пополз к липам. Пули буравили гребень кювета над его головой. Вспыхивали пыльные столбики. Прополз метров двадцать и остановился. Теперь его и парашютиста разделяла только узкая, чуть приподнятая полоска дороги. Слева, в канаве, у подножья деревьев — Бурдин, справа, тоже в канаве, в тени липы — он, враг. Смолин перестал стрелять и приготовился для решающего броска вперед. Верил он в быстроту и ловкость Бурдина, но и не собирался ждать, пока тот в одиночку одолеет врага. Бурдин поднялся, выскочил из канавы и стремительно побежал по горбу дороги, залитому ослепительным солнцем. Парашютист взмахнул рукой и бросил гранату. Она упала в двух шагах от Бурдина. Солдат рванулся, чтобы поднять и швырнуть ее обратно. Ему не хватило одной-единственной секунды. Взрыв опрокинул его на спину. Сотни осколков вонзились в него. Не закричал Леша, не застонал. Даже взглядом не успел попрощаться с жизнью. Смолин вскочил в то же самое мгновение, когда парашютист метнул гранату. Бежал и ясно видел темно-зеленую, поделенную на квадратики металлическую дыньку, начиненную взрывчаткой. Хотел помочь товарищу и не мог. Видел, как Леша рухнул на землю. Хотел броситься к нему, но и этого сделать не мог. Некогда. Нельзя. Парашютист уже бежал к лесу. Догнать! Схватить! Живым! Смолин бросился в погоню. Силы оставляли его. Ноги с трудом отрывались от земли. Грудь полна ветра, мокроты — дышать нечем. Глаза застилал туман. Но и парашютист выбился из сил. Расстояние между ним и следопытом неуклонно сокращалось. Не так быстро, как хотел Смолин, но все-таки сокращалось… Собака уже не только слышала, чувствовала своего врага, но и видела. Рычала, визжала, взвивалась на задние лапы, хрипела. Она мчалась впереди Смолина и тащила его на буксире на всю длину поводка. Если он сбросит петлю с руки, Аргон увеличит скорость, догонит убегающего, вскочит ему на спину, вцепится зубами в горло. Велик соблазн, но Смолин удержался. Рано! Опасно! Слишком большая дистанция. Не успеет Аргон сделать свое дело. Уложит парашютист его автоматной очередью. Смолин преследовал врага, не открывая огня. Тот тоже не стрелял. Мало патронов? Или не опасается пули, поняв, что пограничник хочет взять его непременно живым? Широкая темная спина, обтянутая пятнистой, грязно-зеленой непромокаемой курткой, медленно приближалась. На метр. Еще на метр. На три. На пять. Вот, теперь пора! В самый раз. Смолин бросил поводок. Аргон галопом устремился вперед. Парашютист повернулся, вскинул автомат, дал длинную, наугад очередь. Расстрелял до конца обойму — и напрасно. Слишком высоко взял. Ни одна пуля не попала в собаку: она оказалась в мертвом пространстве. Аргон был уже в двух шагах от диверсанта. Еще мгновение, и он оседлает его. Но противник обладал молниеносной сообразительностью. В тот момент, когда Аргон с оскаленной пастью, разбрызгивая слюну, отделился в прыжке от земли, он ударил его ногой в живот. Собака упала и завизжала.
 Смолин остался с парашютистом один на один. Лицом к лицу. Какое-то мгновение, десятую долю секунды, может быть и того меньше, они неподвижно стояли друг против друга. Оба были на исходе сил, тяжело дышали. Оба бесстрашные, яростно ненавидящие, готовые умереть, но не сдаться.
В это мгновение Смолин успел увидеть противника с ног до головы и почувствовать в нем своего возможного убийцу.
Рослый, поджарый, с железными мускулами, лет тридцати. Крупная, лобастая, как у быка, голова. Брови черные, сросшиеся на переносице, а под ними — глубокие, налитые кровью глаза. На поясе граната. Пустой патронный ранец. Пистолетная кобура. Заплечная сумка.
— Ну, вот и все, отвоевался, — сказал Смолин. — Благодари бога, что уцелел. Руки вверх!
Он знал, что эти слова лишние. Произнес их для очистки совести.
Быстро, молча, не сводя с пограничника злобных глаз, парашютист взмахнул автоматом. Целил прикладом в голову. Промахнулся и подставил себя под удар. Смолин изо всех сил саданул его кулаком по каменному лбу, но с ног не свалил, как рассчитывал.
Мужик рычал, ругался и доставал из-за пазухи гранату. Себя готов взорвать вместе с пограничником. Смолин поймал руку диверсанта, зажал ее под мышкой, вывернул так, что кости затрещали. Граната упала на землю. Смолин подхватил ее и метнул подальше, на обочину дороги. Там она и взорвалась. Парашютист воспользовался выгодным для себя моментом, ударил Смолина ногой в живот, навалился и стал молотить кулаками по голове, лицу, куда придется, а потом и душить.
Смолин и теперь не может понять, откуда у него взялись силы выдержать эту схватку. Не помнит, каким чудом удалось ему сбросить с себя убийцу, подняться на ноги и продолжать борьбу.
Ну и денек! Мало того, что Смолину пришлось пробежать около тридцати километров, потерять товарища, так еще и рукопашная. Здорово дрался детина. Живого места не осталось на Смолине. Голова проломлена. Руки покусаны. Глаза подбиты, затекли. Волосы на макушке вырваны. Лицо исцарапано, ухо надорвано.
Если бы не подоспела поисковая группа, неизвестно, чем бы закончился поединок.
Связанный по рукам и ногам, бандит лежал в канаве.
Лежал и Смолин. Руки и ноги свободны, а пошевелить ими нет сил. И голову поднять невозможно. Гудит, как трансформатор. Во рту огонь полыхает. Пьет, пьет и не может залить пожар. Тут же рядом, и не в лучшем положении, Аргон. Ему все еще больно, он все еще постанывает.
— Вставай, старшина! Начальник войск едет, — сказал встревоженно какой-то солдат, наклонившись над Смолиным.
Смолин приподнял голову и сейчас же опустил ее.
— Слыхал, старшина, чего я сказал? Машина генерала Гребенника выскочила из леса. Сюда идет. Вставай, докладывай!
Букреев и Непорожний подхватили Смолина, поставили на ноги. Не упал. Качается, но стоит. Плохо, почти ничего не видит, но смотрит.
Начальник войск выскочил из машины. Смолин попытался докладывать по всей форме, но Гребенник молча прижал его к груди. И не отпускал. Благодарил. Гордился.
Все, что надо, было сказано без единого слова.
— Товарищ генерал, Леша Бурдин убит.
Гребенник медленно отпустил Смолина и оглянулся на лежащего поперек дороги солдата. Подошел к нему, снял фуражку. Стоял с опущенной головой, скорбно молчал.
Много видел смертей генерал в своей жизни. Во время Отечественной он командовал гвардейской дивизией, состоявшей из пограничников, прошел с жестокими боями от Кавказа до Берлина и Штеттина, немало оставил людей на полях сражений. Но каждый раз, видя убитого, страдал. Ушел человек из жизни во цвете лет. Погиб гражданин, строитель, отец, сын, брат и муж. Осиротели мать, сестры, жена, дети.
К смерти не привыкают ни генералы, ни солдаты.
— Давайте положим Бурдина в машину, — сказал генерал.
Гребенник, Смолин, Букреев и Непорожний осторожно подняли с земли тело молодого пограничника, перенесли в вездеход, накрыли плащ-палаткой.
Похоронили его в Немирове на городском кладбище. Кто-то рыхлит на его могиле землю, обкладывает дерном, высаживает цветы, красит ограду, обновляет красную звезду, вырезанную на камне.
— Товарищ генерал, какие будут указания насчет задержанного? — спросил Смолин.
Гребенник подошел к бандиту, лежащему на земле, и внимательно, с нескрываемым любопытством посмотрел на него.
— Породистый гусь. Отборный. Откуда прилетел? Сколько вас было?
Парашютист взглянул на генерала налитыми кровью лазами, поджал губы, но взгляда не отвел.
— Прыгали по одному? Или все вместе?.. Где и когда разделились? Куда спрятали парашюты? Груз был?
Диверсант устало закрыл глаза.
Гребенник усмехнулся.
— Разучился разговаривать?.. Обыскать!
Пограничники подали генералу пачку документов, деньги, записную книжку, часы, компас, пистолет, нож и географическую, аккуратно сложенную карту. Гребенник бегло взглянул на бумаги, а карту развернул и стал внимательно изучать. Все ее квадраты, над которыми были выброшены парашютисты, ясно отмечены черным карандашом.
— Прекрасно! — воскликнул генерал, — Вы облегчили нам работу, господин парашютист, — Повернулся к солдатам, приказал: — Погрузите его в машину. И вы поедете со мной, старшина!
— Товарищ генерал, у меня к вас просьба.
Гребенник положил руку на плечо Смолина.
— Слушаю.
— Не для себя прошу, товарищ генерал. В селе Корневищи проживает мальчик Петя… Фамилию не знаю. Пастух. Это он показал нам с Бурдиным, куда направился парашютист.
— Ясно. Просьба законная. Наградим Петю медалью, именными часами.
— Я не про это, товарищ генерал. Хлопчик запуган до смерти. Боится, что убьют. Хорошо бы заехать в Корневищи…
— Понял, Саша! Обязательно заедем. Садись. Поехали!
Смолин остался с парашютистом один на один. Лицом к лицу. Какое-то мгновение, десятую долю секунды, может быть и того меньше, они неподвижно стояли друг против друга. Оба были на исходе сил, тяжело дышали. Оба бесстрашные, яростно ненавидящие, готовые умереть, но не сдаться.
В это мгновение Смолин успел увидеть противника с ног до головы и почувствовать в нем своего возможного убийцу.
Рослый, поджарый, с железными мускулами, лет тридцати. Крупная, лобастая, как у быка, голова. Брови черные, сросшиеся на переносице, а под ними — глубокие, налитые кровью глаза. На поясе граната. Пустой патронный ранец. Пистолетная кобура. Заплечная сумка.
— Ну, вот и все, отвоевался, — сказал Смолин. — Благодари бога, что уцелел. Руки вверх!
Он знал, что эти слова лишние. Произнес их для очистки совести.
Быстро, молча, не сводя с пограничника злобных глаз, парашютист взмахнул автоматом. Целил прикладом в голову. Промахнулся и подставил себя под удар. Смолин изо всех сил саданул его кулаком по каменному лбу, но с ног не свалил, как рассчитывал.
Мужик рычал, ругался и доставал из-за пазухи гранату. Себя готов взорвать вместе с пограничником. Смолин поймал руку диверсанта, зажал ее под мышкой, вывернул так, что кости затрещали. Граната упала на землю. Смолин подхватил ее и метнул подальше, на обочину дороги. Там она и взорвалась. Парашютист воспользовался выгодным для себя моментом, ударил Смолина ногой в живот, навалился и стал молотить кулаками по голове, лицу, куда придется, а потом и душить.
Смолин и теперь не может понять, откуда у него взялись силы выдержать эту схватку. Не помнит, каким чудом удалось ему сбросить с себя убийцу, подняться на ноги и продолжать борьбу.
Ну и денек! Мало того, что Смолину пришлось пробежать около тридцати километров, потерять товарища, так еще и рукопашная. Здорово дрался детина. Живого места не осталось на Смолине. Голова проломлена. Руки покусаны. Глаза подбиты, затекли. Волосы на макушке вырваны. Лицо исцарапано, ухо надорвано.
Если бы не подоспела поисковая группа, неизвестно, чем бы закончился поединок.
Связанный по рукам и ногам, бандит лежал в канаве.
Лежал и Смолин. Руки и ноги свободны, а пошевелить ими нет сил. И голову поднять невозможно. Гудит, как трансформатор. Во рту огонь полыхает. Пьет, пьет и не может залить пожар. Тут же рядом, и не в лучшем положении, Аргон. Ему все еще больно, он все еще постанывает.
— Вставай, старшина! Начальник войск едет, — сказал встревоженно какой-то солдат, наклонившись над Смолиным.
Смолин приподнял голову и сейчас же опустил ее.
— Слыхал, старшина, чего я сказал? Машина генерала Гребенника выскочила из леса. Сюда идет. Вставай, докладывай!
Букреев и Непорожний подхватили Смолина, поставили на ноги. Не упал. Качается, но стоит. Плохо, почти ничего не видит, но смотрит.
Начальник войск выскочил из машины. Смолин попытался докладывать по всей форме, но Гребенник молча прижал его к груди. И не отпускал. Благодарил. Гордился.
Все, что надо, было сказано без единого слова.
— Товарищ генерал, Леша Бурдин убит.
Гребенник медленно отпустил Смолина и оглянулся на лежащего поперек дороги солдата. Подошел к нему, снял фуражку. Стоял с опущенной головой, скорбно молчал.
Много видел смертей генерал в своей жизни. Во время Отечественной он командовал гвардейской дивизией, состоявшей из пограничников, прошел с жестокими боями от Кавказа до Берлина и Штеттина, немало оставил людей на полях сражений. Но каждый раз, видя убитого, страдал. Ушел человек из жизни во цвете лет. Погиб гражданин, строитель, отец, сын, брат и муж. Осиротели мать, сестры, жена, дети.
К смерти не привыкают ни генералы, ни солдаты.
— Давайте положим Бурдина в машину, — сказал генерал.
Гребенник, Смолин, Букреев и Непорожний осторожно подняли с земли тело молодого пограничника, перенесли в вездеход, накрыли плащ-палаткой.
Похоронили его в Немирове на городском кладбище. Кто-то рыхлит на его могиле землю, обкладывает дерном, высаживает цветы, красит ограду, обновляет красную звезду, вырезанную на камне.
— Товарищ генерал, какие будут указания насчет задержанного? — спросил Смолин.
Гребенник подошел к бандиту, лежащему на земле, и внимательно, с нескрываемым любопытством посмотрел на него.
— Породистый гусь. Отборный. Откуда прилетел? Сколько вас было?
Парашютист взглянул на генерала налитыми кровью лазами, поджал губы, но взгляда не отвел.
— Прыгали по одному? Или все вместе?.. Где и когда разделились? Куда спрятали парашюты? Груз был?
Диверсант устало закрыл глаза.
Гребенник усмехнулся.
— Разучился разговаривать?.. Обыскать!
Пограничники подали генералу пачку документов, деньги, записную книжку, часы, компас, пистолет, нож и географическую, аккуратно сложенную карту. Гребенник бегло взглянул на бумаги, а карту развернул и стал внимательно изучать. Все ее квадраты, над которыми были выброшены парашютисты, ясно отмечены черным карандашом.
— Прекрасно! — воскликнул генерал, — Вы облегчили нам работу, господин парашютист, — Повернулся к солдатам, приказал: — Погрузите его в машину. И вы поедете со мной, старшина!
— Товарищ генерал, у меня к вас просьба.
Гребенник положил руку на плечо Смолина.
— Слушаю.
— Не для себя прошу, товарищ генерал. В селе Корневищи проживает мальчик Петя… Фамилию не знаю. Пастух. Это он показал нам с Бурдиным, куда направился парашютист.
— Ясно. Просьба законная. Наградим Петю медалью, именными часами.
— Я не про это, товарищ генерал. Хлопчик запуган до смерти. Боится, что убьют. Хорошо бы заехать в Корневищи…
— Понял, Саша! Обязательно заедем. Садись. Поехали!
Большая, брат, у нас беда. Погиб мой друг, самый лучший, самый скромный солдат заставы Алеша Бурдин. Все, от повара до начальника, любили и уважали его. Дело было так. Вместе мы преследовали нарушителя, догнали, вступили в бой. Враг метнул гранату, когда Леша пошел на сближение с ним. Понимаешь, нам надо было взять его тепленьким. Мертвый нарушитель не имеет такой цены, как живой. Наверное, мы пожадничали, погорячились. Надо было, наверное, преследовать его на расстоянии, а потом, улучив удобный момент, вывести из строя. Известное дело, после драки кулаками машешь лучше, чем во время драки. Извини, брат, сегодня я пишу бестолково. С одного на другое перескакиваю. Надеюсь, ты все поймешь. Пропал наш Леша сразу. Без единого крика, без стона. Был — и не стало. И с жизнью и со мной не попрощался. Почему так получается, что раньше всего погибают самые лучшие люди, самые сильные, самые красивые,? Им бы еще жить и жить, дела большие делать, а они уходят от нас. Вся наша застава, вся комендатура печалится о Бурдине. Но что наше горе по сравнению с материнским. Представляешь, что было с матерью Леши, когда она получила извещение. Война давно кончилась, а похоронные из наших пограничных краев все идут и идут! И еще не одна мать потеряет своего сына. Ничего не поделаешь, такая у пограничников служба. Если ты не успеешь прихлопнуть врага, так он с тобой расправится. Надо было бы мне написать особое письмецо матери Леши, рассказать, как оно все было. Надо! Хочу, а не могу. Рука не поднимается. Что я сейчас могу сказать ей? Какими словами утешить? Ничего за душой не имею. Сам себя не могу успокоить. Может быть, через неделю или через месяц соберусь с силами, что-нибудь напишу. Ах, Леша, Леша! Самостоятельный был человек. Гордый и скромный. Ничего не брал ни у кого, а давал все, что имел. Делал все, что положено солдату. И еще столько же, сверх нормы. Любил молчать. Но когда говорил — всех невольно заставлял себя слушать. Песни пел лучше всех. Не услышим мы больше его голос. Замечательный был парень, но цены настоящей себе не знал. Все в мою сторону, бывало, поглядывал. Все старался делать так, как старшина Смолин. Ни в чем не хотел отставать, И веяний раз норовил попасть вместе со мной на границу. И в тот день он сам напросился в поисковую группу. Жил бы, если бы я не взял его с собой. Если бы я знал!.. До сих пор слышу и чувствую, как он, тяжело дыша, бежит по моему следу за мной с Аргоном. До сих пор вижу его красивое, пышущее жаром, с блестящими глазами, облитое потом лицо. Не дает он мне покоя ни днем ни ночью. Места себе не нахожу. Не сплю. Не ем. Только курю и пью крепкий чай. Три дня прошло с тех пор, а у меня все еще рука дрожит, а в голове битое с текло шуршит. И на ногах еле держусь. Больше лежу, чем стою. Надолго, видно, вышел солдат из строя. В санчасти сделали мне какой-то укол. Не помогло. Разговаривать избегаю. Разучился. На каждом слове спотыкаюсь. Заикой, брат, стал. Честное слово. Лежу и все думаю, думаю, думаю, как я мог допустить, чтобы Леша погиб? Понимаешь, он всегда, в каждое мгновение готов был к схватке с врагом. Он был заряжен на победу, только на победу. Отличный был солдат. Нас было двое, не считая Аргона, а нарушитель один. Мы были в десять раз сильнее его, и все-таки Леша погиб. Не сумел я надежно прикрыть его огнем своего автомата. Такого человека не сберег! Три дня и три ночи думаю все об одном и том же, но так ни до чего и не додумался. Тяжесть на душе такая, что по-собачьи выть хочется. Белый свет не мил. Больше всех на заставе перепугана Юлия. Плачет. Не отходит от меня, как от маленького. А я даже ее видеть не могу. Отворачиваюсь к стенке и не отвечаю на ее вопросы. Тошно от всех и всего. Поговорил вот украдкой с тобой, и вроде немного полегчало. Напиши, брат, что ты обо всем этом думаешь. Твое слово, сам знаешь, я ценю. Как прикажешь, так и жить буду.Наступает наш очередной перекур, и я говорю Смолину: — Ну, и что же вам ответил ваш друг? — Точно не помню, давно это было. Большое письмо прислал. Известное дело, успокаивал. Звал к себе погостить. Ну, дали мне отпуск, и я поехал. — Ну, а теперь как вы думаете обо всем этом? Не кажется ли вам, что Бурдин тогда не мог поступить иначе?.. Он изменил бы и себе, и вам, своему учителю, если бы не бросился на парашютиста. Смолим покраснел, пожал плечами и ничего не сказал. Понятно! Не будем бередить старые раны. Переключимся на более безопасную тему. Я сказал: — Многие молодые пограничники, особенно следопыты, изучают вашу боевую биографию. Хотят стать такими, как вы, берут с вас пример. Встречал я на западной границе ваших воспитанников, учеников. Ну, а вы, Александр Николаевич, кому подражали, у кого учились, чьим воспитанником себя считаете? Смолин оживился: — Немало было воспитателей, учителей, друзей у меня. О них я говорил вам. Но есть и еще один, самый главный, самый дорогой. — Кто это? — Один из самых первых пограничников. Генерал Гребенник Кузьма Евдокимович. — Начальник войск округа? — Ну! С ним свела меня судьба в самую золотую мою пору. Он повлиял на мою пограничную жизнь. — Интересно, Расскажите. — В двух словах не расскажешь. — Я выслушаю и тысячу. Давайте! — Без Гребенника вам никак не обойтись. Следопыт Смолин — это самый махонький участок границы. Гребенник — это вся граница. — Объясните мне, пожалуйста, дорогой Саша, как следопыт может подражать в своей работе начальнику войск, генералу? — Не всю же жизнь он был генералом. В молодости охранял границу рядовым бойцом. Вот тому рядовому я и подражал. Между прочим, в генерале Гребеннике и сегодня живет солдат в буденовке. Вам надо встретиться с ним. — Я встречался. Давным-давно. И даже очерк о нем напечатал лет двадцать назад. Кузьма Евдокимович немало хорошего говорил о вас, вспоминал совместную службу, рассказывал, как однажды ночью на заставе беседовал с вами и вашими товарищами. — Ну, вот вам и все карты в руки. Козыряйте! Пожалуй, Смолин прав.
Генерал Гребенник
Туманным осенним днем из управления пограничных войск округа вышел высокий плотный человек в генеральской шинели. Легким стремительным шагом он пересек многолюдный тротуар, подошел к машине. Адъютант открыл переднюю дверцу машины, пропустил генерала и ловко вскочил на заднее сиденье. Шофер Чумак, сверхсрочник, бывалый старшина, медлительно, осторожно повернул голову вправо и молча, одними глазами, умеющими все видеть и запоминать, спросил; «Куда прикажете, товарищ генерал?» — На границу! И эти слова и особенно тон, каким они были произнесены, ясно сказали шоферу и адъютанту, что генерал находится в боевом настроении. Кузьма Евдокимович Гребенник понимал все огромное значение штабной работы, умел в течение многих часов сидеть за бумагами, кропотливо изучая тот или иной вопрос. Но любви ко всему этому, однако, не испытывал. В пограничной службе он любил всей душой только живое общение с чудесным пограничным народом, живущим на заставе, в комендатуре, отряде. Оттого-то он значительную часть своего рабочего времени и проводил непосредственно на границе. Машина, часто сигналя, медленно, осторожно пошла по городу. Густой тяжелый туман наполнял улицы. В седом мраке тревожно звенели трамваи, перекликались автомобили. Моросил мельчайший осенний дождь. Остро тянуло промозглой сыростью. — Ну и погодка!.. Стоп, товарищ старшина! Чумак остановил машину. Генерал соскочил на тротуар, скрылся за зеркальной дверью большого продовольственного магазина. Вернулся он через несколько минут с коробкой конфет. «Зачем конфеты? — с удивлением подумал адъютант. — Для кого? Вроде не в гости едем?» — Поехали! Чумак вывел машину на западную окраину города. От неба и почти до самой земли опускался над полями непроглядный белесый пласт. Но Чумак прибавил скорость и смело врезался в толщу тумана. Под колесами весело зашумела автострада. Здесь, на одной из дорог, ведущих к границе, Чумак чувствовал себя привольно: он знает каждый поворот шоссе, мостик, переезд, спуск и подъем. Гребенник откинулся на спинку сиденья и повернул голову к адъютанту. Старший лейтенант достал из полевой сумки письмо. — От Марты. — Ага, хорошо! Посмотрим, что новенького она сообщит нам. Марта Ивановна Хомик, молодая колхозница, член правления колхоза, звеньевая, подробно рассказывала о трудовых успехах своих земляков: о том, что собран хороший урожай, о том, что ее родной колхоз имени Чапаева стал передовым в районе. Заканчивая письмо, Марта Ивановна просила депутата приехать к чапаевцам в воскресенье, побывать на ее, Мартиной свадьбе. — Жди, Марта Ивановна, не заждешься, — проговорил генерал с улыбкой. Машина шла вдоль границы по берегу реки, почти у самой кромки контрольно-следовой полосы. Двухосный «газик» был включен на оба моста, и все-таки машина с трудом, неуверенно скользила по глубокой разъезженной колее, из-под всех четырех колес летели брызги воды, комья земли, жижа. Шофер часто останавливался, выключал мотор, протирал залепленное грязью переднее стекло. И в такие мгновения особенно ясно ощущалась глубокая тишина раннего вечера, тишина границы. Лес вплотную подходил к дороге — густой, глухой, нехоженый, таинственный лес пограничной полосы. Когда берег реки становился пологим, то лес убегал от реки на взгорья, уступая место непроходимым зарослям камыша, болотам, островкам кустарников. В сильном свете фар один за другим мелькали на поворотах зелено-красные пограничные столбы и высокие дозорные вышки. Генерал молча смотрел влево, на границу. Лицо его, обычно приветливое, добродушное, было сурово сосредоточенным. Кузьма Евдокимович думал о границе. Нет, не о реке, не о контрольно-следовой полосе и не о зелено-красных полосатых столбах и инженерно-заградительных сооружениях. Он думал о том, что составляет плоть и душу государственного рубежа — о людях, о пограничниках. Генерал мысленным взором окинул весь передний край своего округа, растянувшийся от скалистых подоблачных гор до дремучих лесов и непроходимых болот. И перед ним предстали лица начальников отрядов, работников политотделов, комендантов участков, начальников застав, старшин сверхсрочной службы, сержантов, молодых пограничников и старых боевых соратников по службе на румынской, польской, черноморской границах и на дальневосточной, у озера Хасан. Много их было, этих лиц, перед мысленным взором генерала. Генерал вглядывался в эту живую границу и думал: все ли он сделал, чтобы люди занимали места на границе согласно своим способностям, опыту? — Застава! — вполголоса проговорил адъютант. Лучи фар выхватили из мокрой тьмы ночи большой пруд, поросший камышом, плотину, каменные стены водяной мельницы и приземистое жилое здание на берегу. Это застава капитана Двуреченского. С тыла к ней примыкал большой густой лес. На той стороне, на западном берегу реки, сияли огни населенного пункта. «Здесь генерал обязательно остановится», — подумал адъютант. Шофер, по-видимому, подумал о том же и замедлил ход «газика». С правой стороны дороги стояла группа пограничников. Когда машина остановилась, подошел молодой стройный офицер с капитанскими погонами и отрапортовал о том, что на заставе никаких происшествий не произошло. Гребенник пожал руку капитану и, не выпуская ее, добродушно сказал: — Поздравляю, товарищ Двуреченский! На лице капитана отразилось изумление: — С чем, товарищ генерал?! — Как это «с чем»? Ты что, не рад рождению сына? Капитан смутился: — Я не думал, что вы знаете. — Знаю, товарищ Двуреченский. Очень рад твоему счастью. А это Варваре Федосьевне, — и он протянул капитану коробку с конфетами. — Передай и поздравь ее с рождением сына. — Спасибо, товарищ генерал, — взволнованно ответил капитан. И снова дозорные вышки, пограничные столбы, леса, болота и кустарники, заставы, а генерал все едет и едет и не собирается, кажется, останавливаться. Грунтовая дорога выскочила из леса и под прямым углом врезалась в широкое шоссе. Шурша галькой, напоминавшей о море и горных реках, «газик» побежал быстрее. Показалась окраина деревни. — Вот здесь мы и остановимся! — сказал генерал. Шофер затормозил машину у большого дома, где размещалась застава. Почему генерал выбрал именно эту заставу? Чем она хуже или лучше других?Небольшая комната почти вся занята громадным ящиком, поставленным на высокие ножки. В нем размещен искусно сделанный макет участка границы и подступов к ней: шоссейная и проселочная дороги, кладбище, одинокое дерево, кустарник, взорванные доты, инженерно-заградительное поле, контрольно-следовая полоса, дозорные тропы, канавы, овраги. Два пограничника по команде «смирно» стоят перед макетом. Оба в плащах, с оружием. Старший лейтенант Шорохов предельно скупыми, точными словами рисует обстановку на участке границы и торжественно отдает приказ на ее охрану. Пограничники внимательно, сосредоточенно слушают. Потом старший из них слово в слово повторяет приказ: как и куда они должны двигаться, с какими мерами предосторожности, что делать в случае обнаружения нарушителя, как опознавать поверяющих. И в его юношеском голосе ясно звучат гордые, торжественные интонации приказа старшего лейтенанта. Генерал стоит в затемненном углу комнаты и молча наблюдает за пограничниками. Много раз он был и на месте старшего лейтенанта Шорохова и на месте наряда. Тысячи раз он отдавал и слушал приказ об охране государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. И всякий раз, было ли это на сопках у озера Хасан или на берегу Тихого океана, на Днестре или Черноморье, — всюду и везде в такие моменты восторженно-взволнованное чувство наполняло его. Волновался он и теперь. Когда пограничники ушли, Кузьма Евдокимович медленно приблизился к старшему лейтенанту. — Вы всегда так отдаете приказ на охрану границы. — Всегда, товарищ генерал. — Старший лейтенант вопросительно взглянул на генерала: хорошо это или плохо, что он всегда именно так, как сегодня, отдает приказ? — Правильно делаете, товарищ Шорохов. Отдача приказа на охрану государственной границы — это не формальная церемония, не игра высокими словами, а один из самых рабочих и торжественных моментов пограничной службы. Командир в подобных случаях так должен говорить, чтобы его слова не только запомнились солдату, но даже и светились в его сердце. Тогда и вот эти овражки, и эти дороги, и это кривое дерево, и эта тропинка не забудутся ни завтра, ни через год, ни через двадцать лет. Генерал положил руку на ящик, закрыл глаза, и пальцы его начали осторожно ощупывать макет: углубление, возвышенность, дорогу, берег реки, леса, болота. — Я и вот так, с закрытыми глазами, могу пройти всюду, где охранял границу. Сотни километров. По берегу океана. По тайге. В горах. — Я вас понял, товарищ генерал. Благодарю. Кузьма Евдокимович быстро открыл глаза, взглянул на ладно скроенного, подтянутого офицера. Да, этот действительно все понял. Гребенник улыбнулся старшему лейтенанту и направился в другие комнаты. В ленинской комнате, в этом своеобразном маленьком клубе заставы, собрались свободные от службы пограничники. Одни читали газеты, журналы, книги, другие играли в шахматы, третьи разучивали новые песни. И при этом умудрялись друг другу не мешать. Пограничники вскочили, как только вошел генерал. Кузьма Евдокимович поздоровался, попросил солдат заниматься своими делами. Солдаты сели, но, конечно, уже никто не читал, не разучивал песен, ни играл в шахматы. — Ужинали, товарищи? — Ужинали, товарищ генерал! — откликнулись пограничники. — Хорошо. Значит, будем беседовать, не оглядываясь на часы. Как ваша фамилия? — спросил Кузьма Евдокимович, обращаясь к молодому солдату, сидящему с ним рядом. Тот бойко отчеканил: — Рядовой Шулехин. — Давно служите на этой заставе? Шулехин опустил глаза и тихо, словно был в чем-то виноват, произнес: — Недавно, товарищ генерал. — Год служите? Шулехин смотрел себе в ноги и медлил с ответом. Кузьма Евдокимович терпеливо ждал. — Меньше года, товарищ генерал, — делая над собой усилие, наконец произнес Шулехин. — Месяцев шесть? — Еще меньше. — Три? Никандр Шулехин быстро, с отчаянной решимостью, победив смущение, вскинул голову, прямо и смело встретил взгляд своего собеседника. — Никак нет, товарищ генерал. Рядовой Шулехин служит на этой заставе всего три дня. Пограничники засмеялись. Засмеялся и Кузьма Евдокимович. — Не может быть. Не верю. — Гребенник покачал головой. — Настоящего пограничника я за версту увижу. Шулехин обрадованно подтвердил слова генерала: — Я тоже не верю, товарищ генерал, что я всего три дня как служу на заставе. Если начну другим счетом считать свою службу, так лет этак пятнадцать, не меньше, наберу. — Это как же вы считаете? — Если засчитаю мое пограничное наследство, Мой старший брат Алексей служил на западной границе. Там и погиб. Другой брат, Аркадий, охранял границу в Карелии. Ранен. Третий брат, Павел, вернулся домой с забайкальской границы. Братья, бывая в отпуску, так много рассказывали о своей службе, что я еще с детства полюбил и западную и карельскую границы. Сейчас мне кажется, что я служил вместе с братьями. — Правильно подсчитываете свой срок пограничной службы, товарищ Шулехин. Очень правильно! О ваших братьях — замечательных советских пограничниках — я знал, а теперь и с вами познакомился… — А вы, товарищ генерал… — вдруг начал Никандр Шулехин и смущенно замолчал. Щеки его, слегка покрытые светлым пушком, густо покраснели. Генерал слегка наклонился к Шулехину, как бы ожидая вопроса. — Я хотел спросить, товарищ генерал, вы давно служите на границе? — Очень давно. Тридцать пять лет назад я впервые стал часовым границы на берегу Днестра. — На берегу Днестра? — неуверенно спросил кто-то. — Да. Почему удивились? Вы не знали или забыли, что наша граница с Румынией десять лет назад проходила по Днестру? И этой границы, где мы теперь несем с вами службу, тоже не было. И многих других не было. — Генерал медленным взглядом обвел солдат. — Тридцать пять лет назад граница была совсем другой. — Расскажите, товарищ генерал! — раздались дружные возгласы. — В Красную Армию я пошел добровольцем из Донбасса. Послали шахтеры. Мне тогда было всего восемнадцать лет. Но я уже работал, как мой отец, дед, дядья и тетки, и саночником, и коногоном, и вагонщиком. После разгрома Врангеля нашу Перекопскую имени Московского Совета дивизию перебросили на Днестр. Тогдашняя граница — голый, пустынный берег реки, местами проволочное заграждение в одну нитку — вот и все. Не было никаких инженерно-технических сооружений, никаких сигнализационных установок, никакой техники, ни собак. С соседними заставами мы разговаривали по телефонной линии из ржавой колючей проволоки. А как выглядел пограничник? Ботинок моего размера не нашлось в цейхгаузе, и мне пришлось надеть молдаванские постолы из сыромятной кожи. Обмундирование на мне было тоже не по росту: у гимнастерки — рукава до локтей, а шаровары узенькие, в обтяжку, чуть ниже колен. Но зато на моей голове красовалась новенькая шапка. Впрочем, это была не шапка. И не фуражка. И не шлем. Этот головной убор за то, что он имел козырек спереди и сзади, мы называли «здравствуй и прощай». Пограничники засмеялись. Когда затих смех, Кузьма Евдокимович продолжал: — Хоть мы и не очень красиво выглядели в ту пору, хоть получали голодный паек, хоть среди нас каждый пятый был неграмотный, хоть на одну винтовку и на одного солдата приходилось чуть ли не по километру границы, но все равно шпионов и контрабандистов мы не пропускали на свою сторону. Мы топили их в Днестре, истребляли на земле, брали живьем. Помню свой первый бой с нарушителями. Сижу в мокрых кустах. Ночь темная, с дождем — одну только воду Днестра и видно. Сижу час, два,три — ничего! На четвертом, в тишине и безлюдье, скучать стал. Потом даже в сон потянуло. И слышу вдруг какой-то всплеск. Я затаил дыхание, жду. Прошла минута, другая. Из мрака показалась большая лодка, а в ней вооруженные бандиты. Я подпустил ее как можно ближе к нашему берегу и после предупреждения нажал на спуск пулемета. Всех бандитов, до единого, уложил. С тех пор мне никогда не было скучно на границе. Генерал замолчал, задумался, глядя в темное, мокрое от дождя окно заставы. Молчали и пограничники. Они смотрели на Кузьму Евдокимовича, на его простое открытое лицо, на его грудь, на которой сияли три ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Кутузова, Золотая Звезда и знак депутата Верховного Совета СССР. На сотни километров тянется граница. Тысячи и тысячи людей живут и несут службу на ее заставах. По глубокому убеждению Кузьмы Евдокимовича, участок границы, где он находился сейчас, был тот самый, на котором в эту ночь и должен был он находиться. Это его убеждение основывалось на разведывательных данных, сообщениях и наблюдениях подчиненных командиров. На абсолютно точном чувстве границы. — Товарищи, кто из вас выходец из бедняков? — вдруг спросил генерал. Пограничники вопросительно, с недоумением смотрели друг на друга. Выходец из бедняков? Разве в колхозах есть бедняки? — А неграмотные есть среди вас? — продолжал генерал. Теперь они поняли своего генерала и засмеялись. — Кто из вас кончал десятилетку и семилетку, поднимите руки. Почти все присутствующие в комнате подняли руки. — Кто имеет гражданскую профессию? Опять поднялось множество рук. — Кем вы работали до службы? — спросил генерал, обращаясь к Шулехину. — Кончал курсы механиков. — А вы? — Токарем седьмого разряда. — Вы? — Трактористом. — Вы? — Шофером. — Вы? — Электромонтером на колхозной гидростанции. — Видите, — с гордостью проговорил генерал, — какая теперь армия пограничников: сплошные специалисты. Если мы в постолах на босу ногу, с одной винтовкой, малограмотными отстояли границу, то как же мы теперь должны ее защищать! Кузьма Евдокимович долго рассказывал солдатам, что собой представляет современная государственная граница, как велико значение ее, когда мир расколот на лагерь мира и лагерь войны, лагерь жизни и лагерь смерти. — Товарищ генерал, за что вы получили звание Героя Советского Союза? — спросил Никандр Шулехин. — За форсирование Одера в его устье, где он наиболее широк, и за участие в овладении городом Росток. Помните, где это? В Германии. На берегу Балтики. Там я и кончил войну. — А где вы ее начали? — На Курской дуге, — генерал медленно переводил свой взгляд с одного солдатского лица на другое. — Вам тогда было лет по двенадцать-тринадцать, когда я начал воевать на Курской дуге. Тянулась она на много километров, от Белгорода, огибая Курск, на Поныри, до Орла. Летом 1943 года Советская Армия нанесла гитлеровским войскам такой удар, что поставила их перед катастрофой. В этом историческом сражении участвовали лучшие армии нашего народа. Среди них была и армия, составленная из пограничников. Командиры дивизий, полков, батальонов, рот, взводов, солдаты — все пограничники. — Товарищ генерал, а какой из ваших орденов вы получили первым? — Орден Красного Знамени, — ответил генерал. — Вот этот. Получил я его в 1938 году из рук Михаила Ивановича Калинина. Кто из вас помнит о Хасане? Несколько пограничников подняли руки. — Так вот за то, что хасанские пограничники дали японским захватчикам сокрушительный отпор, — сказал Гребенник, — наше правительство наградило их боевыми орденами.
В дружеской беседе незаметно текло время. Тихо исчезали солдаты, кому надо было идти в наряд. Так же тихо появлялись те, кто вернулся с границы. Прошел час, другой, третий. Время приближалось к полуночи. Вдруг с шумом распахнулась двухстворчатая дверь, и на пороге вырос дежурный по заставе. — В ружье! — скомандовал он. Тревога на заставе! Кто бы ты ни был — генерал с тридцатипятилетним боевым опытом пограничной службы или молодой пограничник, — все равно твое сердце будет пронзено холодком тревоги при словах команды: «В ружье!» Комната в одно мгновение опустела. Дежурный шагнул к Гребеннику, приложил руку к козырьку: — Товарищ генерал, старший наряда… Гребенник кивнул в сторону Шорохова: — Докладывайте начальнику заставы. — Товарищ старший лейтенант, старший наряда Каблуков докладывает с границы: у сухого дуба обнаружен след нарушителя в нашу сторону. Каблуков пошел на преследование. — Товарищ генерал, разрешите действовать? — быстро спросил начальник заставы. — Какой давности след? — спросил Гребенник. — След свежий, товарищ генерал, — ответил дежурный. — Часовой давности. — Хорошо, — проговорил Гребенник. — Действуйте! И через три минуты одна группа пограничников и розыскные собаки пошли по следу нарушителя, другие группы спешили отрезать ему пути возможного выхода в лесной массив, в населенные пункты, к шоссейной и железной дорогам. Соседняя застава выбрасывала свои силы на левый фланг оперативной границы. Другой сосед блокировал правый фланг. Генерал с удовлетворением отметил, что на заставе все делалось в высшей степени быстро, умело, как того и требовала пограничная служба. Он сидел перед развернутой картой, у телефона и контролировал ход операции. Прошло еще несколько минут. По боевой тревоге уже были подняты соседние заставы, тыловые подразделения комендатур данного направления и отряда. Подвижные, хорошо вооруженные силы пограничников в короткое время сомкнули вокруг нарушителя непроходимое кольцо. Первоначальный периметр этой вновь образовавшейся оперативной границы был обусловлен данными, которые сообщил наряд, обнаруживший след нарушителя. Если бы след был замечен на час позже, то и периметр оперативной границы был бы вдвое больше. Разумеется, генерал это твердо знал. Создавая схему взаимодействия, Гребенник рассчитал, куда может в случае перехода границы добраться за один час или, скажем, за десять самый матерый нарушитель. Исходя из этих данных, он и создавал район для действий своих войск, причем, чтобы избежать случайностей, генерал составлял все варианты схем взаимодействия с запасом времени, то есть предполагалось, что нарушитель может пройти вдвое большее расстояние, чем обычный пешеход при самых благоприятных для него условиях. Минута шла за минутой. Генерал не снимал руки с телефона и не сводил взгляда с циферблата часов. С каждым поворотом секундной стрелки все туже и туже сжималась петля вокруг нарушителя. Кто он? Диверсант? Рядовой шпион или матерый резидент? Удастся ли захватить его живым? Кузьма Евдокимович живо себе представил, как нарушитель мечется по смертельному кругу, ищет выхода. Не найдя его, поняв, что наступил конец, он забрался на чердак какого-нибудь разрушенного дома или в стог соломы, или в дебри камышей и с маузером в руках, отчаявшийся, на все готовый, ждет приближения пограничников. Только бы взяли его живым! Стрелка часов накрыла ту заветную цифру, когда, по расчетам генерала и по данным многочисленных операций такого характера, должна была захлестнуться петля вокруг нарушителя. Генерал смотрел на телефон и ждал звонка. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Генерал нахмурился, снял трубку, потребовал к телефону начальника заставы. Тот доложил, что нарушитель до сих пор не обнаружен, что собака не берет след и приходится пускать ее по вероятным направлениям следования нарушителя. Генерал некоторое время молчал, потом очень тихо сказал: — Значит, ваш наряд обнаружил след не часовой, а по крайней мере трехчасовой давности? — Выходит так, товарищ генерал. — Значит, мы закинули петлю на пустое место? — Наверное, так, товарищ генерал. — Вы понимаете, что это значит?! — Да. Гребенник осторожно, словно боялся ее разбить, положил трубку. Несколько секунд он раздумывал над картой. Куда же успел уйти нарушитель? Кузьма Евдокимович взял карандаш, нанес на карту жирную черту. Вот сюда, за много километров от зелено-красных столбов должна переместиться оперативная граница. Да, к сожалению, уже так далеко. У лазутчика, перешедшего темной бурной ночью нашу государственную границу, одна тайная дорога. И сотни их, тысячи у пограничников, преследующих врага. Шпион идет с запада на восток, пробираясь по задам колхозных дворов, лесной чащей или, сбивая собак со следа, по руслу неглубокой речки. Пограничники же должны искать врага сразу в тысяче мест: в болоте, в лесу, в развалинах придорожного дома, в каменоломнях, в брошенных хижинах лесорубов, в стогах сена, в камышах, в населенных пунктах, на станциях железной дороги, в колхозной овчарне, в трубе кирпичного завода. Прошел час, другой, третий, наступил день, а нарушитель все еще не был задержан. Генерал вводил в действие все новые и новые подразделения. К оперативной границе блокированного района их уже подвозили на автомобилях, поездах. Контролировались подступы к лесам, входы в камышовые заросли, шоссейные и железные дороги, создавались ловушки там, где не ждал их самый изощренный шпион. Колхозники, жители местных селений помогали пограничникам искать врага. Истекло и светлое время дня, истекло, казалось, благоприятное для пограничников время. Наступал час, как будто благоприятный для врага. Кузьма Евдокимович, руководя операцией, ни на одно мгновение не забывал о жестокой угрозе поражения. Он хорошо знал численность своих войск, их прекрасную мобильность, их обученность, опыт, он полагался на их бдительность, на умение точно выполнять приказы командования. И все же он не преувеличивал своих возможностей. Вся ночь прошла в бесплодных поисках. И все же начальник войск был уверен, что нарушитель не мог прорвать блокады по всему периметру захлестнутой вокруг него петли, он где-то затаился, выжидает. Главное в борьбе с нарушителями государственной границы — не ждать, когда нарушитель сам выйдет, а искать его, искать днем и ночью. Всякий нарушитель, переходя границу, так или иначе тоже пытается создать для себя благоприятную обстановку. Он выбирает для своих преступных действий ночь, самую темную, ветреную, или туманную, или дождливую. Он иногда неделями наблюдает за границей с сопредельной стороны, изучает систему ее охраны, ищет сообщников. Чем искуснее, опытнее нарушитель, тем он тщательнее готовит условия для безнаказанного перехода границы. Но, несмотря на все ухищрения наших врагов, большинство из них, как только переступало границу, задерживалось пограничниками. Какими бы секретными приемами ни пользовался нарушитель, на каких бы сообщников не рассчитывал, все равно он обречен. Часом позже, ценой больших или малых усилий, но все равно враг будет обезврежен.
…Граница, где прошлой ночью прополз нарушитель. Солдаты, сержанты, офицеры стоят перед генералом Гребенником. Светлый день, на ясном небе ни тучки, слабый ветерок доносит с юга свежий, терпкий воздух гор. Лица пограничников напряжены, сумрачны. — В чем дело, товарищи? — спрашивает генерал, оглядываясь вокруг. — Почему невеселы? Понимаю, вы удивлены: как же это так, нарушителя мы обнаружили, преследовали, как положено, блокировали, тоже как положено, и поймали наконец. Одним словом — победители, а над нами суд вздумали учинить. Так, да? Генерал перестал улыбаться. — Известно, что судят и победителей. Я хочу сделать выводы из того, что случилось здесь ночью. Итак, начнем разбор. Генерал взглядом разыскал среди солдат ефрейтора Каблукова. — Осмотр контрольно-следовой полосы ваш наряд начал отсюда? — Так точно, товарищ генерал, — откликнулся белолицый пограничник с бесцветными, выгоревшими на солнце бровями и ресницами. — Вы шли по этой тропе, как старший наряда, впереди с фонарем, а ваш напарник шагах в трех позади. Так? — Точно, товарищ генерал. — Вы шли не торопясь, вот так… — Кузьма Евдокимович медленно пошел по дозорной тропе, следом за ним двинулись все пограничники. — Вы два года ходите вдоль этой контрольно-следовой полосы и еще ни разу не обнаруживали следы нарушителя. Вы думали, что и на этот раз ничего не обнаружите. И оттого, что вы так думали, действия ваши были, мягко говоря, формальными: ваш фонарь очень небрежно скользил по земле. Некоторое время генерал и сопровождающие его пограничники шли молча. Дозорная тропа, вытоптанная так, что на ней не осталось и травинки, бежала вдоль контрольно-следовой полосы, строго принимая все ее изгибы. Слева лежала давно не тронутая руками хлеборобов, буйно поросшая бурьяном земля пограничной зоны. — Вот здесь, — сказал генерал, останавливаясь, — на этом удобном мшистом бугорочке вы, товарищ Каблуков, решили отдохнуть. Погасив фонарь, вы сели. Вашему примеру последовал и рядовой Селезнев, молодой пограничник. Сколько вы сидели? Неизвестно, Может быть, тридцать минут, может быть, час, а может, и того больше? В разговорах время течет незаметно. Пока вы сидели, отводя душу в милой беседе, нарушитель благополучно проследовал под покровом ночи контрольно-следовую полосу. Вы поднялись и, не подозревая того, что граница уже нарушена справа от вас, пошли влево, не торопясь, вполне уверенные, что шпионы боятся вашего участка границы, как черт ладана, и не посмеют сунуться к вам. Дойдя до стыка, вы опять сели, опять побеседовали. Возвращались вы тоже вразвалку, с чистой совестью. Еще бы! По дозорной тропе шли согласно приказу? Шли. Контрольно-следовую полосу осматривали? Осматривали. Одним словом, службу исполняли по всей форме. Вот в этом, товарищи, и дело. Формальность — злейший враг пограничной службы. Где пограничник не выходит на охрану границы с острым чувством долга, там, следовательно, граница не на надежном замке. Для пограничника, товарищи, чувство времени имеет очень большое значение. Это мы можем видеть на горьком опыте ефрейтора Каблукова. Обладать чувством времени в наших условиях — это значит каждую минуту видеть, слышать, предвидеть, угадывать. Еще Суворов спрашивал у своих солдат: что дороже всего на войне? Жизнь? Золото? Победа? Нет, говорил великий полководец, на войне дороже всего время. Время, товарищ Каблуков, и подвело вас. Если бы вы сразу обнаружили след нарушителя, мы бы его поймали не позже как через час. Но, допустим, что вы обнаружили след через два-три часа. Стоило бы вам правильно доложить о давности следа — тоже было бы все в порядке. Но вы или побоялись сразу сказать правду, или не сумели определить давности следа — и сколько пришлось приложить усилий, чтобы схватить нарушителя!
Вот и отшумела наша с Юлией свадьба. Жаль, что ты не приехал. На славу погуляли хлопцы и девчата. И мы с Юлией не отсиживались в красном углу. Пели и плясали наравне с гостями. Были все родные и подруги Юлии. Был и райком комсомола в полном составе. Были пограничники и офицеры из отряда. Был генерал Гребенник Кузьма Евдокимович, командующий пограничными войсками округа. Представляешь? Много оказалось у нас с Юлией друзей. Молодожены истратили все свои сбережения. Жить теперь будем на те подарки, которые получили от гостей. Представляешь? Вот такие вышли у нас свадебные пироги. Слава богу, в тот день на границе не было тревоги, и мне не пришлось всю ночь гоняться за нарушителем. Итак, Сашка Смолин стал женатым человеком. Муж! Будущий отец семейства! Стаж семейной жизни у меня небольшой, но гордости хоть отбавляй. Подумай, такую дивчину отвоевал у местных парней! Юзефу! Как же не гордиться? Теперь я уже не чистый русак, родом из Большого Болдина, Наполовину щирый украинец. И навеки породнился с Юзефой, с ее землей, с ее лесами, с ее небом и горами. Так что придется мне учиться украинской мове. Три слова уже добре знаю: «Я кохаю тэбэ». Юлии нравится мой выговор. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Ну, что тебе еще написать, дружище? По правде говоря, я тебе не сказал самого главного. Стеснялся. Стыдно мне сейчас, брат. Своего счастья стыжусь. Раньше, свадьбы на меня, кажется, никто не обращал внимание. А теперь каждый солдат на заставе разглядывает старшину Смолина. Всем я сейчас бросаюсь в глаза. На мое глупом лице большущими буквами написано все, что переживаю. Ничего, брат, не могу скрыть. Вот и стыжусь. Все время щеки горят. Посылаю тебе ее фотографию. Снимались мы за неделю перед свадьбой. Ничего! Она и теперь такая. В точности. И через двадцать лет будет такой. Она прочитала мое письмо, засмеялась и вел написать в конце письма такие ее слова: «Нет ничего естественнее на свете, чем счастье любви». Видишь, к кой она у меня грамотей.
Доброе дело
На заставу пришла женщина. Черный платок на черных волосах. Черная юбка. Черная кофточка. И лицо черное от горя. Расплакалась перед часовым, просит: — Сыночек, я до вашей милости звертаюсь. Часовой — молодой солдат из Вологодчины — украинского не знал и не понял, о чем просит женщина. Догадался, что у нее какое-то горе, и сочувственно спросил: — В чем дело, бабушка? — Захиста благаю. На вас, сыночки, вся надия. — Что вам надо, бабушка? Вы знаете, куда пришли? — Знаю, сынок. Кто вас не знае! Добри вы людны. Капелюши носите зелени, а сердце у вас золотэ. Она сообразила, что солдат плохо понимает ее, и перешла, как она думала, на русский. — Я кажу, сынок, шо вас, пограничников, все, и малый и старый, знают. Хорошие вы люди. Справедливые. — Бабушка, зачем вы пришли? Кто вам нужен? — Сашко у вас служит. Хочу побачить его. — Какой Сашко? У нас четыре Александра. Как фамилия? — Не знаю, сынок. Белявый он. Сероглазый. И смеяся весь час. — Все у нас пригожие, все добрые и все смеяться умеют. — Сашко, той шо с собакой. Сашко-сыщик. — А, понятно! Смолин вам нужен? Александр Николаевич. Сейчас позову. Подождите, бабушка. Часовой соединился по телефону с дежурным по заставе, доложил. Через пять минут явился Смолин. С удивлением взглянул на незнакомую женщину, сдержанно поздоровался и ждал, что ему скажут. Женщина смотрела на пограничника с величайшей радостью, будто перед ней стоял родной сын. — День добрый, Сашко! К твоей милости, сынок, звертаюсь. Лицо Смолина залилось краской. Растерянно переглянулся с часовым и смущенно спросил: — В чем дело, гражданка? Что вы хотите? — Корову мою украли сегодня ночью. Злые люди. Пропаду без кормилицы. Найди, сынок. Пожалей. Всю жизнь богу молиться буду за тебя. — Вы не туда обратились. Надо в милицию. — Туда, сынок, туда, куда надо, звертаюсь. Вси люды знают, який ты добрый сыщик. Найди, Сашко, мою Белочку. — Да мы такими делами не занимаемся. Мы границу охраняем. И не воров ловим, а шпионов, диверсантов, вражеских лазутчиков. — Вот, вот!.. — обрадовалась женщина, будто Смолин подтверждал все, о чем она раньше говорила. — Правильно! Они и украли мою корову, эти самые… шпиены, диверсанты. Больше некому. Хто ж ще, як не воны, поднимут руку на бидолагу? Ты и границу, сынок, защищаешь, и таких людей, як я. Незаможна я. Та и стара. Чоловика нема. Сынив нема. Ничого не маю. Одною коровой держусь на билом свити. Найди, сынок, мою кормилицу и поилицу. Сделай доброе дело. И Смолин, всю свою пограничную жизнь, делавший добро, только добро, награжденный за добрые дела орденами и медалями, прославившийся добрыми подвигами, не мог отказать женщине. С разрешения начальника заставы он взял Аргона и отправился в село. Аргону еще не приходилось работать по следу животного. Но Смолин был уверен, что и на этот раз, в совершенно новых условиях, он не растеряется. Смолин был бы очень удивлен, если бы я сказал ему, что он приписывает собаке то, что по праву принадлежит ему. Не было у Аргона постоянной уверенности в своих силах. Она была у следопыта, и он передавал ее собаке. Чего хотел Смолин, того желал и Аргон. Собака бросалась туда, куда направлял ее человек. Она делала свои добрые дела, не понимая этого. Таково мое мнение. И я не навязываю его никому и прежде всего моему другу Смолину. Я знаю, как он почитает науку о собаках. Но я знаю и то, как он любит собак и как верит в их преданность человеку и в умение разбираться в хороших и плохих людях. Смолин привел Аргона в хлев, откуда увели корову, и сказал: — Нюхай! След! В команде следопыта, пробуждающей рефлекс обоняния собаки, был еще и тон, который трудно определить. Смолин, как мне кажется, еще и просил Аргона пожалеть старую женщину. Призывал быть молодцом. И собака все почувствовала. Она откликнулась и на прямую команду и на все, что было выражено интонацией Смолина. Аргон резко выдохнул из мощной груди поток воздуха и сейчас же втянул его обратно через ноздри. Еще выдох и вдох — и взял! Есть след! Из хлева, через двор, на улицу — и помчался вперед. Половина села устремилась за пограничником и собакой. — Хорошо, Аргон, хорошо! Смолин вслух говорил лишь то, что было привычно собаке. Про себя же он нахваливал ее куда щедрее. Ну и псина! Корова уведена ночью или на рассвете. С тех пор прошло часов двенадцать. Обычно след такой давности да еще в населенном пункте отказываются брать и самые хорошие розыскные собаки. И это естественно. Это надо хорошо понимать работающим с собаками. Многие инструкторы вот на этом и спотыкаются. Они требуют от питомцев того, чему не успели их научить, или того, на что у собаки нет задатков. Аргон бежит по каменистой улице так резво, так целеустремленно, будто у него под ногами не камень, на котором плохо держатся следы, а росная трава, хорошо сохраняющая запахи. Примчался к броду. Постоял немного на берегу, осмотрелся, шумно понюхал воздух и потащил Смолина в воду. На той стороне речки, на сыром песке ясно были видны глубокие отпечатки копыт коровы, но следов человека нет. Ну! Грабитель перебрался через брод на горбу коровы? Сошел на землю немного дальше? Да, так оно и есть! Метров через тридцать Смолин обнаружил следы. Сапоги сорок второго размера. Не солдатские. Подметки новые. Металлические пластины на носках и каблуках. Вор молодой и сильный. Слабосильные и старики ходят не так размашисто, энергично, с глубоким нажимом на носок. Аргон круто свернул с дороги и по старой стерне, зеленеющей отавой, потащил к лесу. Смолин уже был уверен, что воры не успели в одну ночь далеко угнать корову. Спрятали ее где-нибудь в лесу, чтобы потом забрать. Но Аргон не повел его в лес. Он еще раз свернул и спустился в неглубокий овраг. На дне его остановился, залаял и начал работать передними лапами. Смолин помог ему. Немного понадобилось усилий, чтобы найти шкуру забитой коровы. — Ну, все. Теперь грабители в наших руках. Пошли дальше, Аргон. Нюхай! След! По руслу оврага спустились к его устью, и тут на мягкой дороге Смолин увидел следы знакомых сапог и отпечатки колес пароконной тяжело нагруженной фурманки. Следы человека потянулись влево по дороге, а отпечатки лошадиных копыт и колес фурманки уходили вправо. Интересно! Добытчик пошел в одну сторону, а добыча уплыла в другую. Почему? Надо проверить, нет ли здесь какого-нибудь фокуса. Смолин направился вправо. Аргон очень неохотно побрел за ним. Шел и не понимал, куда и зачем идет. Вот-вот забастует и ринется назад. Опасно насиловать собаку, работающую по следу. Можно сбить с толку. — Что, не нравится дорога? — усмехнулся Смолин. — Не туда надо идти? Правильно, дружок! Я тоже так думаю. Не добыча нам нужна, а добытчик. Он вернулся к устью оврага, нашел следы сапог и поставил на них Аргона. Собака сразу побежала заинтересованно, азартно, весело. Минут через сорок, промчавшись изрядное расстояние, на виду у небольшого населенного пункта Аргон остановился и беспомощно завизжал. Дурной признак. — След, Аргон, след! — поощрил Смолин собаку. Не помогло. Скулит Аргон, туда-сюда мечется. След потерян. Куда же он делся? Не мог же вор улететь на небо. Приглядевшись внимательнее к твердой дороге, Смолин увидел на ней слабые, сравнительно свежие отпечатки лошадиных копыт и широких шин колес фурманки. Неужели та самая? Вернулась по другой дороге и подобрала вора? Да, на то похоже. Но почему она вернулась по другой дороге? И вообще, зачем надо было ей поворачивать вправо оттуда, от устья оврага? Надо было спрятать мясо? Смолин пошел по еле заметному следу. Там, где след пропадал, он целиком полагался на собаку. Аргон вывел следопыта в центр поселка, к воротам небольшого маслобойного заводика. Собака сделала все, что могла. Больше от нее нельзя требовать. Дальше будет действовать человек. Смолин вошел в кабинет директора, представился, рассказал, что именно привело его сюда, и попросил выяснить, кто сегодня ночью выезжал с территории завода на пароконной фурманке. Нехитрый клубок был распутан быстро. Вчера с вечера выезжал в лес за дровами Маркевич, завхоз завода. Помощником у него был Корчиш. Вернулись утром. С дровами? Да. Дрова выгружены на хозяйственном дворе. Выезжали в город еще Бурак и Холохоленко. Но эти вернулись ночью. Где они теперь? Кто отдыхает, кто работает. Смолин попросил вызвать всех этих людей. Эта просьба была выполнена. Директор действовал энергично. Он был заинтересован в выяснении истины. Правда, истина, по его глубокому убеждению, заключалась в том, что ни Маркевич с Корчишем, ни Бурак с Холохоленко не могли ни в коем случае украсть корову. Это сделал кто-то другой. Чужой. Не из числа рабочих и служащих завода. Своих людей директор знал преотлично. Нет среди них грабителей. Маркевич, Корчиш, Бурак и Холохоленко собрались на хозяйственном дворе, около конюшни. Выстроились в шеренгу, как в строю. Лица у всех одинаково хмурые. Все четверо молчат, курят. Обижены. Встревожены. Смолин подходил к ним медленно, давая возможность Аргону почуять, выбрать среди прочих посторонних запахов один, памятный ему. Как ни сложна была задача, но Аргон справился. Собака обнюхала Корчиша, Холохоленко, Бурака, а на Маркевича бросилась с лаем. Смолин натянул поводок и строго сказал: — Поднимите ногу, гражданин! Выше, еще выше. Да, все так. Те самые сапоги с кованными каблуками и носками. Но самая главная улика — штаны: на них свежие следы замытой крови. Директор был посрамлен. Разводил руками. Хватался за голову. Ахал и охал. Стыдил Маркевича. Возмущался.Грабитель, к удивлению Смолина, не стал отпираться. Не только сразу сознался, но и согласился немедленно купить другую корову или выплатить любую сумму, какую назовет старуха. Смолин сказал: — Не по моей это части, гражданин, как и чем вам расплачиваться за преступление. Такие дела решает суд. Я доставлю вас в милицию, и моя миссия на этом кончена. Пошли! Директор всполошился: — Зачем же идти, товарищ пограничник? Слава богу, набегались! Я вызову милицию по телефону. Через пять минут наш участковый будет здесь. — Не беспокойтесь. Я сдам грабителей участковому того села, где они совершили преступление. — До села идти еще дальше. Я дам вам подводу. Эй, хлопцы, запрягайте вороных! Смолин от лошадей не отказался. Действительно, набегался, проголодался. Поехали на той же фурманке, на которой ночью Маркевич и Корчиш везли коровью тушу. Грабители с кучером сидели впереди Смолин с Аргоном устроились позади. Все заводские, все жители поселка высыпали на улицу и угрюмо смотрели, как пограничник увозил работящего, некрикливого, не замеченного ранее ни в чем плохом, богомольного, всеми уважаемого завхоза Маркевича. Выехали в поле, под высокое осеннее небо, под еще теплое солнце, на раздолье ветров. Маркевич толкнул локтем своего дружка. — Давай, кум, любуйся белым светом, запасайся красой про черный день. Годик або полтора не увидим волюшки. Эх, и дурни мы с тобой, кум! — Ладно, после драки руками не размахивай. — Волюшку променяли на говядину! Олухи царя небесного. — Помолчи, кум, христа ради! Смолин имел громадное преимущество перед милицией, следователем, прокурором и судьей. Он видел преступника раньше их и не в таком состоянии, в каком тот обычно представал перед ними. Преступник, схваченный Смолиным, еще не освоился со своим новым положением, был, как правило, обескуражен, подавлен, не собрался с мыслями, невольно выдавал себя поведением, словами. Так было и теперь. Смолин смутно чувствовал, что «кумовья» виноваты не только в том, что украли корову. Еще что-то сделали они, быть может, страшнее. Противно было ему разговаривать с такими людьми, да и не полагалось, но все-таки не сдержался, спросил: — Слушайте, кумовья, почему вас соблазнила корова одинокой, бедной женщины? Не могли выбрать побогаче хозяина? Наивный вопрос пограничника насторожил дружков. И Смолин это сразу почувствовал. Лиц их он не видел. Преступники молчали. Недавно болтливые, они вдруг онемели. Слишком долго молчали. Растерянно. Выжидающе. — Ну, говоруны, что это вы дара речи лишились? Корчиш поглубже втянул голову в плечи. Маркевич сказал: — А что говорить? Нечего говорить. Язык от стыда втянуло в одно место. Срам и позор. Нет нам никакого оправдания. — Быстро перековались, граждане. Где было ваше сознание, когда на грабеж замахнулись? — Не знаю, не знаю, солдатик. Нечистая сила попутала. Если б мы знали, что зеленая фуражка будет искать пропажу, ни за что не соблазнились. — Зачем вам корова понадобилась? Украли бы курицу, гусака, овцу. Куда вам столько мяса? Целую заставу можно кормить. Опять замерли грабители. И это не укрылось от следопыта. Он понял, что взял верный след. И стремительно пошел по нему. — Куда вы пристроили мясо? Не отвечали. — Налево сплавили? — Ага, сплавили, — подхватил завхоз. — Куда? Кому? — А кто его знает, шо за люди? Были тут из города какие-то. — Значит, мяса у вас уже нет? — Ага. Продали. — Ну! Больше Смолин не задавал вопросов. И в милицию он не поехал. Привез задержанных на заставу. Оставил под охраной солдат, а сам пошел в канцелярию. Начальник заставы с интересом выслушал Смолина. Когда следопыт доложил обо всем, он подошел к макету своего участка границы и, глядя на него, задумался. — Так вы полагаете, старшина, говядина попала в схрон? — Я уверен в этом, товарищ капитан. Маслозаводский завхоз помогает бандеровцам запасаться продуктами на зиму. Мясо уже засолено. — Покажите, где зарыта шкура. Смолин провел ладонью по краю макета. — Вот здесь. До этого места Маркевич действовал в одиночку. В овраге его ждали. Там наверняка остались следы сообщников. Сразу, сгоряча, я не обратил на них внимания. Забивали корову и разделывали сообща, в шесть, а то и восемь рук. Наспех зарыли шкуру и спустились вот сюда, — Смолин перешел на другую сторону макета и показал крошечную проселочную дорогу. — Здесь их ждала фурманка. Бандеровцы погрузили добычу и повезли в лес, в свой схрон. Маркевич пошел домой пешком. Часа через два его подобрала фурманка. — Есть небольшая неувязка в ваших предположениях, — перебил начальник заставы Смолина. — Зачем завхозу надо было идти несколько километров пешком? Почему он не поехал сразу со своими дружками? — Никакой неувязки здесь нет, товарищ капитан. Завхоз уже все сделал. В схрон ему незачем было ехать. Или он не имел права знать, где находится убежище. Или побоялся сунуть туда нос. Риск все-таки. В общем, какая-то причина была. Корчиш доставил мясо по назначению. Бандеровцы выгрузили говядину и нагрузили фурманку дровами. Вот здесь, — Смолин показал место на макете, — Корчиш догнал своего помощника, посадил на фурманку, доставил домой. Так я предполагаю, товарищ капитан. Кое в чем, может, ошибаюсь, но за то, что мясо в схроне, головой ручаюсь. — Ваши предположения, старшина, очень убедительны. Я немедленно доложу в отряд.
«Как спасаться от пограничных собак»
Смолин и его товарищи медленно, не теряя друг друга из вида, готовые каждое мгновение привести в действие автоматы, гранаты и ручной пулемет, прочесывали лес. Длинной цепью, от опушки до опушки. Исследовали каждый метр земли. Под свежим курганчиком, насыпанным будто сусликом, могла быть отдушина схрона, тайного подземного убежища бандеровцев. Молоденькая, пушистая елочка может скрывать лаз, ведущий в бункер диверсантов. Не исключено, что сейчас, забившись в подземелье, бандеровцы слышат пограничников. Смолин шел в центре солдатской цепи, вдоль сырого, густо заросшего оврага. Он сам выбрал это место. В таких случаях или похожих начальник заставы целиком полагался на чутье следопыта. Почему он облюбовал именно это направление — кромку лесного оврага? Прежде всего потому, что хорошо знал повадки строителей схронов. Бандеровцы чаще всего рыли себе берлоги на высоких и сухих местах, чтобы их не беспокоили грунтовые воды. Оврагов они не боялись. Овраг прекрасно отсасывал грунтовые воды и сырость. Кроме того, в овраге, особенно лесистом, легче спрятать входной и выходной люки, дымоход, вентиляционный шурф. По овражному ручью можно почти вплотную, не боясь ищейки, подойти к лазу схрона. В овраге незаметны передвижения. Летом он полон спасительного сумрака, зимой завален снегом, непроходим. И не обязательно, чтобы такой овраг был у черта на куличках, вдали от дорог и населенных пунктов. Бандеровцы закладывали схроны даже вблизи сел, откуда были родом. В сорока или пятидесяти шагах от домов. В таких случаях дымоходы своих берлог выводили в трубы хат и не мерзли зимой. Но нередко схроны закладывались в самых неожиданных местах. Трудно их было найти еще и потому, что они были построены давно, в то время, когда в Западной Украине владычили гитлеровцы. Земля успела слежаться, заросла травой, бурьяном. Даже новые деревья выросли над схронами. И все-таки пограничники находили их. Уцелели лишь те, которыми по тем или иным причинам бандеровцы не пользовались. Застава шла лесом уже пятый час. Все устали. И начали сомневаться, что схрон может быть здесь в лесу, под боком у крупного населенного пункта, недалеко от автомобильной дороги. А Смолин продолжал верить и упорно искал. Где-то здесь тайник. Просто он хорошо замаскирован. Наверное, прошли мимо и не заметили. А должны были заметить. Ведь только вчера бандеровцы столько мяса втащили в свою берлогу. Непременно оставили след на земле, траве, в кустах. Бесследно такие дела не делаются. — Ну, на сегодня все, старшина! — сказал начальник заставы. — Скоро вечер. Пора домой. Завтра продолжим поиск. — Еще немного пройдем вперед, товарищ капитан. Самую малость. — Никуда не денется от нас схрон и завтра, если он есть. — Схрон, конечно, не уйдет, а вот квартиранты… — Не дураки бандеровцы, чтобы в такое время в норы забиваться. До первых хороших морозов на воле будут шастать. — Ну! Соглашаясь с начальником, Смолин все-таки шагал вперед. Капитан добродушно улыбался. Ему нравилась настойчивость следопыта. — Упрямый же ты, старшина! Поворачивай! — Слушаюсь, товарищ капитан! Назад пошли быстрее и уже не цепью, как раньше, а шеренгой. Теперь все весело разговаривали. Смолин шагал в ногу с заставой, не отставал, но по-прежнему разглядывал землю, траву, кустарник, деревья. Сейчас шел не по самой кромке оврага, а чуть правее. Его внимание привлекло огромное, в два обхвата сухое дерево. Остановился, пытливо осмотрел старую, умершую на корню сосну. Погибла давно. Сердцевина прогнила, осыпалась. У самого корня немалое дупло. Смолин просунул руку. Просторное. Без крыши и дна. Сквозное. Вполне может служить отдушиной или дымоходом. — Ну, что там, старшина? — спросил начальник заставы. — Пока ничего не ясно, товарищ капитан. — Давай выясняй быстрее. Ребята остановились и заинтересованно смотрели на Смолина. Он выломал длинную, тонкую ореховую палку и начал ощупывать ею дупло. Палка утонула в дупле метра на полтора и уперлась во что-то твердое. В корни? Но может быть, и в заслонку. Смолин послюнявил палец и опустил руку в дупло. Движения прохладной воздушной струи как будто нет. — Испытай огнем, — посоветовал капитан. Да. Огонь вернейшее средство. Смолин достал из кармана старую газету, скомкал, поджег и, подождав, пока разгорится, бросил в дупло. Повалил густой дым, потом вспыхнуло и потянуло вверх пламя. — Есть тяга, товарищ капитан! — радостно закричал Смолин. — Труба это, а не дупло. Где-то здесь схрон. Разрешите искать? Пограничники рассыпались во все стороны. Усталости как не бывало. Теперь, когда цель близка, каждый работал с удесятеренной энергией. Обшарили все кусты, осмотрели каждое молодое деревце, поднимали с корнем пласты увядших трав, заглядывали под каждый трухлявый пень, ощупывали каждый бугорок, каждую ямку. Деревянный люк, пятьдесят сантиметров на пятьдесят, обнаружили под молодой елочкой. Потянули ее кверху, и она пошла вместе с комом земли. Лаз замаскирован был отлично: дерн, утрамбованный перегной, ржавые листья. Смолин посветил фонариком в темное квадратное отверстие и увидел добротно раскрепленный колодец и небольшую, с редкими перекладинами лестницу. — Разрешите, товарищ капитан, обследовать? — Хочешь напороться на автоматную очередь! Отставить! Посылай на разведку собаку. Смолин побледнел — это было заметно даже в надвигавшихся сумерках. — Какой Аргон разведчик? Ничего не увидит в темноте, ничего не сможет рассказать. — А нам и не надо его рассказов. Через минуту все будет ясно. Пускай! — Жалко, товарищ капитан! Лучше я сам полезу. — А себя не жалко? — Я как-нибудь ухитрюсь, изловчусь, а собака… — Пускайте собаку, старшина! Аргон, вскинув голову, блестящими глазами смотрел то на следопыта, то на начальника заставы и внимательно прислушивался к разговору, словно все понимал. Смолин отстегнул поводок, зажал морду Аргона между ладонями, ткнул ее в темный лаз и чуть слышно, глухо и печально скомандовал: — Ищи! Оружие! Аппорт! Аргон бесстрашно ринулся вниз. Громадный, тяжелый, он тем не менее быстро достиг дна колодца и скрылся под землей. Пограничники оцепили местность метров на двести в окружности. Смолин стоял и смотрел в темноту лаза. Слушал. Ждал. То холодел, то наливался жаром. Надеялся на чудо. Был здесь и одновременно там, под землей. Влез в шкуру Аргона и мчался по длинной траншее. Пробежав метров сто, он вскочил в блиндаж, освещенный каганцем и набитый людьми. Увидев овчарку, бандеровцы схватили автоматы и открыли стрельбу. Простреленный дюжиной пуль, обливаясь кровью, он без единого стона упал на пороге… Смолин закрыл лицо руками и сел на землю. Оглох. Онемел. Ослеп. Ничего не соображал. Умирал вместе с Аргоном. Очнулся от того, что его трепали за плечо, кричали в ухо: — Поднимайся, Саша! Обошлось. Перед Смолиным стоял Аргон с немецким автоматом в зубах. Бросил оружие, радостно завизжал и снова нырнул в лаз.
 — Ну вот, все в порядке, — сказал капитан, — Никого там нет. Резервный схрон. Я так и думал. Теперь и мы посмотрим, что это за штука — берлога бандеровцев.
Аргон показался еще с одним автоматом в зубах. Смолин привязал собаку к дереву и вслед за капитаном спустился в сухой колодец. На двухметровой глубине был ход вправо. Он был раскреплен на шахтерский манер: две деревянные стойки и перекладина. Боковины заделаны тонкими жердями. Абсолютно сухо. Смолин и Булавин шагали по зигзагообразной щели, ведущей к схрону, почти не разгибаясь. И с пулеметом тут можно свободно пройти.
Если бы схрон был обитаем, то пограничники обязательно столкнулись бы с боевым охранением и встретили ожесточенное сопротивление. Тем временем основные силы подземного гарнизона ушли бы через запасные выходы.
Траншея кончилась. Несколько дощатых ступеней вели вниз. Смолин и Булавин спустились и оказались в довольно просторной комнате. Сруб свежий, местами еще сочится медовой желтизной. Потолок тоже бревенчатый и, видимо, не в один, а в два наката. Вдоль стены выстроились дубовые бочки со смальцем, крупой, сухарями, соленым салом. В одном углу, прикрытый круглой крышкой, неглубокий колодец с питьевой водой. В другом — нише за дверью — умывальник и уборная. Нары двухэтажные, из толстых жердей, покрыты слоем сухой травы. На них может спать человек пятнадцать. Под потолком на подставке масляный каганец.
Два запасных хода уводят в сильно наклонные траншеи.
Патронные цинки занимают все пространство под нижними нарами. Автоматы и карабины, хорошо смазанные, уложены в длинный черный ящик. В корыте, выдолбленном из дерева, полным-полно гранат. Запалы, обернутые в вощеную бумагу, обложенные кудельками льна, конопли, тряпками, хранились отдельно.
В стенном шкафчике — индивидуальные пакеты, медикаменты немецкого производства.
Свежее говяжье мясо разрублено на куски, уложено в бочку и засыпано солью. Вот она, бабкина корова.
Книг, кроме библии, не было. Среди топографских карт данной местности Смолин нашел любопытный документ. Тут же, при свете каганца, стал читать его. Читал и громко смеялся.
Начальник заставы удивленно посмотрел на него.
— В чем дело, старшина? Почему развеселились?
— Нашел интересную бандеровскую инструкцию. «Как спасаться от пограничных собак». Посмотрите!
Капитан прочитал и тоже засмеялся.
— Прекрасная инструкция, но мы с вами, старшина, что-то еще не встречали нарушителя, которому бы она помогла!
— Ну вот, все в порядке, — сказал капитан, — Никого там нет. Резервный схрон. Я так и думал. Теперь и мы посмотрим, что это за штука — берлога бандеровцев.
Аргон показался еще с одним автоматом в зубах. Смолин привязал собаку к дереву и вслед за капитаном спустился в сухой колодец. На двухметровой глубине был ход вправо. Он был раскреплен на шахтерский манер: две деревянные стойки и перекладина. Боковины заделаны тонкими жердями. Абсолютно сухо. Смолин и Булавин шагали по зигзагообразной щели, ведущей к схрону, почти не разгибаясь. И с пулеметом тут можно свободно пройти.
Если бы схрон был обитаем, то пограничники обязательно столкнулись бы с боевым охранением и встретили ожесточенное сопротивление. Тем временем основные силы подземного гарнизона ушли бы через запасные выходы.
Траншея кончилась. Несколько дощатых ступеней вели вниз. Смолин и Булавин спустились и оказались в довольно просторной комнате. Сруб свежий, местами еще сочится медовой желтизной. Потолок тоже бревенчатый и, видимо, не в один, а в два наката. Вдоль стены выстроились дубовые бочки со смальцем, крупой, сухарями, соленым салом. В одном углу, прикрытый круглой крышкой, неглубокий колодец с питьевой водой. В другом — нише за дверью — умывальник и уборная. Нары двухэтажные, из толстых жердей, покрыты слоем сухой травы. На них может спать человек пятнадцать. Под потолком на подставке масляный каганец.
Два запасных хода уводят в сильно наклонные траншеи.
Патронные цинки занимают все пространство под нижними нарами. Автоматы и карабины, хорошо смазанные, уложены в длинный черный ящик. В корыте, выдолбленном из дерева, полным-полно гранат. Запалы, обернутые в вощеную бумагу, обложенные кудельками льна, конопли, тряпками, хранились отдельно.
В стенном шкафчике — индивидуальные пакеты, медикаменты немецкого производства.
Свежее говяжье мясо разрублено на куски, уложено в бочку и засыпано солью. Вот она, бабкина корова.
Книг, кроме библии, не было. Среди топографских карт данной местности Смолин нашел любопытный документ. Тут же, при свете каганца, стал читать его. Читал и громко смеялся.
Начальник заставы удивленно посмотрел на него.
— В чем дело, старшина? Почему развеселились?
— Нашел интересную бандеровскую инструкцию. «Как спасаться от пограничных собак». Посмотрите!
Капитан прочитал и тоже засмеялся.
— Прекрасная инструкция, но мы с вами, старшина, что-то еще не встречали нарушителя, которому бы она помогла!
Ну вот, брат, перебрался к Юлии. И, знаешь, не жалуюсь. Оказывается, и женатому можно жить припеваючи. Ни перина, ни пышки с медом и всякое такое ничуть не повредили Сашке Смолину. В общем, зря я боялся переходить в разряд женатых. Справляюсь с новой ролью не хуже других. Моя Юлия, как я ожидал, во всю развернула свой волевой командирский талант. Командует мною с утра до утра: «Проснись, Саша, тревога на заставе», «Не кури натощак», «Открой окно!», «Сними ты эту гимнастерку, надень новую!», «Почисть сапоги!», «Прочитай эту книгу, очень интересная!», «Пойдем в кино!», «Побрейся!», «Послушай новенькую пластинку!», «Смени белье!», «Пора тебе подстричься, Саша!» Приказы, приказы, одни приказы. И каждый сдобрен ласковым взглядом и веселым смехом. Скажи, как можно не подчиниться такому командиру? Если бы знали солдаты на заставе, как она вертит мною туда-сюда! Ничего, пусть себе вертит. Мне это нравится. Ты заметил перемену в моих письмах к тебе? Да, да. Это она, Юлия, редактирует их. Вымарывает все колючие и хвастливые слова. Точки и запятые расставляет на свои места. И тут, видишь, не позволяет мужу своевольничать. Вот какую жену себе приобрел Сашка Смолин! Поживу я с ней лет десять— академическое образование получу. Да, я забыл тебе сказать. Несмотря на свою новую большую семейную нагрузку, она от всех старых не думает отказываться. И от прежних девичьих привычек — тоже. Бегает как угорелая. Верховодит в райкоме комсомола. Выступает с докладами. Агитирует. Заседает. Представительствует. Вот как здорово повезло мне на жену. Женись, брат, поскорее — две жизни проживешь.
Схрон
В устье сырого лесистого оврага вспыхнул бой с нарушителями. Он продолжался долго: диверсанты были вооружены ручным пулеметом и не жалели патронов. Заняв круговую оборону, они не подпускали к себе пограничников. Перед рассветом стрельба затихла. Перестали стрелять и пограничники. Ждали. Стояла холодная чуткая тишина, обычная для предрассветного леса. Силуэты деревьев четко вырисовывались на фоне посветлевшего неба. Майор Стекляшкин сквозь мокрые ветви кустарника смотрел в сторону оврага. — Ушли? Или затаились? Как ты думаешь, Саша? Смолин со своим Аргоном лежал рядом с командиром тревожной группы. — Думаю, удрали. — А я думаю, затаились. Ждут, пока мы встанем, и бабахнут. — Может быть и так, — сказал Смолин. — Разрешите проверить, товарищ майор? Он снял уже не раз прострелянную фуражку, повесил на ствол автомата, приподнял над собой. Выстрела не последовало. Из горловины оврага разрозненными потоками стекал туман. Кусты орешника казались обугленными. Под ними Смолин и увидел распластанные фигуры людей. — Лежат, товарищ майор! — Где? — На правом склоне оврага, метров десять дальше середины. Видите? — Ага, вижу. Дай очередь подлиннее. Смолин выпустил сразу пуль пятнадцать. Ему не ответили. — Кажется, отвоевались молодчики. — И Смолин хотел приподняться. — Постой! Проверить надо. Пошли вперед Аргона. — Не надо, товарищ майор. Я сам. — Зачем рисковать? Пошли собаку. — Не беспокойтесь. Не встанут. Навечно улеглись. — Пошли собаку! — приказал Стекляшкин. Смолин медлил. Рука его непроизвольно легла на холку овчарки, словно собиралась удержать от необдуманного рывка. — Ты что, Саша, не понял меня? — Понял, товарищ майор. — И немного помолчав, произнес слова, которые уже не раз, при других обстоятельствах, неоднократно говорил: — Эта собака, товарищ майор, для границы дороже моей жизни. — Собака есть собака. Пускай! — Я прошу вас, товарищ майор… Стекляшкин был умным человеком и бывалым офицером: не позволил начальническому самолюбию овладеть собой. Внимательно посмотрел на следопыта и спросил: — Если уверен, что молодчики отвоевались, чего же ты боишься пускать Аргона? Смолин молча вскочил и молча побежал к оврагу. На ходу отстегнул поводок и послал Аргона вперед. Майор покачал головой, но тут же последовал за следопытом. Никогда и нигде он не лез на рожон. Воевал хладнокровно, трезво, расчетливо, с оглядкой, берег своих солдат и себя, старался победить врага бескровно или, на крайний случай, малой кровью. Но сколько в его фронтовой и пограничной жизни создавалось острых ситуаций, когда надо было проявить стремительную дерзость, опередить противника, встать на его пути, встретить, что называется, грудью. Его солдатская молодость, первые тяжелые бои на границе в июне 1941 года были до предела насыщены именно такого рода жизненно необходимой храбростью. Вот почему он был всей душой на стороне гордого, уверенного в своей силе следопыта. В овраге хранили молчание. Подбежав к орешнику, майор и Смолин увидели на косогоре двух недвижимых мужиков в ватниках и болотных сапогах. Автоматы с еще не остывшими стволами валялись рядом. В подсумках патроны и гранаты. В карманах маузеры и пачки денег. Майор посмотрел на лица убитых и, круто повернувшись к Смолину, сказал: — Смертники! Перехитрили нас, гады. Пока эти отстреливались, главари оторвались от нас. Ты был прав, Саша: надо было торопиться. Ставь собаку на след. Побежали вверх по оврагу. Выскочили в поле. Здесь было уже светло. Край неба розовел. В густой пшенице перекликались перепела. Твердая лента дороги, лежащая в дозревающих хлебах, лоснилась от ночной влаги. Миновали поле и лес, полный птичьего гомона, пахнущий прелым листом и грибами. Аргон мчался не останавливаясь. Еще одно поле, еще один лес — и сквозь редкие деревья показалось село. Старый ветряк с одним крылом на окраине и белая церковь на бугре, над речкой, заросшей камышом. Неужели Махиня? Это ведь в пятнадцати километрах от границы. И не заметили! Аргон привел пограничников к дому с красной черепичной крышей, с белыми кружевными занавесками на чистых окнах. Взбежал на высокое резное крылечко, слегка поцарапал дверь когтями и, обернувшись, посмотрел на Смолина своими выразительными глазами: помоги, мол, открыть, тут наши с тобой враги. Дверь распахнулась почти в тот момент, когда Аргон коснулся ее. «Ждали нас», — подумал Смолин и слегка нажал на спусковой крючок своего автомата. Но стрелять не пришлось. На пороге стояла высокая, грузноватая, лет пятидесяти, в темном платье женщина. От нее пахло не то ладаном, не то свечным угаром. Лицо было властно-суровым, бледным, как у монахини, годами не знавшей свежего воздуха. Приметное лицо. Увидев его даже мельком, не забудешь. Темные глаза смотрели непримиримо враждебно, но губы улыбались, вернее, изображали улыбку. И слова были приветливыми. — Добрый ранок, товарищи! — сказала она ласково и поспешно посторонилась. — Заходьте, будь ласка. Ранний гость, кажуть, це добрэ. Смолин не удивился бы, если бы Аргон бросился на женщину, которая могла оказаться переодетой монахиней, настоятельницей какого-нибудь монастыря или вожаков тайных сектантов. Нет, собака рвалась вперед. Смолин не пускал ее. Сейчас спешить опасно. Возможно, диверсанты затаились в доме и встретят пограничников огнем. Не исключено, что они прячутся где-нибудь в другом месте. Или ушли через конюшню. Он сдержанно поздоровался и сказал в тон хозяйке — радушно и приветливо. — Извиняйте, бабушка, что побеспокоим вас. — Яка я бабушка? — засмеялась женщина. — Я недавно замуж вышла. Сидела-сидела в старых девах и надумала… Господи, та чего ж вы стоите у порога? Заходьте, будь ласка, в хату. Вы, мабуть, голодные. Я вам зараз сниданок сготую. — Спасибо, хозяюшка, не турбуйтэсь! В другой раз. Аргон рвался в дом. Смолин натянул поводок и взглянул на майора. Тот незаметно кивнул: продолжай, мол, действуешь правильно. — Значит, недавно свадьбу сыграли? — спросил Смолин. Он смотрел на дородную хозяйку невинными глазами. — Сыграли! — смущенно, натурально зардевшись, ответила «молодая». — Все как у людей було. — Муж дома? — Нема. Пишов провожать ваших хлопцев. — Кого? — спросил майор, предчувствуя недоброе. Опять, кажется, обвели вокруг пальца. — Булы тут ваши помощники. Дружинники. Ловят воны кого-то. Зашли, выпили молочка и побежали своей дорогой. Просили передать вам, шо лесом пойдут. — Сколько их было, дружинников? — Двое. Бравые такие, молодые. С автоматами. — И куда направились? — Вон туда, в лес. — И ваш муж пошел провожать их? — Ага. Я ж сказала. Смолин и майор переглянулись. — В дом входили? — А як же! Поели, попили и ушли. — Где они сидели? — Там, в горнице. — Покажите. — А шо у вас сталося, пан… товарищ офицер? — Покажите, где сидели эти… дружинники? Хозяйка пошла в дом. Вслед за нею майор. Смолин с автоматом наготове шагал позади командира. — Вот тут они снидали, — показала хозяйка на стол с еще не убранной посудой и караваем хлеба. — Один дружинник на цьому стули, а другый — на цьому. Товарищ майор, будь ласка, скажить, що сталося? — Это были не дружинники, а нарушители. Куда они вышли? — Вот сюда… — Давай, Саша, проверяй! Аргон взял след и пошел в конюшню и дальше во двор. Смолин привык полагаться на своего друга, но сейчас слегка придерживал собаку. Верил и не верил хозяйке. Никогда он, несмотря на свою профессию, не относился подозрительно к пограничным жителям, был с ними в наилучших отношениях. Но эту женщину в крестьянском платье почему-то сразу отделил от добрых людей. Ее постное, хитрое лицо, вкрадчивые движения, затаенная настороженность не понравились ему. И в словах ее не чувствовалось правды. Темнит. Поводок был натянут как струна. Аргон всегда легко и охотно поддавался управлению и сам, когда надо было, направлял действия следопыта. Теперь же они утратили связь и были чем-то разъединены. Аргон рвался со двора, а Смолину хотелось остаться здесь, осмотреть сарай, погреб, сеновал, чердак. Аргон так натянул ошейник, что захрипел от сдавленного дыхания. Смолину стало стыдно и больно. Он дал собаке волю. Тяжело дыша, высунув язык, она пробежала по двору вдоль дома, выскочила на улицу и устремилась к лесу. Вывела на проселок и вдруг заметалась, засуетилась, заскулила. — Все. Пропал след, — сказал Смолин. — Нарушители сели на машину или подводу. Видите, вот отпечатки шин и колес. Смолин погладил Аргона по голове и скомандовал: — След! Ищи! Аргон помчался вдоль дороги. Обычно он не позволял себе унижаться и нюхать землю, как делают многие собаки, но теперь держал голову низко и обнюхивал обочину. Пробежал метров триста. Не нашел! Галопом вернулся обратно и стал изучать другую обочину дороги. Смолин стоял и ждал. Аргон вернулся ни с чем. Сел и заскулил. Смолин молча погладил собаку, приказал сидеть, а сам начал изучать следы автомобильных шин, колес телеги и велосипеда. Майор помогал ему. Оба размышляли вслух. — Товарищ майор оказывается, машина здесь прошла без остановки. Если бы шофер притормозил, след шин был бы не таким… И подвода не останавливалась. Правда, и на ходу можно сесть. Но если они вскочили на бричку, то должны были вот в этом месте оставить следы. Их нет. Значит, они воспользовались… — Ты думаешь, они сели на велосипед и поехали по дороге? — Да, товарищ майор, похоже на то. Посмотрите на след, какой он широкий. Покрышки и камера перегружены, просели. — Ты прав, Саша. Удрали. Смолину вовсе не хотелось быть правым. Смотрел на Аргона и надеялся, что тот докажет его неправоту. — Да, проехали двое. А как же муж хозяйки? — Муж святоши отдал нарушителям свой велосипед и вернулся домой пешком. — Почему же мы его не встретили? — Другой дорогой пошел. Или прячется в лесу, ждет, пока мы уйдем. Они оглянулись на лес, как бы раздумывая, стоит ли обыскивать. — Ну что ж, — сказал майор, — пойдем по велосипедному следу. — Ну! Смолин жестом позвал собаку и пошел по обочине, не отрывая взгляда от дороги. Майор шел сзади. Солдаты рассыпались по флангам. Шагали молча, сосредоточенные, злые, голодные, уставшие, упрямые. — Саша, как ты думаешь, почему они соблазнились велосипедом? — спросил майор. — Самый тихоходный транспорт. Без дороги не проедешь. У всех на виду. Приметный. В лесу и в поле бесполезный. Странно! — Утопающий хватается за соломинку. Они видели, что мы их преследуем. Им надо сбить Аргона со следа хотя бы ненадолго. Аргон бежал впереди всех. Он еще хорошо помнил запах следа и настойчиво искал его. — Нашел! — радостно закричал Смолин и бросился к собаке. Нарушители соскочили с велосипеда — отпечатки их ног отчетливо видны на пыльной дороге. Остались и следы третьего человека. Он подошел со стороны леса, вскочил на велосипед и уехал. Метров через двести он свернул с проселка на тропу, ведущую назад, к его деревне. Туда же, в деревню направились и нарушители. Аргон взял след на обочине и круто под прямым углом повернул вправо, к деревне. Смолин с трудом догнал его, защелкнул на ошейнике карабин поводка. Нельзя его пускать одного. Собака вывела пограничников к западной окраине села Махиня. Час тому назад пограничники были на восточной. Теперь однокрылая мельница удалилась от них, а белая церковь на бугорке приблизилась. Невысокая гребля и узкая полоска воды отделяла их от села. — Видали, товарищ майор! Ну и хитрюги! Напетляли и вернулись. Я чувствовал, что они там. Дурак, не поверил себе. Не хотелось уходить со двора этой ведьмы, ох, как не хотелось! Смолин смотрел на Стекляшкина сияющими глазами. — С такими ловкачами мне еще не приходилось сталкиваться. Здорово сработали. — Мы тоже не лыком шиты. Аргон через мост, мимо церкви, не обращая никакого внимания на встречных людей, пробежал всю деревню и вывел пограничников к знакомому дому с бурой черепичной крышей и шестью окнами, Но теперь он приблизился к нему задами: через огород, садик и приусадебный ток. — Здесь они, товарищ майор, здесь! Чует мое сердце. Теперь не проведут. — Скажем «гоп», как перескочим. На крылечке они увидели ту самую женщину. Она стремительно спустилась по ступенькам. — Вернулись, товарищи! Забулы у нас шо-небудь? Чи передохнуть захотели? Аргон прошмыгнул мимо хозяйки. И Смолин не взглянул на нее. Мимо. Некогда. Следопыт дал волю своему другу и бежал за ним. Они уже восстановили утраченные связи, полностью доверяли друг другу. Аргон наискосок пробежал через двор и остановился около колодца. Упираясь лапами в бревенчатый замшелый сруб, тяжело дыша, высунув красный язык, ткнулся в сырую бадейку и облизал ее. Смолин удивился. В чем дело? Хочет пить? Обыкновенно Аргон, прорабатывая след, был очень терпеливым. Утолял жажду после того, как завершал победой свое преследование. Очевидно, сегодня ему досталось больше, чем всегда. Выбился из сил. Надо напоить собаку. Смолин взялся за колодезный ворот, но его остановила женщина. Подошла и, смеясь, вырвала ворот, всплеснула руками. — Шо ты робишь, солдат? На шо тебе вода? У нас есть молочко. Холодное, Густое. С вершком. Пойдем, от пуза угощу. — Собака воды хочет. — И собаку молочком напою. Слава богу свое, не базарное. Две коровы маемо. Пойдем! Обняла Смолина и потащила к погребу. Аргон не хотел уходить от колодца. И Смолин упирался. — Спасибо, гражданка. Нам некогда угощаться. Работаем. Пустите! Пустите, я вам говорю! Но женщина его не отпускала. Лицо ее, как и платье, было побито крапинками. Белое на черном. — Руки! — повысив голос, сурово потребовал Смолин. Она медленно, неохотно отпустила солдата. Майор неожиданно заулыбался. — Не волнуйся, Саша! Гражданка тебе добра хочет, а ты… Тащите свое молочко, мамаша. Женщина, просияв лицом, убежала в погреб. Майор задумчиво посмотрел ей вслед и сказал вполголоса: — Ну, совсем как птица. Ты, кажется, охотник, Саша? — Да. А что? — Тебе приходилось видеть, как перепелка, поднятая с гнезда, притворяется подбитой, как беспомощно ковыляет по меже и все дальше и дальше уводит собаку и охотника от своих птенцов. — Майор вздохнул. — Бедная мать! Все сделала, чтобы спасти мужа и сыновей. Поздно спохватилась! Надо было раньше позаботиться об их судьбе. Они здесь, Саша! Придется выковыривать. Хозяйка выбежала из погреба с двумя запотевшими кувшинами. Ледяным молоком полакомились солдаты, старшина, майор. И Аргону досталось. Смолин вытер губы, поблагодарил хозяйку, посадил Аргона в тень и приложил ребро ладони к фуражке: — Разрешите, товарищ майор, приступить? — Да, приступайте. Женщина, сжимая белую полную шею смуглой рукой, с ужасом смотрела, как пограничники шли к колодцу, как наклонились над бадейкой и стали ее изучать. — На дне грязь, товарищ майор, — сказал Смолин. — Забыли или некогда было им ополоснуть бадью, смыть следы. — У нас колодец мелкий. Пересох. Вода ушла, — запричитала женщина. Она вклинилась между майором и старшиной, растолкала их. Самообладание, так долго и верно служившее ей, покинуло ее. По сигналу командира солдаты оттащили ее от колодца, увели в дом. Майор Стекляшкин достал блокнот, вырвал несколько страниц, поджег и бросил в колодец. Черное круглое зеркало воды отразило четыре маленьких факела. Горящие клочки медленно опускались в глубину, освещая темную каменную кладку. Пролетев метров семь-восемь, до средины колодца, листочки заколебались на месте, и огонь и дым потянуло не кверху, а куда-то вбок. — Все ясно, — сказал майор. — В колодце вход в схрон. Давай, Саша, пуляй из ракетницы, пусть выходят. Смолин послал вниз одну за другой три сигнальных ракеты. Колодец до краев наполнился смрадным дымом. Послышался крик: — Опустите бадью, мы вылезем. Опустили. По одному подняли наверх. Насквозь продрогшие, не попадая зуб на зуб, с зажмуренными глазами, воздев руки к ясному небу, похожие друг на друга, стояли мужики во дворе, залитом утренним солнцем. — Ложись! — приказал Смолин. — Лицом вниз. Таки лежать. Разрешите, товарищ майор, обыскать схрон?
Снял фуражку, опустил ноги в бадью, крепко схватился за веревку и улыбнулся солдатам, держащим колодезный ворот.
— Давай, ребята, крути.
Осторожно спустили его вниз до бокового входа. Минут через десять он просигналил.
— Поднимай!
Бадья была полна патронов, гранат, автоматов. Разгрузили и снова послали вниз.
Вторая бадья притащила небольшой печатный станок и несколько пачек подпольных листовок. Третья подняла Смолина. Он выпрыгнул на землю, засмеялся.
— Ну и холодно там. Бррр!
— Ложись! — приказал Смолин. — Лицом вниз. Таки лежать. Разрешите, товарищ майор, обыскать схрон?
Снял фуражку, опустил ноги в бадью, крепко схватился за веревку и улыбнулся солдатам, держащим колодезный ворот.
— Давай, ребята, крути.
Осторожно спустили его вниз до бокового входа. Минут через десять он просигналил.
— Поднимай!
Бадья была полна патронов, гранат, автоматов. Разгрузили и снова послали вниз.
Вторая бадья притащила небольшой печатный станок и несколько пачек подпольных листовок. Третья подняла Смолина. Он выпрыгнул на землю, засмеялся.
— Ну и холодно там. Бррр!
Мгновение
Бедный Аргон! Скоро сутки, как он бежит и бежит. Отмахал без отдыха около ста километров по лесным чащобам. Утолял жажду на бегу. Ничего не ел. И накормить нечем: нет запасов. Никто не думал, что след нарушителей уведет так далеко. Собака до того отощала, что ребра выступили. Вот-вот откажется идти дальше. Да и следопыт Смолин и его напарники выбились из сил. Голодные, мокрые с ног до головы, они еле держались на ногах. Несколько часов уверенно шли по следу диверсантов, прорвавшихся через границу, вот-вот, казалось, схватят их, но… следы исчезли. Как ни бились, как ни мудрили, ни гадали — не нашли. На этот раз и всемогущий Аргон был бессилен. С трудом выяснили, что беглецов подхватила какая-то машина и увезла в глухие леса Полесья. Делать было нечего: ринулись за ними. По дороге остановили попутный грузовик, доехали до лесничества и там узнали, что нарушители были здесь недавно. Закусывали, пили чай под видом охотников и отправились в болота. Три узкие тропки прорезали болота с юга на север. Каждую исследовали и не обнаружили никаких отпечатков. Жидкая плывучая грязь, мочежник и вода не сохраняют следов. Пришлось идти наугад. И снова потеряли след. Что делать? Дороги назад нет. Двинулись вперед. Решили прочесывать лес, контролировать проселки, заходить в каждый населенный пункт. А населенных пунктов в болотно-лесном районе Полесья — раз-два и все. Пять часов пробивались пограничники к деревне Рудня. Пришли и увидели только кучи пепла, поросшие бурьяном, сиротливо торчавшие печные трубы. Давно, еще в годы войны погибла Рудня. И не воскресла. Двинулись дальше. Искали лесничество, кордон, какой-нибудь хутор, сторожку углежога или пасечника. Любому жилью были бы рады. Под вечер увидели на сухом возвышении бревенчатый, крытый драницей дом. Из трубы валил веселый пахучий дым. Пограничники, еле волочившие ноги, оживились, забалагурили: — Видал, старшина! Хозяйка давно ждет нас. Печь вытопила. Барабулю сварила. Молоко вскипятила. Соломы на полу постелила. — Поедим, попьем, отдохнем, поблагодарим хозяюшку и дальше потопаем. Так, старшина? — Не так, не так все будет. Не угадали. Старшина прикажет переночевать в избушке на курьих ножках. Смолин, чтоб отбиться от веселых наскоков ребят, сказал: — Мне бы только Аргона покормить, а вы… вы еще сутки без пищи и сна обойдетесь. Таковские черти. Огородами, со стороны леса подошли к дому. Солдаты, как подкошенные, упали на пахучий стожок лугового сена и застонали от блаженства. — Давай, старшина, проявляй заботу о личном составе вверенного тебе подразделения. — Тащи молока, вареной картошки, сала, хлеба, табаку, свежих газет. Улыбаясь, Смолин произнес свое излюбленное «ну», оставил Аргона с друзьями и направился к хижине. Автомат висел на плече. Взойдя на крылечко, услышал громкие мужские голоса, раскатистый сытый хохот и, кажется, звон посуды. Шумело и смеялось не меньше пяти или шести мужиков. Смолин удивился. Откуда их столько здесь? И как попали в лесную хату? Кто такие? Вошел в сени. Остановился, прислушиваясь. Голоса пьяные. Выделялся один женский. Пирует целая компания. В будний день. По какому случаю? Ложе ППШ, кажется, само собой уперлось в живот следопыту. Поставил автомат на боевой взвод, положил палец на спусковой крючок. Бесшумно нащупал железную скобу и рывком, на себя, распахнул дверь и отбросил к стене, чтоб не мешала. Небольшая комната. У окна стол, накрытый клеенкой. Чего только не было на нем. Все увидели, успели сфотографировать цепкие и зоркие глаза следопыта. Две бутылки с мутным самогоном. Чашка с огурцами, квашеной капустой и мочеными яблоками. Блюдо студня. Большая сковорода с яичницей. Гора вареных яиц. Домашняя колбаса. Ряженка. Творог. Молоко. Цыбуля. Толстые пластины сала. Ломти нарезанного хлеба. На лавках по обе стороны стола сидели семь заросших красноглазых мужиков и одна женщина. В левом углу, там, где висели иконы и тлел огонек лампадки, стоял ручной пулемет с диском и несколько карабинов. Над столом резво тикали деревянные, ярко расписанные ходики. Потрескавшееся зеркало украшено полотняным расшитым рушником Домотканые коврики пестрели на некрашеном полу. На теплой печи облизывался огромный рыжий кот. Смолин в своей зеленой фуражке и зеленом бушлате стоял на пороге с автоматом в руках и смотрел на застигнутых врасплох мужиков. Они недвижимо сидели за столом и смотрели на пограничника. Молчание продолжалось, как показалось Смолину, бесконечно долго, хотя с того момента, как он вошел, прошло две, от силы три секунды. Мгновение, равное жизни. Всю свою пограничную жизнь Смолин готовился к тому, чтобы не оплошать вот в такое мгновение, лицом к лицу со смертельными врагами. Одна рука, другая, третья потянулись в угол, где стояло оружие. Отступать Смолину было нельзя; наповал уложат. Бессмысленно и приказывать «руки вверх» — никто их не поднимет. Размышлять, кто из бандитов виноват больше, кто меньше, — не время. Выносить и читать приговор некогда. Один-единственный выход: огнем проложить себе дорогу к жизни. Он нажал на спусковой крючок, резко повел судорожно трясущееся дуло справа налево, потом слева направо. Отпустил крючок лишь после того, как расстрелял весь диск. Семьдесят одну пулю выпустил.
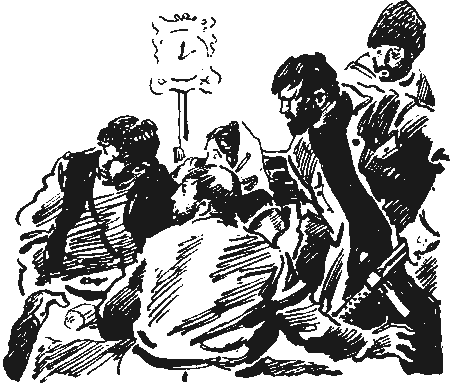 Никто из бандеровцев не дотянулся к своему оружию. Бутыли с самогоном раскололись, и мутная жидкость растекалась по столу и полу, распространяя нестерпимый запах сивухи. Яйца катались по полу.
Все это Смолин видел своими глазами. Однако не поверил себе. Выскочил из хаты, подбежал к окну, локтем выдавил стекло, швырнул гранату. Теперь все. Теперь никто не поднимется.
А что же напарники Смолина? Что они делали в это мгновение? Как вел себя Аргон?
Солдаты, услышав автоматную очередь, разбежались, залегли вокруг стога сена, приготовились к бою. Правильно поступили.
Про собаку они забыли.
Аргон не видел ни Смолина, ни диверсантов, Не мог он знать, кто стрелял. Однако он сразу, как услышал стрельбу, побежал к дому. Почуял опасность, угрожающую его другу? Может быть, и так. Но скорее всего, сработал условный рефлекс. Он был приучен бросаться на стреляющего врага.
Не понадобилась его помощь. Следопыт сам управился. Сидел теперь на крылечке, фуражка на коленях, рукавом бушлата вытирал свою русоволосую голову и ласково гладил собаку, поощряя, будто она тяжело потрудилась, а не он.
— Хорошо, Аргон, хорошо! Сейчас я покормлю тебя, дорогой. Подожди, дай передохнуть.
Осторожно подошли пограничники, Смолин улыбнулся.
— Давай, ребятки, давай смелее! Хозяйка действительно напекла и наварила всякой всячины. Всем хватит. Заходи!
Но ребята, смущенные, продолжали стоять посреди двора.
Никто из бандеровцев не дотянулся к своему оружию. Бутыли с самогоном раскололись, и мутная жидкость растекалась по столу и полу, распространяя нестерпимый запах сивухи. Яйца катались по полу.
Все это Смолин видел своими глазами. Однако не поверил себе. Выскочил из хаты, подбежал к окну, локтем выдавил стекло, швырнул гранату. Теперь все. Теперь никто не поднимется.
А что же напарники Смолина? Что они делали в это мгновение? Как вел себя Аргон?
Солдаты, услышав автоматную очередь, разбежались, залегли вокруг стога сена, приготовились к бою. Правильно поступили.
Про собаку они забыли.
Аргон не видел ни Смолина, ни диверсантов, Не мог он знать, кто стрелял. Однако он сразу, как услышал стрельбу, побежал к дому. Почуял опасность, угрожающую его другу? Может быть, и так. Но скорее всего, сработал условный рефлекс. Он был приучен бросаться на стреляющего врага.
Не понадобилась его помощь. Следопыт сам управился. Сидел теперь на крылечке, фуражка на коленях, рукавом бушлата вытирал свою русоволосую голову и ласково гладил собаку, поощряя, будто она тяжело потрудилась, а не он.
— Хорошо, Аргон, хорошо! Сейчас я покормлю тебя, дорогой. Подожди, дай передохнуть.
Осторожно подошли пограничники, Смолин улыбнулся.
— Давай, ребятки, давай смелее! Хозяйка действительно напекла и наварила всякой всячины. Всем хватит. Заходи!
Но ребята, смущенные, продолжали стоять посреди двора.
Ну и бомба! Так бабахнула, что и за океаном всполошились. Весь мир облетела весть, для одних добрая, а для других страшная: русские испытали свою первую атомную бомбу. Читал я, брат, в «Правде» отклики зарубежной печати на это историческое событие, и душа радовалась. Догнали! И перегоним, дай срок. Мы такие сроду. Раскачиваемся медленно, но если уж пошли, то дойдем, до бежим, домчимся куда надо. На нашей заставе с того самого часа, как мы у слышали о нашей атомной бомбе, солдаты радуются. Сегодня каждый себя чувствует увереннее, чем вчера, сильнее, смелее. Великое дело сделала эта бомба, взорванная на каком-то далеком испытательном полигоне. Теперь Черчилль и Трумен, надо думать, перестанут угрожать нам атомной войной. И у нас на границе жизнь переменится. Ночью ходил с ребятами в наряд. Шел по дозорной тропе, по самому краю нашей земли, а бомба не выходила из головы. Она, брат, освещала мне темень на много-много километров вокруг. Представляешь? Весь мир, можно сказать, освещала. Наша бомба! Добрая бомба. Мирная бомба. Ни один человек от нее не погиб, а спасла она миллионы и миллионы людей. Хорошо всегда мы жили, а сегодня и совсем хорошо. Окончательно закреплена наша свобода в Отечественной войне. Теперь тот, кто захочет воевать, сто раз подумает и примерит, прежде чем напасть на нас!
Всю дорогу дождь
На границу прибыл сотрудник областного управления Комитета государственной безопасности и пожелал срочно и наедине поговорить с инструктором службы собак Смолиным. — Старшина работает в питомнике. Я сейчас позову его сюда. Дежурный! Майор остановил начальника заставы. — Не надо. Я сам пойду к нему. В дальнем углу двора заставы, на самом высоком, сухом и доступном солнечным лучам месте поднимается удлиненный, высотой в два метра и шириной метров в пятнадцать дощатый навес с покатой назад крышей. Это и есть питомник заставы. Навес обшит с боков и сзади, разгорожен на трехметровые отделения глухими перегородками. В каждом стоит будка. Четыре занимают сторожевые собаки Лена, Амур, Барс, Дик. Пятую — розыскная Аргон. К каждому отделению пристроен четырехметровый индивидуальный выгул, отгороженный от соседних высокой металлической сеткой. Смолин заканчивал мыть горячей водой со щелоком деревянный пол и стенки будки, когда сквозь металлическую сетку увидел офицера в фуражке с синим околышем и в погонах с синей окантовкой. Государственная безопасность! Случилось что-то чрезвычайно важное, раз майор Голубенко сам пожаловал сюда. Бросил швабру, ополоснул руки в дезинфекционном растворе и подошел к сетке. Следопыт был в резиновых сапогах, в старом, изрядно потрепанном, давно списанном обмундировании. — Здравствуйте, товарищ майор! Все люди, которым улыбался Смолин, немедленно отвечали ему приветливой, сердечной улыбкой. — Здравствуй, Саша! Все, знавшие Смолина больше одного часа, называли его только по имени. В самое короткое время он всем становился наилучшим товарищем и другом. — По мою душу прибыли, товарищ майор? — Что ты, Саша. Твоя душа недосягаема. Приехал посмотреть на тебя и Аргона. Кстати, где он? Смолин показал на собаковязь, удаленную от питомника метров на полтораста. — Проветривается на солнышке, пока я дезинфицирую его покои… Значит, приехали специально посмотреть на нас? — И посмотреть, и поговорить. — Ну! Теперь похоже на правду. Что, предстоит какой-нибудь поиск? — Нет, только разговор. — Хорошо. Я сейчас. Приму душ, переоденусь. — Не надо, Саша. Работай, а я посмотрю на Аргона, покурю, скажу тебе пару слов и уеду. — Но, товарищ майор… — Ничего, Саша, ничего! Я никуда не спешу. Давай работай. Майор пошел к собаковязи. Смолин обжигал металлическую часть выгула гудящим лилово-белым огнем паяльной лампы, время от времени поглядывал на майора и гадал, зачем тот пожаловал к нему. В том, что прибыл по важному делу, он не сомневался. Закончив обжигать перегородку, он выключил паяльную лампу, взял щетку, скребницу, суконку и подошел к Аргону. Вопросительно взглянул на майора, как бы предлагая начать разговор. Но тот, по-видимому, счел момент для своей «пары слов» пока неподходящим. Спросил: — И часто вам приходится выполнять работу парикмахера? — Каждый день утром до кормления и дополнительно после прогулки. Иначе нельзя. Розыскная собака должна содержаться в идеальной чистоте. Аргон же у нас чистюля каких свет не видал. — И много вашего времени уходит на туалет красавца? — Больше, чем на поиск и преследование нарушителя. Отвечая майору, Смолин осторожно, по направлению шерсти, чтобы не поцарапать кожу и не причинить боль, расчесывал Аргона. Начал с головы. Потом — на шею, туловище, хвост и ноги. Особенно бережно расчесывал густой опаловый подшерсток — главное украшение овчарки. Аргон стоял как вкопанный. Хребет чуть выгнут, хвост поднят трубой, уши обмякли, глаза закрыты, морда скалится. Стоило Смолину на мгновение прекратить расчесывание, как он обернулся и тихонько цапнул его за кисть руки: давай, мол, продолжай. Майор засмеялся. — Да он у вас, оказывается, баловень! Вот тебе и гроза нарушителей. Смолин отложил роговой гребень и взял жесткую щетку. Чистил от головы к хвосту и от хвоста к голове, против шерсти Аргон блаженствовал. Замер. Еле дышит. Закончив чистку, Смолин взял черную суконку и протер, пригладил все тело Аргона. Его золотисто-песочная шерсть стала гладкой, блестящей и как бы засветилась. Но туалет на этом еще не закончился. Смолин вымыл руки и закурил только после того, как протер чистой влажной тряпочкой глаза и уши собаки. Хлопнул по крупу: — Вот и все! Гуляй! Майор тоже закурил и покачал головой. — Да! Мне здорово повезло. Я увидел черную работу прославленного следопыта. Жаль, ни в кино, ни по телевизору не показывают этого. — А зачем показывать? Ничего интересного. — Саша, ты любишь своего Аргона? — вдруг спросил майор Голубенко. — Любишь?.. Не то слово. — И границе будет плохо без Аргона. А бандиты кровно заинтересованы, чтобы ты остался без Аргона. Смолин понял, что начался настоящий разговор, ради которого приехал майор на заставу. Молчал и ждал, что еще он скажет. Непременно скажет! Он только начал. Голубенко любовался Аргоном, описывающим бешеные петли вокруг собаковязи, и говорил: — Нам стало известно, что бандиты задумали уничтожить тебя и Аргона. В самое ближайшее время. — Вот как! Неужели противник такой пронырливый, что проберется к нам на заставу? — Разумеется, мы уверены, что не проберется, но принять меры должны. — Хорошо, товарищ майор, я заберу Аргона домой. — Да, надо. Временно. И сам, пожалуйста, без особой нужды не показывайся в городе. Бандеровцы, как ты знаешь, здорово умеют стрелять. Особенно из-за угла. Остерегайся. А Смолин рассмеялся. Голубенко с удивлением посмотрел на него. — Правильно, значит, воюем. Заслужили ненависть врага. Повернулся к собаке, скомандовал: — Ко мне, Аргон! Овчарка сейчас же подбежала, села у ног Смолина, оскалила морду в улыбке. Следопыт погладил собаку по голове. — Слыхал новость? Нас с тобой убить собираются. Кто? Известно, кто. Те, кому мы с тобой в печенки въелись. Нарушители. При слове «нарушители» Аргон ощетинился, навострил уши, зарычал. — Ну, что скажешь по этому поводу, псина? Будем остерегаться или?.. Отвечай. Голос! Аргон сделал стойку и ожесточенно залаял. Смолин сказал полушутя-полусерьезно: — Слыхали, товарищ майор, ответ? Аргон говорит, наплевать нам с высокого дерева на угрозы противника. Мы не боимся его. Пусть он нас боится.Дождь хлынул после захода солнца и не переставал до рассвета. В эту глухую, сырую и холодную ночь Смолин и Стебун были разделены лесами, полями, оврагами, городами и деревнями. Государственной границей. И пропастью разных взглядов на жизнь, одно перечисление которых заняло бы много страниц. Весь вечер Стебун лежал на той стороне, в кустах и, наблюдая за границей, ждал своего часа. Смолин был в кинотеатре на последнем сеансе и домой вернулся поздно, под сплошным дождем. Принял горячий душ. Поужинал. Долго пил чай. Лег в постель за полночь и сейчас же заснул. Хорошо спится в дождливую ночь! Между двенадцатью полуночи и первым часом нового дня Стебун выбрался из мокрых кустов и напрямик, вслепую преодолел узкое, заваленное ночной темнотой пространство, разделяющее два государства. Шел без оглядки, уверенный, что непогода скроет его следы, Даже на КСП не принял никаких мер, чтобы замаскировать отпечатки резиновых сапог. Все за него сделает дождь. Не остерегался и дальше. В час двадцать семь, ориентируясь по компасу, вышел из пограничной зоны. В два двадцать семь удалился от границы на целых десять километров и попал в лесной массив. Здесь, стоя под огромной лохматой елью, немного передохнул от быстрой ходьбы, от холодного дождя и, спрятав голову под полу непромокаемой куртки, выкурил сигарету. В два тридцать шесть двинулся дальше по заранее проложенному маршруту. Примерно в это же бремя пограничный наряд, идущий вдоль КСП, обнаружил следы нарушителя. Смолин был поднят по тревоге а два часа тридцать две минуты. Стебун имел перед ним огромное преимущество и во времени и в расстоянии. Следопыт одевался и обувался, а нарушитель уже прокладывал второй десяток километров своей тропы. Стебун благополучно обошел все препятствия и ловушки, а на Смолина с первого шага обрушилась неудача. Аргон обычно всегда расчетливо и ловко прыгал на седло лошади и оттуда без осложнений перебирался в свою люльку. На этот раз сорвался и, пытаясь задержаться, оцарапал когтями бок лошади. Ласточка испуганно шарахнулась в сторону и наступила на лапу собаки. Аргон завизжал и заковылял к своему другу, прося помощи. Смолин, холодея от страха, осветил карманным фонариком лапу. Слава богу, кажется, не раздроблена. Повреждение поверхностное. Пройдет. Должно пройти. Схватил собаку в охапку, усадил в плетеную люльку и сам вскочил в седло. Скакал по грязи, по лужам, рвал плотную завесу дождя. Вода ручьями стекала с его плаща. Незащищенный от дождя Аргон стал пепельно-темным, уменьшился чуть ли не вдвое. Жалкий вид был у красавца. Стебун пробился через лесной массив и вышел на опушку. Рядом была дорога. Она мерцала в темноте большими лужами и глубокой, полкой воды, колеей. По проселку никто не ехал. Он был пустынным. Но нарушитель шел по обочине, готовый каждое мгновение скрыться в чаще леса. Дорога служила ему хорошим ориентиром. Он был уже вблизи своей первой перевалочной базы — глухого лесного хуторка. Там он просохнет, выспится в тепле и пойдет дальше. Смолин вытащил из люльки Аргона и бережно спустил на землю. — Ну, нерасторопная псина, покажи свою лапу. Не больно? А так? Значит, обошлось? Проверим. Гуляй! Аргон не двинулся с места. Стоял и недоумевающе смотрел на следопыта. Не было еще случая, чтобы ему приходилось гулять на границе. Всегда работал. — Гуляй! — повторил Смолин. Пришлось повиноваться. Пробежав немного, Аргон остановился и как бы с укоризной посмотрел на друга. Если бы он умел говорить, он сказал бы: разве я гулять сюда прибыл? — Гуляй! — скомандовал Смолин. Еще пробежал чуть-чуть и опять остановился. — Ко мне! Хорошо, псина, хорошо. Все в порядке. Не охромел. Слава богу. Ну, а теперь, браток, давай приступай к работе. След! Ищи! Аргон сразу, как всегда, взял след и потащил за собой Смолина и всю тревожную группу. Но вскоре собака замедлила движение, а потом и вовсе отказалась работать. Аргон нервно бросался туда-сюда, визжал от досады и злости, тряс головой, фыркал. Смолин потрепал его мокрые холодные уши, усмехнулся. — Что, псина, не нравятся неудачи? Разбаловали тебя победы. Привыкай! Жизнь, она всякая: с гладкой дорогой, с крутыми горками, оврагами и омутами. Аргон дрожал с ног до головы, протяжно зевал, виновато лизал руку Смолину и никак не мог успокоиться. — Хватит, не скули! Ничего особенного не случилось. Придумаем что-нибудь. Не уйдет от нас и этот. И собака притихла, села у ног Смолина, прижалась головой к его коленям, покорно ждала чего-то. На нее подействовал спокойный доброжелательный голос. Солдаты тревожной группы обступили Смолина, беспокойно спрашивали, почему остановились. — След нарушителя потерян, — отвечал инструктор. — Смыт дождем. — Вот тебе и знаменитая собака! Держала спелое яблочко в зубах и вдруг потеряла, — насмешливо протянул ефрейтор Сытников. — А говорили, она и на земле, и под землей, и даже в небесах находит нарушителей. — Правильно говорили. Находит! И найдет еще! — Почему же сейчас?.. — Потому, голова, что дождем смыт след. Смыт! Начисто. И отпечатки сапог и молекулы запаха. Ничего не осталось. А на пустом месте даже Аргон не способен работать. Он не фокусник, не волшебник, не колдун. Обыкновенная розыскная рабочая собака. Ее возможности ограничены. Есть запах — работает. Нет — беспомощна. — Ну, ладно, старшина. Что будем дальше делать? — Преследовать нарушителя! Для пограничников нет безвыходного положения. Давайте сообща покумекаем, куда и как направился нарушитель. Почему, переступив границу, он пошел прямо сюда, а не влево или вправо? По-моему, это его заданный курс. Километров десять прошел и никуда не свернул. Значит, он нацелился на наш город. Значит, ему надо пробиваться на главный шлях, на асфальт. Этот лес примыкает к проселку. Значит, нарушитель, если у него голова на плечах, ни в коем случае не должен покинуть такое удобное для себя место. В чистое поле он не сунется. По дороге тоже не пойдет. Шагает, наверное, сейчас по опушке, под прикрытием деревьев и выглядывает попутную машину. Тот же насмешливый ефрейтор, во всем сомневающийся, ничего не принимающий на веру, возразил Смолину: — До чего же ты просто рассуждаешь, старшина! Ты начертил ему одну дорогу, а у него в запасе добрая сотня. — Это только так кажется. И у него одна дорога. Вот ее мы и должны угадать. Я убежден, что он идет на восток этим лесом. А ты как думаешь, Сытников? — Я уже высказал свои думки. — Ну и что ты предлагаешь? Куда мы должны идти? — Не мое это, а собачье дело — указывать следы нарушителя. Пограничники засмеялись. Смолин не обиделся. Веселые слова никогда и никому повредить не могут. Он тоже засмеялся и сказал: — На этот раз, Жора, мы и собачье дело будем делать. Такая у нас доля. — Пожалуйста, делай. Это твоя прямая обязанность. Слова Жоры Сытникова ничуть не были похожи на его мысли. Наоборот. Он был согласен со Смолиным, но, начав балагурить, уже не мог остановиться, он числился первым остряком, пересмешником, весельчаком заставы. И себя высмеивал безжалостно. В самом серьезном деле он умудрялся находить смешное. Словом, был из тех, о ком сказано, что ради красного словца не пожалеет родного отца. Кончался второй час нового дня. В распоряжении нарушителя уйма темного времени. Если он не остановится где-нибудь, если по-прежнему рвется вперед, то к утру успеет пробиться в город. Там и затеряется. Только вряд ли он будет спешить. Незачем. Ходок он, как видно, бывалый, прекрасно знает, что в такую дождливую ночь собака непременно потеряет след. Значит, можно не торопиться, не лезть на рожон. — Ну вот что, друзья, — тоном приказа сказал Смолин. — Прочешем лесную опушку вдоль дороги. Заглянем на Волокнянские лесоразработки. Выйдем к речке. Дальше будем действовать по обстановке. Пошли! Цепью. Дистанция друг от друга — в пределах видимости и слышимости. Хлюпают по лужам солдатские сапоги. Чавкают по грязи. Скользят по глине. Глохнут на мягком перегное. Сечет дождь. Изредка, когда Смолину казалось, что встал на след, вспыхивал электрический фонарик. И после того как свет выключался, сырая темнота становилась еще гуще. Смолин и сам озирался по сторонам и заставлял Аргона прислушиваться. Лес кончился. Чуть посветлело. Вышли на небольшую поляну. Впереди сквозь струи дождя зачернел приземистый однодверный, огороженный плетнем хуторок. Хата, клуня и хлев вытянуты в одну линию. Поверх плетня смутно маячит длинная шея колодезного журавля. Все окна хаты черны. Во дворе тишина. Собаки нет. Или она крепко заснула, не чует приближения Аргона и людей. — Завернем, — сказал Смолин. — Обыщем. Сытников, не отставай от меня. Остальные блокируют все постройки и двор. Осторожно, чтоб не заскрежетали навесы, Смолин открыл легкие дощатые двери клуни. В лицо ему хлынула одуряющая духота слежавшегося лугового сена, сухих полевых цветов. «Если пан нарушитель здесь, то он здорово устроился». Подумав так, Смолин автоматически делал то, что надо было делать. Подобрал поводок покороче и наблюдал за поведением собаки. Человека Аргон обнаруживает за сорок-пятьдесят метров. В помещении это расстояние сокращается втрое или вчетверо. В клуне густой непроницаемый мрак. Куда идти, с какой стороны ждать удара — неизвестно. Но Аргону не нужен свет. Он не глазами, а обонянием определял, таит ли в себе опасность эта темнота. Стоял на пороге и глубоко вдыхал и выдыхал воздух. Вперед не рвался. Стойки не делал. Не рычал. Шерсть на холке не дыбилась. Смолин был уверен, что в клуне людей нет, но на всякий случай решил проверить и себя и чутье собаки. Короткой командой и выразительным жестом — выброшенной вперед на уровне плеча рукой, повернутой ладонью вниз, — он послал Аргона на вершину сеновала. Аргон недолго задержался под крышей. Спустился вниз, лизнул следопыту руку, нетерпеливо завизжал и потянул на улицу. Направились в дом. Напрасно Смолин ходил бесшумно, на цыпочках, разговаривал шепотом. Хуторяне, старик и старуха, уже увидели на своем дворе пограничников. Распахнули все двери настежь. Зажгли лампу, оделись. Выставили на стол кувшины с молоком, каравай хлеба, кусок толстого с коричневой коркой сала. Смолин вошел в хату, усадил Аргона у своих ног, поздоровался, извинился, что побеспокоили среди ночи, и спросил: — Чужие у вас есть? Старик отрицательно покачал сизой головой. — Нема, родненький, никого нема! И не буде. — Нет, значит, чужих? — переспросил Смолин. — И не будет. Так вы сказали? — Так, родненький. — Ну, а когда они ушли? — Шо?.. Хто?.. — Я спрашиваю, когда и куда ушли от вас чужие люди? — Не булы воны у нас, родненький, вовсе не булы. — А почему же ваша хата пахнет чужим духом? Никакого, конечно, чужого духа Смолин не чуял. Сказал так. Иногда и это помогало ему.Старуха вытерла фартуком стакан, слабо улыбнулась. — Жартуешь, сынок. Свий у нас дух, стариковский. Выпей молочка! — Спасибо, бабушка. Аргон спокойно сидел у ног Смолина. На людей, с которыми его друг мирно разговаривал, он никогда не бросался, не рычал. Он без особого сигнала и предупреждения прекрасно разбирался, где свои и чужие. Сидел и ждал, когда его пошлют работать. — Ищи! — коротко произнес Смолин и отпустил поводок. Аргон слышал даже шепот Смолина и повиновался мгновенно. Рефлекс послушания действовал у него так же безотказно и точно, как рефлекс обоняния. Обежав всю хату — горницу и кухню, обнюхав все углы, вернулся к Смолину и ткнулся мордой в колени. И тут никого и ничего нет! Если бы нарушитель оставил в хате самый слабый след, Аргон непременно взял его. Надо искать в другом месте. Обыск так называемого каретного сарая, в котором хранились плуги, сеялки и борона, тоже ничего не дал. Пуст был и погреб. Остается горище — чердак. Если и там нет нарушителя, значит, он успел удрать. Или его действительно не было здесь. Не зашел, не соблазнился. Смолин пошел к лестнице, ведущей на чердак. При свете карманного фонарика исследовал землю, на ней не видно никаких, даже самых слабых отпечатков — и здесь поработал в пользу противника ливневый дождь. Но Смолин не терял надежды. Нарушитель мог воспользоваться лестницей. Она была у него на виду, под рукой. Сапоги его наверняка были облеплены грязью. Взбираясь наверх, он должен был оставить на перекладинах хоть комок грязи. Некогда было ему чистить и мыть обувь. Так оно и есть: первая и третья ступеньки покрыты грязью. Поверх нее ясно виден рубчатый след литой резиновой подошвы. Он здесь! Смолин отстегнул поводок, мягко подтолкнул Аргона вперед и вверх, скомандовал: — Ищи! Аппорт! Собака ловко полезла по крутой лестнице. На верхней ступеньке, под самой крышей, остановилась, фыркнула, чуть взвизгнула и начала быстро-быстро работать лапами. Посыпались клочья старой соломы. Под стрихой зачернела небольшая дыра. Собака вскользнула в нее и пропала. Ни лая, ни визга, никакого звука. Полная тишина. Смолин тоже вскарабкался наверх. В одной руке автомат, в другой — фонарик. Пояс оттягивают подсумки с патронами, гранатами. Снизу его предупредил голос Сытникова: — Осторожнее, Саша! Он может встретить гранатой. — Ничего, я поймаю ее и назад швырну. Смолин мысленно посмеялся над привычными для себя словами и, выбросив руку влево как можно дальше, включил фонарик. Прекрасная цель! Пусть стреляет гад, если его не оседлал Аргон. Молчит. Тихо. Не до стрельбы ему сейчас. Отбивается от собаки. Смолин немного расширил дырку, кое-как пролез и… куда-то провалился. Упал на что-то мягкое и теплое. Включил фонарик и увидел под Аргоном человека в резиновых сапогах, в шапке и в темной, с барашковым воротником куртке. Нарушитель лежал неподвижно, вниз лицом, раскинув руки. — Хорошо, псина, хорошо! Смолин потрепал собаку по холке, погладил, дал кусочек сахару, усадил. Пнул ногой лежащего. — Эй ты, вставай! Вскочил. Поднял руки, зажмурился. Луч фонарика осветил немолодое, обезображенное страхом лицо. Тощие землистые щеки втянуты. Плоский, с загогулиной на конце нос. Нижняя губа чуть ли не в три раза шире верхней. На лбу сизая лента шрама. Еще один! Который по счету? Сколько их уже прошло через солдатские руки Смолина! Все были разные и все же чем-то и как-то похожие. Всем своим «крестникам» не переставал удивляться. На какую страну, на какой строй замахивались! Удивился и этому. Опустил луч фонарика на уровень груди нарушителя и неожиданно сказал: — Здорови, ходок! Любых слов ждал Стебун, но только не таких. Его глаза с ужасом уставились на пограничника. Губы тряслись, пытались не то улыбнуться, не то выговорить что-то. — Не понял? Здорово, говорю, ходок! — Здравствуйте. — Откуда топаешь? Вот в такие минуты, накрытые внезапно, ходоки через границу обычно теряют способность врать. — Из Баварии. — И куда? — Сюда… на Львовщину, потом в Карпаты. — Надеялся благополучно границу проскочить? — Меня уверяли… я думал… — Вот и допрыгался! Выворачивай карманы. Выложил бумажник, деньги и четыре гранатовых запала, завернутые в тряпочку. Не успел выбросить. — Где гранаты? Стебун кивнул в глубь чердака. — И пистолет там. — Ищи, Аргон! Аппорт! — скомандовал Смолин. Собака убежала и вернулась, сжимая зубами длинную деревянную ручку гранаты. Она была на боевом взводе. Если Аргон нечаянно выронит или бросит, она неминуемо взорвется. — Тише, Аргон, тише! Так держать. Аргон замер. Смолин подошел, осторожно взял гранату, вытащил запал из гнезда и перевел дыхание. — Хорошо, Аргон, хорошо! Ищи! Собака опять скрылась в темноте и принесла еще одну гранату, но уже не заряженную. В третий раз принесла пистолет, в четвертый — запасную обойму, в пятый вернулась ни с чем. Требовательно ткнулась мордой в ноги следопыту; приласкай, мол, дружище, я заработала. — Хорошо, браток, хорошо! Нарушитель смотрел, смотрел на них и вдруг брякнул: — Я тебя знаю, старшина. Ты — Смолин. Александр Николаевич. Самый знаменитый следопыт западной границы. И собаку твою знаю. Аргоном ее зовут. И тебя и твоего пса там, в Баварии, приговорили к смерти. Смолин засмеялся и погладил собаку. — Слыхал, какой мы чести удостоились? Враги к смерти приговорили — вот, брат, как насолили мы им. Гордись, Аргонушка! Посветил фонариком в лицо Стебуну. — Не тебе ли приказали отправить нас на тот свет? — И мне и другим. Наши люди давно охотятся за тобой. Опасайся! И не забудь доложить начальству о моем добровольном признании. Рассчитываю на снисхождение. — Интересно! Так вот почему мы с тобой, Аргон, так старались поймать чужака! На лице задержанного появилось выражение надежды и откровенной лести. — Собственного убийцу, можно сказать, ловили, — угодливо подсказал он. — А мы вас всех ловим как собственных убийц. Следопыты, как правило, избегают разговаривать с задержанными в присутствии собаки, которая повергла нарушителя. И хорошо делают. Собака не должна ни на мгновение терять настороженности, всегда должна быть готова защитить инструктора от возможного нападения. То, что для других собак было противопоказано, Аргону ничем не грозило. Смолин мог сколько угодно разговаривать с задержанным — и это не сбивало Аргона с толку. Идеальный слух Аргона всегда безошибочно воспринимал враждебную музыку слов своего друга. Так было и теперь. Аргон сидел у ног Смолина и следил за каждым движением врага, за выражением его лица. Если бы тот замахнулся, Аргон в то же мгновение прыгнул и схватил его за руку. Если бы вздумал убежать, он догнал бы, вскочил на спину, вцепился зубами в горло. — Эй, Смолин, где ты там? Живой или не живой? Отзовись! — тревожно закричал Жора Ситников. Не удивляйтесь и таким словам: солдаты к ним привыкли, считают обычными. Очень часто приходится терять товарищей в схватках с врагом. — Иду! — откликнулся Смолин. Он толкнул нарушителя прикладом автомата. — Двигай, двигай! Постой!.. Давно ты знаешь стариков? — Каких стариков? — Этих, что приютили тебя. Хозяев хаты. — Вовсе не знаю. Даже не видел. — Значит, ты залез на горище без их ведома? — Ну да! Так надежнее. — Боялся, что сообщат пограничникам? — Верить теперь никому нельзя. — Я так и думал, Давай двигай вниз! — У меня вопрос, старшина. Один-единственный. Можно?.. Скажи, будь ласка, как это я напоролся на тебя? Счастливый для тебя случай или… — Мне приснилось, где и когда ты должен перейти границу. — Нет, правда, старшина?!. — Правды хочешь? Что ты в ней понимаешь? Ладно, скажу. Ты потому напоролся на пограничников, что мы ждем убийц оттуда в любую погоду, в любой час, на любом направлении и преследуем вас до конца. — Красивые слова! — вздохнул Стебун. — Сколько слышал я их в своей жизни!.. — Наши слова не расходятся с делом. И ты в этом сам убедился. И еще раз убедишься… там, на досуге. Все. Поговорили. Пошел! Живо! Эй, ребята, принимай гостя! — закричал Смолин вниз. Нарушитель стал на четвереньки, проворно, ногами вперед, протиснулся в лаз.
Небо на востоке заметно прояснилось, но дождь все еще шел, такой же сильный, как и вечером. Дождь. Всю дорогу дождь.
Можешь поздравить меня с сыном, дружище. Назвали его Витей. В твою честь. Четыре килограмма потянул. Парнишка вышел полновесным. Сразу же, как только начал самостоятельную жизнь, рот свой растянул до ушей, как его отец. Всем, всем, всем, кто смотрит на него, улыбается: докторам, сестрам, нянькам, матери, отцу, бабушке. Другие в его возрасте плачут, а он смеется. Не уберег я сыночка от нежелательного наследства, наградил своей улыбкой. Всю жизнь ему придется нести наказание за отцовские грехи. Представляешь? А Юлия, как ты понимаешь, не видит в нашем пацане никаких недостатков. Цацкается с ним с утра до утра. И меня к своему материнскому делу приобщает. И, знаешь, у меня вроде все получается. Никогда не приходилось возиться с пеленками, с простынями, с бельем, и ничего: постирал как настоящая прачка. И даже погладить сумел. И купать парнишку научился. И колыхать. И обед съедобный между делом могу сварганить. Юлия рада. Смеется и нахваливает меня. Не подозревал я в себе таких талантов. А я после ее поощрений еще больше стал стараться. Теперь печку топлю, и пол подметаю, и посуду мою, я за лекарством в аптеку бегаю. Юлия сейчас ни во что не вмешивается. Никаких приказаний рядовому Смолину не отдает. Только Витьку кормит, убаюкивает да на свежий карпатский воздух вывозит! Исчез волевой командир. Ее место заняла кормящая мама. Если бы ты знал, брат, какое это счастье в доме — кормящая мама, твоя жена, твоя любимая! Днем и ночью, во сне и наяву я вижу их обоих — Юлию и нашего сыночка. Все ради них готов сделать. Жизни не пожалею. Женись, брат, поскорее, заводи детей. Холостяк — неполноценный человек. Вот какие пышные мои семейные пироги. А на службе все по-старому. Охраняем. Воюем. Ищем. Преследуем. Ловим. Обезвреживаем. На заставе никто не знает, чем занимается грозный старшина после того, как вернется с границы. Вот какой я непутевый. Не хочу ничего скрывать от товарищей и все-таки скрываю. Стыдно признаться, что помогаю жене, другу, товарищу. Ты подумай только, чего стыжусь! Почему так получается, а? Почему мы, мужики, стыдимся делать доброе дело? И почему без всякого стыда и совести часто обзываем друг друга, наступаем на мозоли, хлещем горькую, сумасбродничаем? Можешь не отвечать. Знаю, что ты скажешь. Для меня слова холостяка никакого авторитета не имеют. Будь здоров, Витя. Пиши о своих заводских делах. Достроил катер? Не раздумал этим летом путешествовать по Волге? Обо всем пиши. Все мне интересно. Я, брат, твоими письмами, как пуповиной, связан и с Волгой, и с Горьким. Нельзя мне без них здесь, на глухой заставе. Понял? Так что не ленись, пиши почаще.
По следам Бурого
В районное отделение милиции был доставлен человек, задержанный вечером в запретной пограничной зоне и подозреваемый в попытке пробраться через границу. Утром арестованного должны были передать в соответствующие органы для тщательного расследования. Но той же ночью он, выломав решетку в камере предварительного заключения, бежал. Около районного отдела милиции машину, в которой приехал Смолин с Аргоном, встретил начальник милиции, пожилой, с озабоченным лицом майор. Он подал следопыту руку и почтительно, будто перед ним был генерал, сказал: — Милости просим. Я жду вас целый час. — А зачем вам было меня ждать, товарищ майор? У вас есть свои собаки и следопыты. — Есть, да не такие, как твоя. Это первое. И следопыты у нас не такие квалифицированные. Это второе. Арестованный подозревался в попытке нарушить границу. Это третье и, пожалуй, самое главное. Так что, товарищ пограничник, вы будете искать «своего» нарушителя. Смолин посмотрел на огромный мрачноватого вида дом, который занимала милиция. — Отсюда он и бежал? — Сейчас все покажу. Пошли! Загремело железо. Распахнулась калитка. Аргон потянул поводок. Смолин поддался ему и очутился по ту сторону черты, отделяющей свободу от несвободы. Оглядывая двор, сильно освещенный большими лампами, чисто выметенный, он заметил: — У вас образцовый порядок, товарищ майор. Начальник милиции скривился так, будто внезапно почувствовал острейший приступ зубной боли или колики в животе. — И я так думал до сегодняшней ночи. Дом-громадина был выстроен в форме буквы «П». Большая часть его скрывалась в земле. Отгрохали его, как видно, во времена императора Франца-Иосифа. Стены сложены из крепчайшего бордово-коричневого кирпича — снарядом не прошибешь. В глубоких нишах скупо поблескивают стеклом крошечные оконца. Не окна, а крепостные амбразуры. Коридоры длинные, узкие, со сводчатыми потолками. Двери стальные, казематного образца. Предусмотрительны были архитекторы австро-венгерского императора. В любое время этот пограничный замок мог стать первоклассной крепостью. Как только вошли в здание, холодное и сырое, с цементным полом, шибануло такой острой дезинфекцией, что Аргон покрутил головой и зафыркал. Собака, привыкшая к раздолью сосновых лесов, лугов, полей, рек и озер, терпеть не могла несвежего воздуха. Майор остановился перед узкой дверью с тяжелыми засовами. — Вот здесь он содержался. Рывком распахнул дверь и мягко подтолкнул следопыта вперед. — Прошу! Камера-одиночка была сравнительно большая. Два метра на два. Железная койка. Столик. Табуретка. Деревянная полочка. Параша. Аргон будто понимал и чувствовал, зачем его сюда привели, сел и, подняв голову, заглядывал в глаза следопыту, ждал знака или команды. Запах дезинфекции уже его не беспокоил. Освоился. Смолин стоял у двери и медленно переводил взгляд с предмета на предмет. Его внимание привлекла размашистая, свежая надпись на стене: «Спасибо за гостеприимство. Бурый». — Это что такое, товарищ майор? — Намалевал перед уходом. Торопился, гад, а нашел время для художества. Кровью, между прочим, расписался. Наверно, руку поранил, когда решетку распиливал. Такого типа проморгали! Бурый! Это ж матерый бандеровец. Атаман! Он тяжело опустился на табурет, вытер мокрое лицо, расстегнул крючок воротника кителя. — Давай, старшина, ищи! — Сколько лет этому Бурому? — спросил Смолин. — Неполных тридцать. Двадцать восемь, три месяца и двенадцать дней. — Какой он из себя? — Есть фотография. Показать? — Не надо. Расскажите, как выглядит. — Высокий. Морда просит кирпича. На ногах стоит крепко. Ни от кого не отводит своих бесстыжих глаз. Все время нахально ухмыляется… А зачем тебе портрет, старшина? Разве собака будет искать его не по запаху? Смолин улыбнулся: — Моя собака капризная. Отказывается искать, если не знает, как выглядит враг. Майор тоже пошутил: — Ясное дело. Твоя собака не собачьей породы. Кстати, как тебя зовут? — Александр Николаевич. — Ну вот, Саша, рисую дальше его портрет. На горле рваный шрам. Видно, ножом какой-нибудь кореш полоснул. Фамилия его… — Такие подробности лишние. В какое время он убежал? — Пока еще неизвестно. Расследуем. — После двенадцати? — Да. Между двумя и тремя полуночи. — А трамваи и автобусы у вас ходят до двенадцати? — Да. — Вот и хорошо! Для нас с вами хорошо, товарищ майор. В два часа ночи беглец не мог воспользоваться городским транспортом. Пешком пробирался через центр. Майор снова удивился: — Почему ты думаешь, что он пошел в город? Центр от нас далеко, а лес, поле и большая дорога рядом. — Если сбежавший умный, ловкий, смелый, то он обязательно пошел в город. Это надежнее. На улице собаке труднее найти следы, чем в лесу или в поле. Бурый это знает. — Он мог и на попутной машине добраться куда ему надо. — Нет, товарищ майор, Бурый на случай не полагается. Откуда он родом? Мать и отец живы? Сестры? Братья? — Смотри, какой дотошный! Ты кто, Саша? Следопыт или Шерлок Холмс? — Я пограничник, товарищ майор. — Зачем же тебе, пограничнику, расследованием заниматься? Бери след — и баста! — Успеется! Мы с Аргоном идем по следу врага не с закрытыми глазами. Приглядываемся. Вспоминаем. Сравниваем. Рассчитываем. Соображаем, что к чему и куда. Как вы думаете, у него есть в городе друзья, родственники? Майор умоляющими глазами посмотрел на следопыта и, прижав к груди руки, попросил: — Саша, ради бога, приступай к работе, пока след не выдохся. Понимаешь, земля подо мной горит. Я чувствую себя таким виноватым, что сам готов в одиночку сесть вместо этого подлеца. — А я, товарищ майор, давно уже работаю. Зря беспокоитесь. Все будет в порядке. Смолин не шутил. Он действительно работал. Разговаривая с майором, узнавал характер нарушителя. Бегло осматривая камеру, старался угадать действия Бурого и, стало быть, путь его бегства. У Смолина было богатое воображение. Не стал бы он знаменитым следопытом, если бы не умел думать за тех, кого разыскивал и задерживал. Стоя сейчас на пороге камеры, он ясно видел, как здоровенный, рукастый парень, лежа на покатой амбразуре окна, окровавленной рукой расправлялся с решеткой. Узкая, особой крепости стальная пилочка была обернута на конце тряпкой. Для того чтобы металл не скрежетал и быстрее поддавался, арестант время от времени смачивал его каплями своей крови. Где он пилу взял? Как раздобыл? Была при нем? Как же ее не обнаружили при обыске? Впрочем, это уже лишние вопросы, Надо кое-что и следователю оставить. Подошел с Аргоном к неубранной кровати, взял фуфайку, лежащую поверх одеяла, бросил на пол. — Нюхай! След! Аргон мгновенно взял и, подбежав к амбразуре, приготовился к прыжку. Но Смолин задержал ее. Собака жалобно заскулила. — Хорошо, псина, хорошо. Смолин гладил собаку и направлял в коридор. Она слегка упиралась, не хотела уходить со следа. Но рефлекс повиновения был сильнее. Во дворе Смолин подвел собаку к подножию выломанного окна и еще раз скомандовал: — Нюхай! След! Аргон выдохнул и вдохнул мощную струю воздуха. Смолин так привык к этому главному действию своего друга, что, как ему показалось, увидел крошечные цветные теплые молекулы запаха, несущиеся в центре прозрачного прохладного потока. В русском языке есть прекрасное слово «примстилось». Вот оно, пожалуй, способно передать душевное состояние Смолина. Аргон вывел следопыта на небольшой, сильно вытоптанный и захламленный пустырь, примыкавший к старому замку. Собака дважды обежала кучу мусора. Постояла секунды две и потащила к городу. Здесь беглец отлеживался, намечал дальнейший маршрут. Аргон ускорял и ускорял бег — ясное свидетельство, что след верен. Во всю мощь бежал и Смолин. И малоподвижный майор оказался весьма выносливым: его тяжелое дыхание и топот, к своему удивлению, Смолин все время слышал за своей спиной. Беда научит бегать и хромых. Выскочили на конечную трамвайную остановку. Заглянули под навес. Прошли мимо окошечка диспетчера. Пересекли трамвайный путь. И попали в узкую улочку, застроенную индивидуальными домиками с садиками и огородиками. Три двора Аргон не удостоил внимания. Перед четвертым остановился и, после короткого колебания, круто свернул вправо, шмыгнул в дыру забора. Пробежав на всю длину поводка, понюхав дерево и валяющиеся на земле яблоки, он вернулся на улицу. Майор вытер мокрое от пота лицо, сказал: — Ясное дело. Решил полакомиться райским плодом. Ну и Бурый! Аргон тянул вперед, и Смолин дал ему волю. Из проулка попали на широкую, заасфальтированную, с трамвайными рельсами, тротуарами и знаками автобусных остановок улицу. Сейчас она безлюдна. Но кто знает, сколько по ней с двух часов ночи прошло людей и проехало машин. Десять человек могут затоптать след беглеца. Машина может умчать его туда, куда бессильна проникнуть любая розыскная собака. Но Смолин старался не думать о преодолимых и непреодолимых трудностях. Зачем преждевременно тратить душевные силы и пугать себя? Не зная, какие они, эти трудности, нельзя ничего путного придумать. Опасность делает человека смелым, находчивым, быстросоображающим. Преграда, когда с ней сталкиваешься лицом к лицу, рождает желание преодолеть ее одним махом. Улица оказалась длинной-предлинной. Аргон бежал по тротуару. Три раза останавливался перед огрызками яблок. Смолин удивленно качал головой. Смотрите, пожалуйста, как хладнокровно, бесстрашно, лакомясь яблоками, шел беглец. Ничего не боялся. Шагал у всех на виду. — Куда ведет эта улица? Не к вокзалу? — обернувшись на ходу, спросил Смолин у майора. — К центру. На Карпатскую площадь. Через нее можно попасть и на вокзал. Позади, у истоков улицы блеснули фары машин и послышался тяжелый грохот. Колонна грузовиков быстро приближалась. Смолин остановился, пытаясь разглядеть машины. Он встревожился. — Ты что, Саша? — Что за машины, товарищ майор? Вы не видите? — А чего на них смотреть? Я и так, не глядя, знаю. Каждый день в одно время гремят. Подметают и поливают город. — Остановите! — вдруг закричал Смолин. Он бросился на дорогу, поднял руку. — Стой! Стой!! Колонна «ЗИЛов»-водовозов, вооруженных толстенными железными щетками, остановилась перед пограничником. Зашипели воздушные тормоза. Из головной машины выглянул шофер. — В чем дело, зеленая фуражка? Подъехать хочешь! Куда тебя надо подбросить? Если до Карпатской площади или вокзала, садись. — Никуда не надо меня подбрасывать, — строго сказал Смолин. — И вам не надо ехать. Стойте на месте. Минут тридцать. — Почему мы должны стоять? У нас график. Подошел майор, приложил руку к фуражке. — Надо постоять, товарищи. В интересах государственной безопасности. Мы идем по свежему следу опасного преступника, а ваши щеточки могут стереть и смыть то, что нужно нам. Понятно? — Понятно, товарищ майор! Извиняюсь, что сразу недокумекал. Стоим как вкопанные! До вашего особого распоряжения. Счастливого поиска вам, товарищ майор. — Через полчаса можете ехать своим маршрутом. Смолин между тем уже шагал дальше. Вышел на круглую Карпатскую площадь. Аргон не покидал тротуара. Но, дойдя до перекрестка, беспомощно завизжал и начал метаться туда-сюда. Посредине улицы при свете прожектора работала ремонтная бригада. Рабочие заменяли старые рельсы новыми, перестилали шпалы, трамбовали щебеночный балласт, что-то сваривали, тащили по земле какие-то железные щиты, укладывали свежий, похожий на зернистую икру асфальт. Аргон нервничал, как всегда при потере следа, а Смолин стоял на краю тротуара и внимательно, спокойно изучал местность. Начальник райотдела стоял чуть поодаль и молчал. Смирился даже с тем, что в самый разгар поисков старшина вдруг достал свой «беломор» и задымил. Смолин курил и размышлял про себя. Бурый прошел перекресток до того, как начала работать ремонтная бригада. И потому его следы пропали. Затоптаны. Развеяны. Выжжены огнем сварочных аппаратов. Бурый по городу шел смело, напрямик. И здесь не должен изменить себе. Значит, его следы надо искать на той стороне перекрестка. Смолин взглядом провел прямую черту к противоположному тротуару, куда должен был выйти Бурый. Но на всякий случай он спросил бригадира: — Вы давно здесь трудитесь, товарищи! — С полночи. Вот тебе раз! Все предположения Смолина рухнули. — Вся бригада работает с полночи? — Сначала нас было больше. Мы до утра должны перемостить весь путь от площади до вокзала. — И вы, лично вы, все время были здесь? — Куда же мне, бригадиру, уходить от своих людей! — Скажите, вы не видели, примерно часа в два ночи не проходил здесь высокий, мордастый человек? — Видал такого. Даже разговаривал с ним. Вот на этом самом месте, где вы теперь стоите. Он табачку попросил у меня. — Ну! — Я дал ему сигарету. Он сжег ее в две затяжки и еще попросил. Видно, целую вечность не курил. Бригадир посмотрел на овчарку, перевел взгляд на пограничника и поскучневшим голосом спросил: — Неужели я угощал куревом шпиона? Смолин не счел нужным этого скрывать и кивнул. — Куда он потом пошел? — Дальше поехал на нашей аварийке. — На какой?.. Где она? — Вон стоит. Красная. С будкой и лестницей на крыше. Шофер аварийной машины толково рассказал, по каким улицам ехал, до какого места довез случайного попутчика. — Немедленно туда, где его высадили! — приказал майор. Смолин с Аргоном сели в кабину. Майор, держась за полуоткрытую дверцу, стоял на подножке с левой стороны, рядом с шофером. Минут через пять остановились около продуктового магазина, у фонаря. — Вот здесь он спрыгнул. Закурил мое «Солнце», две сигареты взял про запас и пошел прямо по тротуару. Между прочим, когда он сидел со мной, я обратил внимание, что он весь пропитался дезинфекцией. Даже и теперь кабина воняет. Чувствуете! — Спасибо, товарищ водитель, вы свободны, — сказал майор. Смолин вывел Аргона на тротуар и вполголоса сказал: — След! Ищи! Собаке понадобилось не больше секунды, чтобы сотворить привычное для нее чудо: уловить хорошо памятные ей запахи. Смолин ждал, куда поведет его собака. Если влево, к вокзалу — все пропало. Там битком людей. Бродят туда и сюда, из зала в зал. Приезжают. Уезжают. Следы давным-давно затоптаны, стерты. Неужели он осмелится сунуться на вокзал? Неужели не знает, что такие места находятся под особым наблюдением? Не дурак же он, должен соображать. Аргон повел следопыта по каштановой аллее к вокзалу. Остановился перед скамейкой, на которой, очевидно, сидел беглец. Да, сидел: неподалеку собака обнаружила еще один огрызок яблока. Смолин тоже решил отдохнуть перед последним броском. Усадил нетерпеливого Аргона, гладил по голове, успокаивал и думал, что придется делать, если Бурый не испугался многолюдного вокзала. Поднялся, так ничего и не придумав. Кажется, придется возвращаться не солоно хлебавши. Это будет первое за много лет поражение Аргона и Смолина. Майор тяжело отдувался и, как веером, обмахивал фуражкой свое красное лицо. Он видел, что у следопыта резко испортилось настроение. Молча, умоляющими глазами смотрел на пограничника, взывал ко всем его солдатским доблестям и требовал: искать! искать! — Ну что, Саша? — Положение тяжелое, товарищ майор. Похоже на то, что он затесался в толпу пассажиров. Если так, пиши пропало. — Не отчаивайся! Ищи, дорогой. Ищи до последнего издыхания. Ищи, друг, пока сердце бьется. Оправдай свою славу. Другого выхода у тебя нет. Аргон без команды взял след и побежал. Колонны вокзала, его стрельчатые окна и громадные двери все ближе и ближе. Осталось меньше ста метров до гранитных ступеней. Вдруг в конце аллеи Аргон круто свернул вправо, уверенно пересек проезжую часть площади и потащил в боковую улицу. «Ага, голубчик, — мысленно порадовался Смолин, — все-таки не полез на рожон. Отвалил в самый последний момент. Не выдержал. Вот тут, пан Бурый, и таилась погибель твоя. Теперь не уйдешь. Теперь твоя песенка спета, Скоро увидимся». Боковая улочка уперлась в железнодорожную насыпь. Дальше дороги нет. Аргона это не смутило. Он вскарабкался на земляной горб, перемахнул через бетонный забор и побежал по шпалам не вдоль рельс, а поперек. Пересек один, второй, третий накатанный путь. Промчался по четвертому, заметно поржавевшему, метров двести и привел Смолина на большое вагонное кладбище. Скелеты пассажирских вагонов. Обугленные платформы. Помятые, покореженные пульманы. Ободранный товарняк. Вагоны, снятые с колес, вросшие в землю. Гондолы для перевозки руды, угля, ставшие железным ломом. Аргон бежал изо всех сил, предчувствуя счастливый финиш. Смолин тоже был готов к встрече с Бурым. Где-то здесь он затаился. Аргон ткнулся носом в темный пролом теплушки, снятой с колес. Смолин попридержал собаку, включив карманный фонарик, осветил внутренность вагона и, хотя еще не видел беглеца, но уверенный, что он там, закричал: — Руки! Бурый лежал в углу вагона на охапке старой соломы. Спал. Или не пожелал повиноваться. Смолину пришлось повторить приказание. Медленно, не отрывая головы от соломы, глядя на луч фонаря, не щурясь, усмехаясь, Бурый поднял руки. Они у него были действительна длинные, как у гориллы. Правая кисть замотана окровавленной тряпкой.Был в Немирове, на могиле нашего с тобой друга. Часа два я с ним разговаривал, орудовал топором, лопатой, обтесывал камень. Помнишь, какой махонький дубок мы посадили у его изголовья? Теперь он вымахал выше ограды. И елочки поднялись метра на полтора. Через два или три года над Лешей будет шуметь зеленый шатер. И в его ветвях закукует кукушка. Весной, услышав первую кукушку, я всегда вспоминаю заповедный Каменный лес, парашютиста. И все, все вспоминаю. Много хороших солдат встречал я на заставах, но второй Алеша Бурдин не попадался. Редкий человек. Ты мало служил с ним, не успел его узнать как следует, а я… Сколько у него было хорошего, что на дюжину мужиков могло хватить. И он не догадывался, что сильнее всех нас, лучше. Многому я научился у Алеши. Погибая, он как бы передал мне в наследство все, что имел. Я стал воевать и смелее, и осмотрительнее. Не подставляю, где не надо, себя под пули. И другим не позволяю лезть в пекло поперед батька. И с людьми стараюсь разговаривать как он, Бурдин. Ни с кем не спорю. В друзья не набиваюсь. Ни о чем никого не прошу, а даю всякому, кто попросит. И свою работу делаю, и чужую невзначай могу прихватить. Правда. Честное слово. Без оглядки на Бурдина я теперь не делаю ничего. Краснею, если что не так, не по его выходит. Здорово он помогает мне жить. Знаешь, иногда мне кажется, что я и свою жизнь проживаю, и его, Алешину. Теперь ты понимаешь, почему я его не забываю!
На Карпатской заставе
— Товарищ капитан, старшина Смолин с розыскной собакой Аргон прибыли в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. В окнах завибрировали стекла от звонкого голоса Смолина. Когда надо было, он умел извлекать из своего обыкновенного голоса мощную силу. — Ну и голосок! — улыбнулся капитан. — Здравствуйте, старшина. Ну, как вам у нас, на первый взгляд, показалось? Или еще не огляделись? — Ничего, нормально. Горы как горы. Леса как леса. Я быстро, товарищ капитан, осваиваюсь с новыми местами. Раз-раз — и привык. — Да, иначе вам нельзя. Застав двадцать, наверное, поменяли за свою службу? — Больше. Ваша двадцать седьмая. — Не надоело вам менять местожительство? — А что делать? Воля начальства. Приказ есть приказ. — Ну, ну, не прибедняйтесь. Если бы вы очень захотели служить на одном месте… — Вот в этом все и дело, товарищ капитан. Не интересно топтаться на одном направлении. По инерции приходится крутить машины. Капитан отлично его понимал. Вздохнул и сказал: — Завидую, старшина, вашим перемещениям. Новые леса и горы, новая граница, новые друзья, новые открытия. Новые испытания и новые рубежи!.. Вот это и есть настоящая пограничная жизнь. — Да, товарищ капитан, я, по совести сказать, люблю перемещения. Сил каждый раз прибавляется, опыта. Дальше и глубже начинаешь видеть. Ума-разума в новых местах, от новых товарищей набираюсь. Да и сам на новом месте стараюсь работать усерднее, чем на старом. Вот увидите, товарищ капитан, жаловаться на нашу с Аргоном службу никому не придется. — Да, я знаю и вас и Аргона. Спасибо на добром слове, старшина. Он поднялся, вышел из-за стола, крепко обнял Смолина за плечи и, глядя ему в глаза, сказал: — Я тоже скажу вам по чистой совести. Очень, очень и очень рад, дорогой Саша, что вы здесь. Счастлив буду поработать вместе с вами хотя бы короткое время. — И я тоже, товарищ капитан. Но почему короткое? Когда меня посылали сюда, срок не устанавливали. Буду служить столько, сколько понадобится. — Такие следопыты в нашей глухомани долго не задерживаются. Вас отзовут сразу после завершения операции… Ну, приступим к делу? Прошу вас, старшина. Он ввел Смолина в темную комнату, включил верхний свет. Следопыт увидел большой, два метра на два, макет участка границы заставы. Отлично была воспроизведена местность, прилегающая к границе. — Это фронт и тылы нашей заставы. Противник до сих пор не очень жаловал нас своим вниманием. Очевидно, приберегал это направление для особо важной операции. Смолин внимательно осмотрел макет. Потом, словно не доверяя глазам, ощупал каждую извилину, впадину, возвышения. Так слепые люди изучают какой-нибудь предмет, чтобы его запомнить. Капитан постукивал пальцами по борту макета. — Операция, как я полагаю, важна для нас по своим последствиям. Основные события, по нашим предположениям, развернутся вот здесь. Капитан прикоснулся к ветвистым белоствольным фигуркам, изображающим буковый лес. — Ждем появления нарушителей вот отсюда, из этого глубокого ущелья. Не исключено, что они пойдут по другой тропе. Вот по этой или этой. Капитан, по-видимому, много часов простаивал над макетом: изучал каждую пядь, размышлял, планировал, готовился к встрече врага, расставлял людей, учитывая рельеф, ориентиры, погоду. Облюбовал выгодные, жизненные для пограничников позиции и губительные для тех, кто переступит границу. — Встречает нарушителей тревожная группа. Старший — вы. С вами пойдут лучшие солдаты нашей заставы. Ближайшими помощниками будут Слюсаренко и Шорников. Оба старослужащие. Можете положиться на них. Слюсаренко — секретарь комсомольской организации. До призыва в армию работал в Донбассе, в шахте. Студент-заочник МГУ. Будущий историк. Потомственный рабочий. Километровую дистанцию бегает чуть хуже чемпиона страны. Бьет без промаха из любого вида оружия. Правдивый. Слов на ветер не бросает. Товарища в беде не оставит. Начальник заставы перешел на другую сторону макета, продолжал: — Шорников мало в чем уступает своему другу Слюсаренко. Богатырь. Лошадь, схватив за уздечку, останавливает на полном скаку. Играет на всех музыкальных инструментах. Футболист. Знает наизусть современных поэтов. Изучал по радио иностранные языки. Толком не знает ни одного, но как-то умудряется понимать и переводить, что говорят дикторы Лондона, Кельна, Рима, Вены. Имеет один существенный недостаток: чрезмерно разговорчив. Любитель округленных, крылатых и красивых слов. Но в дозоре, думаю, язык прикусит. Вот все о помощниках. Остальное узнаете о них сами. Вы, Слюсаренко, Шорников и Аргон ждете противника вот здесь. Капитан положил ладонь между синим куском картона, изображающим Овальное озеро, и отдельно растущим деревом — засохшей дубовой веточкой, закрепленной в гнезде. — Преодолев эту узость, нарушители выйдут на вас. Позволяете им продвинуться вот до этого места, — капитан перенес ладонь на вспаханное поле. — Как только они попадут сюда или чуть правее или левее, вы даете красную ракету и начинаете действовать согласно приказа на охрану границы. С вами взаимодействуют наряды, расположившиеся здесь, здесь и здесь. — Капитан указал на лес, берег Овального озера и на устье речушки, впадающей в озеро. — И вся застава поддержит вас. Отсюда, отсюда и отсюда. В случае необходимости, будут введены резервы комендатуры, отряда. Все ясно? — Ну! — Вопросы есть? Смолин чувствовал, догадывался, что капитан не все сказал. О чем-то очень существенном, может быть, самом важном, умолчал. Есть такие секреты границы, о которых не принято до поры до времени распространяться даже на заставе. — Нет вопросов? Смолин улыбнулся. — Здорово у вас все организовано, товарищ капитан. Мышь не проскочит незамеченной. И без меня могли обойтись. Капитан воспринял, и не без основания, слова следопыта как особую форму хитрого вопроса. — Я понял, старшина. Вас интересует ваша роль в операции. Могу объяснить. Нам нужны ваши глаза, ваши уши, ваша находчивость, сноровка, догадливость. Может сложиться очень острая обстановка. Тут вы будете необходимы. Капитан посмотрел на Аргона, терпеливо сидящего в углу служебной комнаты. — Надеюсь, вы сумеете внушить своему другу всю важность предстоящей операции. — Он и сам уже разобрался, что и как. Намотал, как говорится, на ус все, что вы сказали. Правду я говорю, Аргон? Слово «правду» он произнес, слегка повысив голос. Собака раскрыла пасть, дважды зевнула и сдержанно залаяла. Капитан засмеялся. — Это что, специальная дрессировка? Или внушение голосом, взглядом, мимикой? — Всего понемножку, товарищ капитан. — А все-таки? — Это наш с Аргоном маленький секрет. — И много у вас таких секретов? — Все раскроем, дайте срок. — Кстати, вы очень похожи. Оба одинаково лукавы. Интересно, кто кому подражает? Капитан погасил свет, и они вернулись со Смолиным в канцелярию. — В домике, где я живу, есть свободная комната. Моя жена все приготовила для вас. Располагайтесь и приступайте к работе. Для Аргона освободили место в питомнике. — Нет, товарищ капитан, я не хочу вас стеснять. Я здесь, в казарме с солдатами устроюсь. — Никого вы не стесните. Наоборот, мой сын Саша ждет не дождется вас. Столько наслышался о знаменитом следопыте и вашем Аргоне. — Ну, с ним мы быстро столкуемся, а насчет комнаты в вашем доме, товарищ капитан, мы никак не договоримся. Увольте. — Ну, как хотите. Но пообедать вместе с нами вы, конечно, не откажетесь? Пошли! Жена накрыла стол. Идем, Саша, идем, не упирайся. Пришлось согласиться. Определил Аргона в питомник и пошел. Домик начальника заставы, деревянный, сборный, выкрашенный в веселый зеленый цвет, цвет границы, с застекленной верандой, с белыми ставнями, с окнами, обращенными на сопредельную сторону, стоял в дальнем углу двора заставы. Жена капитана, темноволосая, смуглая, стройная молодая женщина, встретила гостя на крылечке в нарядном — по синему полю щедро рассыпаны белые розы — платье и в алом, с большими карманами и кружевной отделкой фартуке. — Пожалуйста, товарищ Смолин. Здравствуйте. Люба. А вас, кажется, Сашей зовут? Смолин подал руку, улыбнулся как давнему другу. — Здравствуй, Люба. Ишь, какая ты нарядная? День своего рождения празднуешь? — Нет, по случаю знакомства с вами, Саша. — Она засмеялась и мельком взглянула на мужа. — Капитан столько рассказывал о вас. Да и газеты чуть ли не каждый день пишут о Смолине. Как же вас в будничном платье встречать? Он не застеснялся, не отвел глаз. Спокойно улыбался. Вроде и не услышал того, что она сказала. — Ну как, Люба, не скучаешь здесь, в медвежьем углу? — Скучать здесь, в Карпатах, под жарким солнцем? Что вы, Саша! Я на Чукотке не скучала. Я уже целых семь лет жена пограничника. — А родилась где? — На границе. И выросла на границе. — Ну! Я так и подумал, когда увидел тебя. Нашенская, значит, с ног до головы, зеленая и красная. Ее ничуть не покоробило его «ты». Непринужденность и прямодушие Смолина пришлись ей по душе. Они вошли в дом, где уже все было готово к обеду, и Люба крикнула: — Сашенька, иди скорее сюда! Пришел твой Смолин. Вбежал мальчик лет шести, такой же чернявый, как и мать. С радостным изумлением смотрел на знаменитого следопыта. Похож и не похож. Смолин и не Смолин. Впервые увидел его на обложке журнала. Там он был великаном. Голова гордо вскинута. Взгляд смелый. Широченные плечи. Грудь сплошь увешана орденами, медалями, какими-то значками. Теперь же перед Сашенькой стоял обыкновенный старшина: невысокий, без единого ордена, застенчиво улыбающийся. — Здравствуй, Сашенька! — сказал Смолин и козырнул. Мальчик неуверенно протянул руку и, не в силах скрыть своего разочарования, спросил: — Вы правда Смолин? — Ну! Могу предъявить удостоверение личности. Вот, смотри. Фотография, печать, все как следует. — А почему вы без Аргона? Его нарушителя убили? Как Джека. Да? — Нет, Сашенька, он жив, здоров, воюет. — Где же он? Почему не с вами? — Он в питомнике, на заставе. — Можно посмотреть? — Можно, немного погодя, Сейчас он отдыхает после дальней дороги. — А почему вы без орденов и медалей? — Ордена и медали, Сашенька, носят только по большим праздникам. — Когда вас в кино снимали и показывали по телевизору, был большой праздник, да? — Наверное. — А зачем вы к нам приехали с Аргоном? — Служить. Охранять границу. — И ловить нарушителей? — Ну! Если они, конечно, есть у вас. — Были. Теперь не будет. — Почему ты так думаешь? — Они вас испугаются и Аргона, убегут подальше от границы. — Вот и хорошо. Этого как раз мы и добиваемся. Постой, как же они узнают, что мы с Аргоном прибыли на вашу заставу? — Шпионы видели, как вы сюда ехали. Вас и Аргона все знают. Надо было ночью ехать или спрятаться в машине. — Ну, Саша, ты говоришь не как сын и внук пограничника. Пусть нарушители прячутся от меня. Пусть они меня боятся. У мальчика было очень серьезное, сосредоточенное лицо. Он посмотрел на мать и отца и медленно кивнул в знак согласия. Люба пригладила взъерошенный чубик сына. — Вот и поговорили, вот и выяснили все. А теперь, пожалуйста, к столу. Вот ваше место, Саша. Ты, Сашенька, конечно, хочешь сесть рядом со Смолиным. Давай сюда. Нет, постой. Пойди вымой руки. — Они у меня чистые. Смолин посмотрел на замурзанные ручонки малыша. — Где же чистые? Пойдем вместе помоемся. Они ушли. — До чего же славный парень. Правда, Костя? — Верно! Улыбка, открытость, ясный взгляд, простота и сдержанная сила. Словом, золотой парень! — Как же такой парень стал грозой диверсантов? — Он здесь, среди своих такой ласковый и добрый, а с врагами… На его счету больше ста задержанных и убитых нарушителей. Вошли тезки, большой и маленький, оба розовые от свежей холодной воды, довольные друг другом. Взрослые ели, говорили, а мальчик держал вилку в руках и не сводил глаз со следопыта. С нетерпением ждал окончания обеда. Как только была съедена лесная, залитая молоком земляника, он вскочил. — Пойдем посмотрим на Аргона. Я ему мяса дам. Можно? Мальчик схватил котлету с тарелки, просяще взглянул на маму. Она кивнула. Смолин поблагодарил хозяев, взял Сашеньку за руку, и они отправились к питомнику. Аргон почувствовал их приближение, выскочил из будки, радостно завизжал, заметался по выгулу. Прыгнул на металлическую ограду и сотрясал ее своими могучими лапами. Если бы только Смолин сказал «барьер», он немедленно перемахнул бы высокий забор. Но Смолинулыбнулся и сказал другое: — Скоро, брат, ты соскучился. Ну, как тебе на новом месте? Соседи подходящие? Сторожевые и розыскные собаки, возбужденные Аргоном, лаяли, визжали и бешено носились по своим выгулам. Такой шум и гам поднялся, что невозможно было разговаривать. Смолин прошелся вдоль решетки, строго поговорил с собачьим народом, восстановил тишину. — Аргон понимает вас, да? — спросил Саша. — Каждое слово. — А почему дядя Шорников говорит, что собаки понимают только некоторые слова: «сидеть», «лежать», «фасс», «след», «ищи» у «аппорт». — Кто этот дядя Шорников? — Наш инструктор службы собак. Разве вы его не знаете? — Шорников? Это тот, который… Да, да, знаю. Вспомнил! Видишь ли, Саша, вообще Шорников правильно говорил. Большинство собак малопонятливы, выполняют только команду. Мой же Аргон обладает необыкновенной памятью. И слух у него необыкновенный. И обоняние. И бег. И сила. Все у него необыкновенное. Собака среди собак. — И он может делать все, что вы ему скажете? — Решительно все. Он и без слов понимает меня. — Ну да? — Хочешь проверим? Мальчик кивнул. — Тихо! Молчи! Смолин повернулся к Аргону. На лице его было недовольное выражение. Аргон сейчас же поджал хвост, уселся на задние лапы и виноватыми, покорными глазами смотрел на своего друга. — Видел? Мальчик засмеялся и хотел захлопать в ладоши, но ему помешала котлета. Смолин улыбнулся, и Аргон сейчас же сорвался с места и снова стал прыгать и визжать. — Он и петь умеет, — сказал Смолин. — Ну да? Пусть запоет. — Пожалуйста, слушай! Смолин тихонько стал насвистывать мелодию «Полюшко-поле». Аргон уселся, поднял голову, зажмурился и стал подвывать следопыту. Мальчик расхохотался и от восторга запрыгал на одной ножке. — Можно покормить Аргона? — Давай корми. Саша подсунул под сетку котлету. Но Аргон не обратил на это ни малейшего внимания. А котлета была сочная, нежная. Мама сделала их из мяса дикой горной козы, которая упала со скалы и разбилась. Пограничники привезли ее на заставу и сдали на общую кухню. — Ешь, Аргон, ешь! — умоляющим голосом попросил Саша. Собака и не посмотрела в ту сторону, где лежало аппетитное лакомство. — Почему он не ест? Скажите ему, чтобы ел. — А зачем говорить? Он и так послушается. Смолин внимательно посмотрел на Аргона и выразительно подмигнул ему. Собака тотчас же подбежала и взяла котлету. Съела, облизалась и заулыбалась во всю свою белозубую темно-розовую пасть. — Еще хочешь? — засмеялся мальчик. — Нету больше. Подожди, сейчас принесу. — Не надо, Саша. Хорошего — понемножку. Хочешь, я тебя познакомлю с ним. — Хочу. Смолин распахнул дверь выгула и сказал: — Гуляй! Овчарка пулей выскочила из ограды и стала носиться по двору. Смолин жестом подозвал ее к себе. Подбежала и села у его ног, чуть впереди. — Это Саша, — внушительно, раздельно сказал Смолин. — Мой друг. Очень хороший хлопчик. Внук пограничника. Сын пограничника. Будущий пограничник. Познакомься. Аргон подал мальчику правую лапу, лизнул его в щеку. — Вот и состоялось знакомство. Хочешь, он покатает тебя. — Как? — Садись верхом. — А он не укусит? — Давай садись. Мальчик неуверенно, с опаской перекинул ногу, оседлал собаку, Ее спина не прогнулась, и ноги твердо стояли на земле. — Шагом, Аргон — скомандовал Смолин. — Тихо. Оглянулся на седока, поджал уши и осторожно, но уверенно пошел вперед. Пройдя метров десять, повернулся и пошел назад. Мальчик спрыгнул и захлопал в ладоши. — Мама и папа не поверят, что я на Аргоне катался. Дядя Смолин, а еще что умеет Агрон? — Выступать с трибуны как Гитлер. Знаешь, кто такой был Адольф Гитлер? — Ага. Главный фашист. Фюрер. При слове «фюрер» Аргон насторожился и вопросительно посмотрел на Смолина, но тот молчал. — Фашисты моего дедушку убили на границе. Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Теперь там памятник стоит. Я видел. Мы с мамой летом ездили к бабушке. И еще поедем. Дядя Смолин, почему Аргон не показывает, как выступал Гитлер? Скажите ему. — Раздумал. В другой раз покажет. — А сейчас можно? — Ну, хорошо. Внимание, Аргон! Покажи, пожалуйста, как бесновался на трибуне фюрер. Фюрер! — властно повторил Смолин. — Фюрер! Собака запрыгала на задних лапах и отрывисто, грубо залаяла. Малыш залился смехом. — А что еще он умеет делать? — Плавать. Лазать по деревьям. Собирать оружие на поле боя. Вытаскивать раненых. Предупреждать пожар. — Пожар?.. Как это? — Почует дым и гарь — и со всех ног, с бешеным лаем несется к дежурному по заставе. И водолазом он может быть. — Водолазом?.. — Ну. Надеваю ему на голову резиновую шапочку, чтобы уши не залило, и он ныряет. Все что хочешь найдет под водой. Вот пойдем с тобой купаться, так сам увидишь, какой он отличный водолаз. Внимание, Аргон. Слушай! Где сейчас бандеровцы? Бан-де-ровцы! Собака стала неистово рыть землю и лаять. — Понятно, Аргон. В схроне. Спасибо. Хорошо! Ну, а теперь марш на место. Аргон даже повиноваться умел жизнерадостно: взвизгнул, лизнул Смолина и маленького Сашу и убежал за решетку. — Дядя Саша, куда мы теперь идем? — допытывался Саша. — На озеро, да? Купаться? — Нет, туда без спроса нельзя. Давай беги к папе и проси разрешения. Мальчик убежал. Через мгновение выскочил из зеленого домика с ликующими воплями: — Разрешил! Разрешил!! Разрешил!!! На выходе со двора заставы Смолина и Сашу перехватил капитан Крыленко. — Постойте, старшина! Вместе с вами прогуляются на Овальное Слюсаренко и Шорников. Те самые. Познакомитесь друг с другом и местностью. Искупайтесь. А ночью, сегодняшней ночью, пойдете в наряд. — Хорошая мысль, товарищ капитан! Выговоримся среди дня, а ночью в дозоре будем молчать. Из казармы скорым шагом вышли два парня, высоченные, плечистые, загорелые, в спортивных майках, в кедах, в тренировочных шароварах, с полотенцами в руках. Улыбаются и с превеликим любопытством вглядываются в знаменитого следопыта. Задолго до того, как попали на границу, еще в школе читали о нем на страницах «Пионерской правды» роман с продолжением.Сразу как только спустились сумерки и над северным склоном гор зажглась первая зелено-серебристая звезда, усиленный наряд пограничников во главе со Смолиным залег в яме, вырытой семейством диких кабанов, — между отдельно стоящим дубом и берегом Овального озера, на пути предполагаемого движения нарушителей. В эту ночь ничего не случилось. Даже звери не беспокоили. С вечера до рассвета было тихо. И вторая ночь была пустая и третья. И шестая. И вот наступила седьмая. Все было как и прежде. Наряд занял свои позиции с вечера. Небо сияло звездами. Сдержанно шумели вершинами буки-великаны. Гремела в каменистом ложе речушка, впадающая в озеро. В прибрежных зарослях время от времени подавали голос непуганые кряквы — охота на границе категорически запрещена. Карпатские горы, черные, бесформенные, подпирали светлое небо позади, справа и слева. Пахло разогретой хвоей. На сопредельной стороне, в лесу, надрывалась выпь. Травы поблескивали первой росой. С той стороны, где была застава, из-за ближайшей горы доносились слабые, еле слышимые звуки музыки. Шорников, лежавший справа от Смолина, беспокойно пошевелился в своем гнезде и, судя по голосу, улыбнулся. — Это Люба не спит. Концерт из Львова слушает. Он, видимо, хотел еще что-то сказать, но его не поддержали. Смолин и Слюсаренко молчали, не двигались. — Чует мое сердце, и сегодня вхолостую просидим. Засекли нас лазутчики. Или другой маршрут облюбовали. Ему опять не ответили. Слюсаренко умолк и молчал добрых пятнадцать минут. Выпь перелетела в другое место. Теперь ее жуткое завывание — смесь истерического хохота и душераздирающих слезных воплей — слышалось на той узкой стороне озера, откуда обрушивается водопад в глубокое ущелье. Это совсем близко от границы, метров сто. Смолин мысленно проложил прямую линию от ночной птицы к себе и дальше и подумал: не условный ли это сигнал? Бывало и такое. Лазутчики иногда ловко подражают птицам. С этого момента Смолиным овладело беспокойство. Он смотрел в наш тыл, на буковую рощу, на темное устье речушки, на густой кустарник и ждал отклика на голос выпи с той стороны. Ребята поняли, что он не зря насторожился. И тоже во все глаза вглядывались в темноту, крепче сжимали автоматы. Но в роще было тихо. Высокий ветер лениво перебегал с вершины на вершину. Отчетливо выделялись серые стволы на фоне гор и неба. Никого там нет. Подумав так, Смолин отвернулся. Но Аргон заставил его снова повернуться лицом к тылу. Подался вперед, натянул поводок и напряженно слушал. Нет, все-таки там кто-то есть, решил Смолин. Зверь? Человек? Свой, поверяющий, или чужой? Смолин крепко сжал руки напарников. Излишняя предосторожность. Слюсаренко и Шорников и без того затаили дыхание. Аргон глухо, не раскрывая пасти, зарычал. И сейчас же Смолин услышал осторожные шаги. Шел человек. По сырой траве, по сухим листьям, по валежнику, по твердой земле. Идет. Остановится. Выждет. Послушает. И дальше двигается. Опять замрет. Смолин бесшумно, точным, сотни раз выверенным движением вытащил из чехла заряженную ракетницу и, держа ее впереди себя, не отрывал глаз от горного лесного склона, по которому пробирался неизвестный. Его еще не было видно среди деревьев. Слился с ночью. Но шаги, как ни были осторожны, выдавали его. Идет довольно уверенно. Хорошо знает, куда опускает ногу. Он стал виден, когда приблизился чуть ли не вплотную. Здоровенный. Короткополая шляпа. Какая-то длиннющая хламида: не то пальто, не то пыльник, не то поповская ряса. Остановился, вскрикнул ночной птицей, присел на корточки и замер. Вызывает сообщников. Путь, мол, свободен. Давайте, голубчики, спешите, торопитесь! Здесь ждут вас седьмую ночь. По следу, проложенному первым нарушителем, вышли еще трое. Малорослые, щуплые. Ходоки так себе. Идут, волоча по земле ноги, часто спотыкаются. Не умеют тихо припечатать землю. Видно, первый раз сунулись на границу. И без особой подготовки. Странно. Неужели новички? Вот тебе и важная операция. Как только нарушители соединились и пошли дальше к границе, Смолин во всю силу своего голоса гаркнул: — Стой! Кто идет? Все четверо замерли. Молчат. Никто не двинулся ни вперед, ни назад. Новички! Сомнений быть не может. Значит, дело будет не канительное и кончится быстро. Смолин выстрелил. В черном зеркале озера отразился красный цветок сигнальной ракеты. Буки, травы, кусты и земля тоже отливали красным. И лица нарушителей стали красными. — Руки!
 Команда была немедленно выполнена. Все подняли руки. Пограничники с автоматами наготове окружили задержанных. Здоровенный мужик в длинной одежде первым обрел голос:
— Прошу не путать меня с этими… Я есть только бедный поводырь, а они богатые слепцы. Наемный поводырь. Я не знаю, кто они, откуда, куда и зачем идут. Пан Казимир, подтвердите, если вы действительно джентльмен, как вы себя называли.
— Да, пан Стражинский наш проводник. Получил за это десять тысяч злотых.
— Хватит! — пренебрежительно и твердо сказал Смолин. — Мы сами разберемся, кто есть кто. Выше руки! Обыскать!
Сержанты Слюсаренко и Шорников бросились выполнять приказание. Но один из нарушителей, не тот, который назвал себя провожатым, другой, пан Казимир, низкорослый, щуплый, дрожащим голосом попросил:
— Постойте, хлопцы! Не шумите. Отпустите нас — и я озолочу каждого. У нас с собой золото, бриллианты, платина. Берите любую половину. На всю вашу жизнь хватит. И детям и внукам достанется. Отпустите! Будьте благоразумны.
— Обыскать! — повторил приказание Смолин. Прижав к груди автомат, он отступил на три шага назад. — И без глупостей! Немедленно прострочу каждого. Обыскивайте, чего стоите!
— Не торопись, старшина. Подумай. Громадное богатство идет в твои руки. Бери. Никто не узнает. Все будет шито-крыто.
Шорников с возмущением сказал:
— Всего золота мира не хватит тебе, гад, чтобы нас купить.
Слюсаренко повернул к товарищу мрачное лицо, угрюмо сказал:
— С кем разговариваешь? Приступай к обыску.
Вывернули все карманы. Вспороли подкладку пальто, пиджаков, шляп, кепок. Проверили обувь. Вскрыли подбортовку и широченные, дважды простроченные швы. Сняли все нательные матерчатые пояса с особыми кармашками, набитыми золотыми монетами. Из всех потайных мест вытряхнули контрабандный груз.
Аргон сидел в сторонке, ужасно скучал и, может быть, недоумевал и был обижен, что не надо искать, бежать, догонять, кусать.
На солдатской плащ-палатке, раскинутой на траве, выросла груда драгоценного металла. Золото в слитках. Золото, расплющенное молотком. Золото для зубных коронок. Золото в червонцах и пятерках. Золотые часовые корпуса. Золотые кольца, браслеты. Целая низка золотых сережек. Золотые портсигары, подсвечники, золотые цепи. Бриллианты в маленькой железной шкатулочке. Оттого, что камней было много, они не производили никакого впечатления.
Шорников осветил фонариком кучу добра и покачал головой.
— Вот это да! Вот это клад! Люди гибнут за металл! Люди гибнут за металл! — дурашливо пропел и засмеялся он.
Слюсаренко сердито остановил его.
— Не зубоскаль, Толя! Подожди, пока домой вернешься.
Смолин ничего не говорил. В такие моменты он всегда молчал. Быстро и уверенно Смолин распорол подозрительно плотный и тяжелый на ощупь воротник пальто пана Казимира, вытащил оттуда увесистую тряпичную ленту, набитую золотыми кругляшами, бросил в кучу.
Проводник схватил себя за голову.
— Если бы я знал, что у них такое богатство!..
— И что бы вы сделали? — не выдержал Шорников.
— Не довел бы до границы. Пристукнул в глухом местечке. Пан Казимир, почему же вы так торговались со мной? Вай-вай-вай! То есть дуже не файно. Вы естым хлоп, а не джентльмен. Иметь такое богатство и поскупиться на расходы!
Потухшими глазами пан Казимир смотрел на свое добро и плакал.
— Боже мой, боже мой, все пропало! Это золото, эти камни собирали прадед, дед, отец, прабабушка, бабушка, мама. А я… идиот, идиот! Нищие мы, Людочка, нищие!
Шорников запричитал в тон пану Казимиру:
— Прадед грабил, дед грабил, отец грабил, а я… я тоже хотел ограбить народ, да помешали. Вот какую песню вам надо петь, господин контрабандист!
— Мое это золото, мое собственное. Фамильное. Наследственное! Никого я не грабил. И мои предки не грабили. Они были ясновельможными людьми. Воробья не обижали.
Людочка, до сих пор молчавшая, как истая ясновельможная пани, сказала:
— Не унижайся, Казимир, не мечи бисер перед этим быдлом.
У нее был низкий прокуренный голос. И разило от нее крепчайшим трубочным табаком.
Шорников засмеялся.
— Боитесь унизиться, пани? Куда уж дальше унижаться? Все. До самого дна дошли.
— Разговорчики, сержант!
Смолин аккуратно стянул четыре конца плащ-палатки, завязал дважды, проверил, нет ли щели, и, перед тем как взвалить узел на спину, приказал напарникам:
— Давайте конвоируйте на заставу этих… золотых нарушителей.
Так с легкой руки Смолина пан Казимир, его жена и их чадо стали называться на заставе «золотыми нарушителями».
Команда была немедленно выполнена. Все подняли руки. Пограничники с автоматами наготове окружили задержанных. Здоровенный мужик в длинной одежде первым обрел голос:
— Прошу не путать меня с этими… Я есть только бедный поводырь, а они богатые слепцы. Наемный поводырь. Я не знаю, кто они, откуда, куда и зачем идут. Пан Казимир, подтвердите, если вы действительно джентльмен, как вы себя называли.
— Да, пан Стражинский наш проводник. Получил за это десять тысяч злотых.
— Хватит! — пренебрежительно и твердо сказал Смолин. — Мы сами разберемся, кто есть кто. Выше руки! Обыскать!
Сержанты Слюсаренко и Шорников бросились выполнять приказание. Но один из нарушителей, не тот, который назвал себя провожатым, другой, пан Казимир, низкорослый, щуплый, дрожащим голосом попросил:
— Постойте, хлопцы! Не шумите. Отпустите нас — и я озолочу каждого. У нас с собой золото, бриллианты, платина. Берите любую половину. На всю вашу жизнь хватит. И детям и внукам достанется. Отпустите! Будьте благоразумны.
— Обыскать! — повторил приказание Смолин. Прижав к груди автомат, он отступил на три шага назад. — И без глупостей! Немедленно прострочу каждого. Обыскивайте, чего стоите!
— Не торопись, старшина. Подумай. Громадное богатство идет в твои руки. Бери. Никто не узнает. Все будет шито-крыто.
Шорников с возмущением сказал:
— Всего золота мира не хватит тебе, гад, чтобы нас купить.
Слюсаренко повернул к товарищу мрачное лицо, угрюмо сказал:
— С кем разговариваешь? Приступай к обыску.
Вывернули все карманы. Вспороли подкладку пальто, пиджаков, шляп, кепок. Проверили обувь. Вскрыли подбортовку и широченные, дважды простроченные швы. Сняли все нательные матерчатые пояса с особыми кармашками, набитыми золотыми монетами. Из всех потайных мест вытряхнули контрабандный груз.
Аргон сидел в сторонке, ужасно скучал и, может быть, недоумевал и был обижен, что не надо искать, бежать, догонять, кусать.
На солдатской плащ-палатке, раскинутой на траве, выросла груда драгоценного металла. Золото в слитках. Золото, расплющенное молотком. Золото для зубных коронок. Золото в червонцах и пятерках. Золотые часовые корпуса. Золотые кольца, браслеты. Целая низка золотых сережек. Золотые портсигары, подсвечники, золотые цепи. Бриллианты в маленькой железной шкатулочке. Оттого, что камней было много, они не производили никакого впечатления.
Шорников осветил фонариком кучу добра и покачал головой.
— Вот это да! Вот это клад! Люди гибнут за металл! Люди гибнут за металл! — дурашливо пропел и засмеялся он.
Слюсаренко сердито остановил его.
— Не зубоскаль, Толя! Подожди, пока домой вернешься.
Смолин ничего не говорил. В такие моменты он всегда молчал. Быстро и уверенно Смолин распорол подозрительно плотный и тяжелый на ощупь воротник пальто пана Казимира, вытащил оттуда увесистую тряпичную ленту, набитую золотыми кругляшами, бросил в кучу.
Проводник схватил себя за голову.
— Если бы я знал, что у них такое богатство!..
— И что бы вы сделали? — не выдержал Шорников.
— Не довел бы до границы. Пристукнул в глухом местечке. Пан Казимир, почему же вы так торговались со мной? Вай-вай-вай! То есть дуже не файно. Вы естым хлоп, а не джентльмен. Иметь такое богатство и поскупиться на расходы!
Потухшими глазами пан Казимир смотрел на свое добро и плакал.
— Боже мой, боже мой, все пропало! Это золото, эти камни собирали прадед, дед, отец, прабабушка, бабушка, мама. А я… идиот, идиот! Нищие мы, Людочка, нищие!
Шорников запричитал в тон пану Казимиру:
— Прадед грабил, дед грабил, отец грабил, а я… я тоже хотел ограбить народ, да помешали. Вот какую песню вам надо петь, господин контрабандист!
— Мое это золото, мое собственное. Фамильное. Наследственное! Никого я не грабил. И мои предки не грабили. Они были ясновельможными людьми. Воробья не обижали.
Людочка, до сих пор молчавшая, как истая ясновельможная пани, сказала:
— Не унижайся, Казимир, не мечи бисер перед этим быдлом.
У нее был низкий прокуренный голос. И разило от нее крепчайшим трубочным табаком.
Шорников засмеялся.
— Боитесь унизиться, пани? Куда уж дальше унижаться? Все. До самого дна дошли.
— Разговорчики, сержант!
Смолин аккуратно стянул четыре конца плащ-палатки, завязал дважды, проверил, нет ли щели, и, перед тем как взвалить узел на спину, приказал напарникам:
— Давайте конвоируйте на заставу этих… золотых нарушителей.
Так с легкой руки Смолина пан Казимир, его жена и их чадо стали называться на заставе «золотыми нарушителями».
Сегодня, брат, на меня свалились сразу две большущие радости. На границе, в горах, неся службу, ясной ночью я простым глазом увидел спутник. Смотрел на Большую Медведицу, гадал, который может быть теперь час, — и вдруг вижу: одна из самых крупных звезд, зеленовато-серебристая, лучистая, не стоит на месте как все, а движется среди хоровода светил поперек всего неба. Представляешь? Смотрел я на нее и глазам своим не верил. Не приходилось видеть до сих пор, чтобы звезды свободно перемещались с запада на восток, от горизонта к горизонту. И только потом когда звезда скрылась, я вспомнил сообщение радио о спутнике и сообразил, как здорово мне повезло. Если бы я не был в дозоре, я бы снял фуражку, подкинул ее до самого неба и затрубил на все Карпаты: «Ура!» И в космосе, значит, мы водрузили свой победный флаг. Проникли! Подняли потолок мира. Заглянули в «божеские сферы». Ну и мы! Чего мы только не успели натворить за свою короткую жизнь: революция, битва с интервенцией, с разрухой, индустриализация, коллективизация, разгром фашистской Германии и самурайской Японии, атомная бомба и теперь вот спутник. Первый в мире! Неужели нам всего тридцать четыре отроду? Молодые, как говорится, да ранние. Спускаюсь утром на заставу, и тут мне сообщают вторую радость: звонили из Рава-Русской, из роддома и сказали, что жена Смолина родила дочку. Представляешь? Поставил я автомат на место, собаку отправил в питомник, помылся, позавтракал на скорую руку и рванул в райцентр. Не ехал я туда, а летел. Земли под собой не чуя. Подумай, а меня не захотели пустить к дочке и Юзе. Не велено, говорят. Не приемный час. Да разве счастливого отца остановишь? Пробился правдами и неправдами. Лежит моя Юз я на боку, дытину материнским молоком годуе. Руки ее вялые. В лице — ни кровинки. Но очи, щирые ее очи все-таки сверкали молодой жизнью. Представляешь? Ну, поздравил я ее, поцеловал и стал рассматривать нашу дочурку. Крупная дивчина вышла, с пухлыми щечками, с пушистой темнорусой головкой, с черными, как переспелая вишня, глазенками. Смеюсь и говорю: — Ну вот, жинка, и дождались мы прибавления своего семейства. Как мы назовем ее? — Как хочешь, Сашко. — Юзя! — неожиданно сказал я. — Нет, хватит нам и одной Юзи. — Марина! — Все бабушки в нашем селе — Марины. Представляешь! Наша девчушка живет, питается, а мы еще не знаем, как ее называть. Перебрали мы дюжины две всяких имен. И выбрали самое хорошее — Люба. Любовь! Любонька! Лучше и придумать нельзя. Вот, брат, какие мои семейный пироги. Имею и сына и дочь. Горжусь. Кругом удовлетворен. План выполнен на все сто. Теперь дело за внуками. Читай и завидуй, несчастный холостяк!
В дозоре
Дело было зимой, в большие, необычные для Западной Украины снега. Еще глубокой осенью земля была укрыта толстым белым слоем. Снежило весь декабрь, январь. Перепадало и в первые числа февраля. В конце месяца лютые ветры понесли сухую колючую крупу, замели все дороги и тропы, облепили стены хат до самых крыш. Старшина Смолин с Аргоном и рядовым Егорычевым вышли на охрану границы сразу после полуночи. Дошли до правого фланга, до узкого, засыпанного снегами лесного выступа, неподалеку от него вырыли в спрессованных сугробах покатую пещеру, набросали под себя еловых веток и залегли. Маскироваться не надо. Метель очень скоро занесла углубление. Кроме того, снег сыпался еще и сверху. Если бы пограничники время от времени не расчищали перед собой сектор наблюдения и обстрела, их бы засыпало с головой. Дозор — это очень надежный и чрезвычайно эффективный вид пограничной службы. Оттуда, где они находились, была видна граница и закордонные подступы к ней со стороны леса, а их самих нельзя было заметить даже с близкого расстояния. Рядом со Смолиным слева — солдат Егорычев, справа — Аргон. Голова с торчащими ушами покоится на вытянутых вперед лапах. От собаки струится такое тепло, будто у нее под шкурой спрятана печка. Иногда Егорычев снимал рукавицы, клал руки на круп пса и улыбался от удовольствия; вот как здорово греет псина! Часа через два метель утихла. Небо очистилось от облаков, поднялось выше. Вылупились звезды, чистые, по-зимнему яркие. Из-за леса вышла луна. Заулыбался, глядя на нее, Смолин. — Нам повезло, — шепнул он. — Граница видна как днем. — Хорошо! — подал свой голос Егорычев. — Иголки можно собирать. Теперь нарушитель, если сунется, как на ладони будет виден. Я еще плохой стрелок, но уложу с первого выстрела. — Не велика доблесть убить нарушителя. Надо захватить его целеньким, тепленьким. — А если он не сдается? — Все равно ты обязан изловчиться, ухитриться и схватить его живым. Живой нарушитель в тысячу раз ценнее мертвого. — У тебя всегда так получалось, старшина? — Раз на раз не приходилось. — Сколько на твоем счету убитых и задержанных? — Не считал. — Не считал? — удивился Егорычев. — Как же так? — А зачем их считать? — Как зачем? Это же нарушители! Показатель твоей службы. — Кому надо, тот подсчитывает, а мне ни к чему. Егорычев замолчал. Скромничает старшина? Или на самом деле не считает свою работу особенной, героической? Егорычев, призванный в армию, все лето и осень томился на учебном пункте погранотряда, слесарил в автороте. Рвался на линейную заставу, но его почему-то не пускали. И только недавно, три месяца назад, он попал на границу. И теперь все, что приходилось делать на заставе, казалось ему необыкновенно важным, интересным. Он почтительно, во все глаза смотрел и на красно-зеленые столбы с нержавеющим гербом СССР, и на КСП, на все, на все. Непрестанно учился всему, чему можно было научиться новичку. Не стеснялся спрашивать о том, чего не знал. Охотно делал все, что приказывали сержант, старшина, начальник заставы и его заместители. Писал восторженные стихи на пограничную тематику. Рисовал плакаты, лозунги. Смолин давно покорил Егорычева. Молодой солдат слышал о нем еще до пограничной службы. О следопыте Смолине часто говорили командиры на учебном пункте. Видел он фотографию Смолина в музее отряда, на праздничных стендах. Читал о его подвигах в газете пограничного округа. Видел документальную кинокартину. Знал клички его собак. Словом, сверхсрочник старшина Смолин был кумиром молодого солдата. Однако не то, совсем не то увидел Егорычев в своем кумире, что предполагал, на что надеялся. Смолин был неплохим парнем, но как мало был похож на Смолина, созданного чужими рассказами, плакатами, статьями, речами, кинохроникой и собственным воображением Егорычева! Давным-давно известно и тысячи раз доказано, что отрицательные черты являются своеобразным продолжением положительных и чрезвычайно полезных сторон характера, Всем был бы хорош двадцатилетний Егорычев, если бы сам, без подсказки твердо знал, куда и как приложить свои трудолюбивые, способные руки, если бы умел различить сдержанность и скромность от бесцветности, словесную пустую браваду от достойного гордого молчания, будничные дела от громкой фразы и героической позы, неброскую беззащитную простоту от пышной агрессивной напыщенности. Смолин был смущен чрезмерным к себе вниманием товарища, его преувеличенно восторженными расспросами. Отвечал напарнику как умел. Егорычев же принял лукавый самооговор за чистую монету и был сбит с толку. Некоторое время он соображал, что к чему. И сделал спасительный для себя вывод: отказался верить первому впечатлению. — Старшина, я давно хочу у тебя спросить: почему ты остался на сверхсрочную? — А что бы я делал на гражданке после демобилизации? Специальности не имею. Средней школы не кончал. Не такой начитанный, как ты. Пахать землю разучился. К городу не приспособлен. Смолин опять сказал не то, чего ждал и хотел Егорычев. — Выходит, тебе некуда было деваться, потому и остался, Так, да? — Я этого не говорил, Паша. Не выдумывай чего не надо. Я сказал: от добра добра не ищут. Зачем мне другая специальность, когда я на всю жизнь доволен следопытской? Этот ответ понравился Егорычеву. Но он захотел кое-что уточнить. — Значит, ты остался на границе сознательно, потому что любишь ее? — А кому было тошно от пограничной службы? Не встречал таких. Разговаривая, они ни на мгновение не отрывали глаз от целинных снегов, лежащих впереди. Над ними пламенел холодный голубой океан воздуха, пронизанный лунным сиянием. Лесная опушка отбрасывала на сияющую белизну синие тени. Бесшумно катилось по небу ледяное колесо месяца. Нет ничего более прекрасного, более печального и таинственного, чем белая ночная тишина и лунный свет на снегу. Егорычев осторожно взглянул на Смолина и тихо сказал: — Говорят, что, преследуя нарушителя, ты бегаешь как олень. — Не знаю, Паша, не слыхал таких разговоров. — Ну, а так это или не так? — Не могу сказать, не пробовал соревноваться с оленями. — Ну, а с Аргоном? — От Аргона не отстанешь. Он все время тащит тебя на аркане. — Говорят, преследуя нарушителя, ты пробегал без всякого отдыха по пятьдесят и шестьдесят километров. С автоматом. Патронами и гранатами. Бывало такое? — Не всегда бывает огонь там, где дымится. — Раз говорят, значит, так оно и было. Где же ты силы брал? Как одолевал такое пространство? — Экая невидаль! Всякий пограничник столько пробежит, если надо. Нарушитель потянет за собой и тихохода. Зевать, отдыхать и спотыкаться нельзя. Ты его, или он тебя. Середки нет. Говорили они тем особым пограничным шепотом, который не слышен и на расстоянии пяти шагов. Ближайшее же место, где мог затаиться чужой человек, — опушка леса на той, сопредельной стороне, — находилась от них метрах в трехстах. — Еще говорят, что ты действуешь и соображаешь как молния. — Не знаю. Со стороны виднее. Приглядывайся, потом мне расскажешь, какой я есть на самом деле. Егорычев уже смутно понимал, догадывался, что есть вещи и поступки, которые нельзя, не затрагивая естественного целомудрия и совести, называть своими именами. И несмотря на это, не мог остановиться. — Ну ладно. Если правильно говорят, что ты оборотистый, верткий и горячий, как же ты можешь столько часов лежать без движения да еще ничуть не скучать? — А ты что, Паша, разве заскучал? Егорычев, уткнувшись лицом в снег, засмеялся. — С тобой, старшина, никак не договоришься, Все время ускользаешь. — А ты перемени тему, и мы сразу найдем общий язык. — Один вопрос — и все. Скажи, чем понравилось тебе это место, где мы теперь несем службу? — Неужели ты сам не понимаешь? Оглянись! Пошевели мозгами! — Понимаю, но не все. Почему ты думаешь, что именно сюда, где мы лежим, сунется нарушитель? — А куда ему еще идти? Больше некуда. Самое выгодное направление. Рядом с границей лес, где можно скрыться и откуда можно вести наблюдение. Недалеко крупный железнодорожный узел, автомобильная дорога, большой город. Здесь в царские времена шастали контрабандисты. Все условия для нарушителя. — Ну, а еще что заставило тебя залечь здесь? — Какой ты дотошный!., Что еще? Перво-наперво — это приказ начальника заставы на охрану границы. — Ну, а разве твое пограничное чутье не оказало влияния на выбор места? — Чутье?.. Это само собой, Паша, основа основ. Фундамент и венец. Без него, как без соли, не сваришь ни борща, ни каши. Если у солдата нет чутья, он служит не на заставе, а в строительном батальоне. — Значит, у тебя есть предчувствие, что нарушитель пойдет прямо на нас? — Ну! Смолин тихонько ткнул напарника. — Брось, Паша, допрашивать. Посмотри лучше, что вокруг тебя делается. Ну и луна! Ну и снега! Ну и ночь! Сроду такой не видел. Но Егорычев был глух к природе. Смотрел и ничего не видел. Его мысли занимал Смолин. Он хотел знать до конца, что это за человек и как он стал знаменитым пограничником западной границы. Морозный месяц с бледным ореолом выкатился почти на самую середину неба. В его сильном свете тускло тлели звезды. Снега сверкали, отражая лунный свет. Каждая снежинка светилась нежным холодно-голубым огоньком. Ветви деревьев не шевелились. Мороз давил землю молча. Стояла тишайшая тишина. Полет летучей мыши — и тот произвел бы шум. Природа замерла, как всегда перед рассветом, и думала великую свою думу. В такую ночь не поднимется рука творить злое дело. Сейчас невозможно и думать плохо. Этот проникающий в душу свет, эта полная смысла тишина, этот предрассветный покой пробуждают в человеке только прекрасные мысли, чувства и желания, делают его сильнее, мудрее. Ночь-красавица. Ночь, щедро раскрывающая людям тайны величия каждого мгновения жизни. После долгого раздумья Егорычев опять заговорил и опять о своем, о том, что волновало его. — А что такое чутье? Откуда оно берется? Всем доступно или только таким, как ты, старшина? Смолин слышал голос Егорычева, но не понимал, что тот говорил. Все его внимание было отдано Аргону. Собака вскинула голову, настороженно поводила твердыми ушами и напряглась всеми мускулами. Она что-то слышала. Едва внятный скрип лыж на лесной просеке или мягкие шаги на снегу? Вкрадчивую поступь волчьих лап или панический бег оленей, кем-то напуганных? Источник звука удален от пограничников не менее чем на двести пятьдесят метров. Дальше Аргон не слышит малых шумов. Смолин смотрел на белую, залитую светом равнину, на дальний лес и думал: человек или зверь? В том, что сигнал не ложный, он не сомневался. Егорычев продолжал говорить. Смолин схватил напарника за руку, крепко сжал и заставил замолчать. Аргон повернул голову, выразительно, как бы подавая сигнал тревоги, посмотрел на Смолина. Ясно! Где-то близко пробирается человек. На волка или кабана Аргон реагировал бы глуховатым рычанием. — Что?.. Где? Откуда? — обалдело спросил Егорычев пересохшими губами. Смолин кивнул вперед, на чуть потемневшие, казалось, снега. Егорычев смотрел вперед во все глаза и ничего, ровно ничего не видел. Белизна, всюду белизна, ни единого темного пятнышка. Аргон возбуждался все больше и больше. Он был готов вскочить и бежать вперед, навстречу тому, кто двигался к границе. Смолин знал, что собака не сделает этого без команды, однако тихонько дернул поводок и шепнул в ухо: — Слушай, Аргон, слушай! — Нарушитель? — переспросил Егорычев. — Ну! — шепотом откликнулся следопыт. Егорычев смотрел туда же, куда и Смолин, на лесной выступ. Напрягал зрение, боялся пошевелить ресницами, не дышал, но ничего не замечал. Ребристые сугробы, толстые стволы сосен, одинокая береза на отлете. Больше ничего. — Вот показался! Видишь? И только теперь Егорычев увидел его. Белый до колен, а ниже — темный. Если бы не валенки, он вовсе сливался бы со снегами. Решительно вышел из леса и, не останавливаясь на опушке, быстрым шагом направился к границе по кратчайшей. На нем был маскировочный халат. Капюшон хорошо оттенял темное, видно, сильно загорелое лицо. На спине, под тканью, выпирал горб. Рюкзак или котомка. В руках что-то держал, кажется, небольшой чемоданчик. «Смотрите, пожалуйста, какой нахал! — подумал Смолин. — Прет через границу с багажом, как обыкновенный пассажир». Чуть повернув голову к напарнику, он выдохнул: — Подпускаем вплотную. Неизвестный шел туда, где лежали пограничники. Ни шага влево, ни шага вправо. Напрямик. Будто выверил направление. Вот это обстоятельство больше всего и поразило Егорычева. Молодой солдат ясно видел надвигающегося на него из-за границы человека и не верил своим глазам. Нарушитель? Неправдоподобно. Идет как на тренировке во время учебного поиска. Не ползет. Не оглядывается по сторонам. Во весь рост шагает. Обыкновенно, как все люди. В руках чемоданчик. До чего же не похож на преступника! Может, заблудился человек? Егорычев чуть ли не всю ночь ждал нарушителя, думал о нем, говорил — и все-таки оказался не готовым к встрече с ним. Руки и ноги вдруг окоченели, перестали повиноваться. Сердце заколотилось о ребра так, что и нарушителю, наверно, слышно. Зубы стучали. Презирал себя Паша Егорычев, ругал, но ничего не помогало: автомат вывалился из рук. К счастью, он догадался взглянуть на Смолина. Лицо старшины было спокойным. Губы плотно сжаты. Нормально себя чувствует человек. Лежит, как прежде, в удобной позе, будто и не приближается к нему опасный государственный преступник. Вот это да! Вот это парень. И молодой солдат в одно мгновение постиг все, что было неуловимо для него в течение длительного времени. Он подобрался и крепко сжал автомат. Теперь все, теперь не оплошает! Войдя в зону собственно границы, в узкое пространство между пограничными столбами, на ту незримую линию, которая разделяет два государства, неизвестный остановился. Смолин ждал этого. Многие нарушители, те, за которыми он наблюдал в разное время, люди различных национальностей, старые и молодые, опытные лазутчики и начинающие ходоки, почему-то не преодолевали рубеж бездумно, что называется, одним махом. На какое-то мгновение замирали между столбами. Или сокращали шаг и беспокойно оглядывались. Так или иначе, невольно своим поведением показывали, что переступают важный, может быть, роковой для себя рубеж. Постояв две или три секунды, человек двинулся дальше. Вышел чуть правее притихших пограничников. Смолин пропустил его и, немного выждав, крикнул: — Стой! Ни с места! Нарушитель резко застопорил, словно ударился о невидимую стену. Чемоданчик упал в снег. — Руки вверх! — приказал Смолин. Прежде чем поднять руки, нарушитель сделал правой рукой резкое движение в сторону. «Что-то выбросил — подумал Смолин. — Ничего, найдем!» Пограничники подбежали к нарушителю. Егорычев стоял с автоматом наготове, а Смолин обыскивал. Достал из карманов все, что там было: пачку бумаг и денег, паспорт, военный билет, записную книжку, плитку шоколада, пузырек с таблетками, сигареты, зажигалку. — А где твое оружие, голубчик? — Что ты, солдат! Какое оружие? Зачем оно мне? Я слуга божий. Божий человек. Голос нарушителя удивил Смолина. Бесстрашный. Звучный. Дурашливо-веселый. Странный для нарушителя голос. Смолин стянул капюшон с головы «божьего человека». Молодое, сытое, здоровое лицо обросло черной бородкой. На пухлых губах беспечная улыбочка загулявшего лоботряса. Глаза или хмельные, или от природы глупые. Бессмысленно было спрашивать, кто он, откуда, куда и зачем идет. В заплечной сумке и чемоданчике Смолин обнаружил иконки, отпечатанные на тонком картоне, латунные крестики, инструкцию под названием «Как и когда молиться богу» и сотни три крошечных памяток с молитвой «Отче наш». Смолин не поверил и этим, как будто объективным данным. По своему опыту отлично знал, что под маской христианских проповедников не раз пытались пробраться к нам диверсанты, разведчики, террористы. Впрочем, не исключено, что преступник был тем, за кого себя выдавал. Нарушитель все время, хихикал, пока Смолин обыскивал его, и бормотал себе под нос что-то чересчур веселое для молитвы. Смолин спросил: — Ты что, божий человек, псалом поешь по случаю задержания? — Ага, псалом: «Выходила на берег Катюша». — Что, что? — «Выходила на берег Катюша, выходила на берег крутой. Выходила, песню заводила…» Я знаю еще один… «Капитан, капитан, улыбнитесь!..» И бабью прибаутку могу спеть. Он надвинул на голову капюшон, подпер подбородок ладонью и пропел тоненьким бабьим голоском русскую частушку.Прощай, Аргон!
Собака взяла след двух нарушителей и всю ночь уверенно вела Смолина и тревожную группу. А перед рассветом сравнительно недалеко от железной дороги вдруг Аргон фыркнул, сердито мотнул головой и остановился. Случилось невероятное. То, чего не бывало за все девять лет пограничной жизни Аргона. Виновато виляет хвостом, беспомощно смотрит на Смолина и жалобно повизгивает. — Ну, что, псина, устал? Давай отдыхай. Рукавом бушлата смахнул росную влагу с пышной густой шерсти собаки и слегка надавил ладонью на крестец. — Сидеть! Он сел, но скулить и зевать не перестал. — Успокойся, дружок! Тихо! Возьми себя в лапы. Не маленький. Не хлюпик и нытик. Боевая собака. Ну! Вот так. Молодец! Туман стлался по низинам, по луговым травам. Под толщей облаков заблестел, затеплился первый уголек утренней зари. Посвежело. От земли сильнее повеяло сыростью. Поднялся ветер. Над темным лесом на краю кеба отчетливо проступала багрово-белая полоса, будто только что извлеченная из кузнечного горна. Стали видны деревья, каждое в отдельности. Гасли и проваливались в глубину небес звезды. Первая стая журавлей снялась с глухих озер и взяла курс на юг. С немыслимых журавлиных высот доносилось печальное, хватающее за сердце курлыканье. Смолин стоял около Аргона, смотрел в темное небо, слушал журавлей и с наслаждением отдыхал. Тяжело досталась сегодняшняя ночь. Да разве только сегодняшняя? Редко какой рассвет заставал его в постели. Чаще всего новый день он встречал на пограничной тропе, в ночном дозоре, у контрольно-следовой полосы, в бою с врагами. Или в стремительном, как теперь, преследовании нарушителей. Говорят, ко всему человек привыкает. И правда это и неправда. До поры до времени долг и молодость, сознание и сила, соревнование с товарищами, законное желание порадовать людей и показать себя в наилучшем свете действуют безотказно. Но есть предел и выносливости. В последнее время Смолин стал с горечью замечать, что бегает без прежней легкости и скорости, быстро, через какие-нибудь пятнадцать километров преследования, начинает спотыкаться и тяжело дышать. Огрузнел крылатый следопыт. Набрался лет. Летят, летят в прошлое годы. Недавно Сашке Смолину было двадцать, а теперь за тридцать перевалило. Аргон, кажется, еще вчера щенком был, а сегодня у него серебристая холка и глаза по утрам закисают. Одиннадцать ему исполнилось, двенадцатый пошел. Пора списывать. Старик. И он тоже бегает без прежнего азарта. И на своих врагов бросается осмотрительно, осторожно. И уже не прорывается без всякого толчка извне былая жизнерадостность, озорство. Стал очень спокойным, уравновешенным, серьезным. Не томится, не скучает в одиночестве. Может часами лежать в своей будке и безучастно смотреть в одну точку. Скоро, очень скоро придется распрощаться друзьям. Страшно и подумать об этом. Аргон ткнулся своим холодным, чуть влажным носом в руку Смолина: все, мол, передохнул, могу работать. Следопыт тяжело вздохнул, потрепал холку собаки. — Ну что ж, веди, если отдохнул. Ищи! След! Аргон пригнул морду к самой земле, а след не берет. Опять фыркает, скулит, виновато поджимает хвост и беспомощно оглядывается на Смолина. В чем дело, псина? Потерял след? Нет. На росной траве даже в неясном свете утренних сумерек достаточно хорошо видны двойные отпечатки обуви нарушителей. Вероятно, след обработан какой-то химией. Смолин опустился на корточки, понюхал отпечаток и сейчас же отдернул голову. — Что такое, старшина? — спросил Боря Васильев. — Чего скривился, как середа на пятницу? — Дело пахнет керосином! Слыхал такое отчаянное ругательство? — Ну? — Нарушители обработали следы керосином. — Ну и что? — Все! Аргон вышел из строя. — Почему? Разве он не чует керосина? — Чует. Слишком даже чует. И нос воротит. Раздражитель чересчур сильный, чересчур грубый. И опасный. Придется нам с тобой, Боря, исполнять собачьи обязанности. Держи! — Он передал солдату поводок. — Отойди с Аргоном подальше и наблюдай. Включил электрический фонарик, пригнулся к самой земле и медленно, ориентируясь по слабым, еле видным отпечаткам, пошел вперед. В некоторых местах, на твердой земле отпечатков вовсе не было. Приходилось искать в разных направлениях. А время шло. Нарушители отрывались все дальше и дальше. Скорость преследования резко упала. Рассвело. Всходило солнце. Просыпался и начинал свою утреннюю жизнь лес. Смолин, против обыкновения, не слышал песен птиц, не видел красок нарождающегося дня. Не до того. Продвигался вперед со скоростью черепахи, а нарушители… Если такими темпами будет продолжаться преследование, нарушители на два-три часа раньше пограничников доберутся до железной дороги, сядут на поезд — и поминай как звали. Послышался топот лошади. Смолин обернулся. В желто-зеленой лесной прорези показался белый конь. На нем лихо, чуть-чуть боком, с фуражкой набекрень, со спущенным на подбородок ремешком, как настоящий казак, сидел начальник заставы капитан Шавров. Подскакал к следопыту, круто, картинно осадил жеребца, так, что тот на дыбы взвился. Спрыгнул на землю и веселыми глазами посмотрел на следопыта. — Ну как, старшина, все в порядке? — Нет, товарищ капитан. — Потеряли след? — Нет. Стоим на следу, но… — В чем же дело? Огонь потух в глазах у капитана, а вместе с ним и веселость. — В чем дело, старшина? — властно повторил он. — Дело пахнет керосином. — Бросьте балагурить. Отвечайте толком, что случилось. — Нарушители обработали следы керосином. Аргон отказывается брать. Я вот вместо него работаю. — Ну и ну! Смотрите, до чего додумался! Смех и грех. — Ничего смешного в этом не вижу, товарищ капитан. Керосин, как вы знаете, чересчур сильный раздражитель для Аргона. — Смотрите, пожалуйста, какой он у тебя нежный! Где воспитывался? В пансионе благородных девиц или в пограничном собачьем питомнике? Ладно, хватит дискутировать. Давай, ставь своего Аргона на след.Дорога каждая секунда. — Слушаюсь, товарищ капитан. Я в точности выполню ваш приказ, но и предупреждаю: керосиновый запах очень опасен для собаки, можно сказать, губительный. — Вот так новость сообщил! На всей границе всегда и везде опасно служить. Опасность — это повседневная жизнь пограничника. Неужели вы этого не усвоили до сих пор, старшина? — Пропадет собака, товарищ капитан, А я и без нее задержу этих нарушителей. Начальник заставы как будто дрогнул. Лицо утратило упрямство и решительность. — Так время же идет, голова! Упустим врага. — Вы не беспокойтесь, товарищ капитан. Я все сделаю как надо. — Да как же мне не беспокоиться? Я собственной жизнью и честью отвечаю за охрану границы. — И я, товарищ капитан! — Так чего ж ты рассусоливаешь? — Я хочу задержать нарушителей без всяких потерь с нашей стороны. На час позже, но схватим. Даю вам слово, товарищ капитан. Не уйдут! Поезжайте на заставу или куда-нибудь еще и ждите моего сигнала. — Ты не указывай, где мне быть во время боевой обстановки! Ставь собаку на след! — Есть ставить собаку на след. Давай, Боря. Васильев с Аргоном подбежали к Смолину. Следопыт взял скомканный поводок, и делая вид, что распутывает его, не глядя на разгневанного капитана, сделал еще одну отчаянную попытку спасти своего друга. — Высшая нервная деятельность собаки может быть сорвана непосильной задачей. При чрезмерном напряжении раздражительного и тормозных процессов у розыскной собаки развивается невроз. Так черным по белому написано академиком Павловым. Аргон испортится после работы по керосиновому следу. Никогда больше не возьмет индивидуальный запах. Спишут его с границы. — Смотрите пожалуйста, какой у нас высокообразованный следопыт! — Товарищ капитан, такие вещи теперь знает всякий инструктор службы собак. Это азбука. И вы знаете, но почему-то… Капитан Шавров вдруг обнял Смолина и сказал мягко: — Знаю, Саша, все знаю. И тем не менее… Надо схватить лазутчиков как можно скорее. Надо! Понимаешь? Любой ценой. Переступи через жалость к Аргону. — Товарищ капитан, поставить Аргона на след я могу, а от остального увольте. — Он резко дернул поводок и во весь голос, чем удивил собаку, приказал: — Ищи! След! Аргон потянул морду к земле, фыркнул, беспомощно заскулил. Смолин не стал терять времени и доказывать капитану свою правоту. Сам стал на след, благо он хорошо был заметен, и помчался как спринтер. При такой скорости никаких отпечатков, конечно, не увидишь. Он больше на свое следопытское чутье и догадку полагался, чем на глаза. Аргон некоторое время бежал позади. Но такая позиция была для него непривычна, и он обогнал своего друга и, превозмогая отвращение к керосиновому запаху, фыркая, визжа, мотая головой, довольно неуверенно затрусил впереди. Несколько раз сбивался со следа, забирал круто вправо и влево. Смолин, не останавливаясь, на ходу, энергичной командой возвращал его на место. Капитан Шавров сел на лошадь и рысью следовал за пограничниками. Никого не торопил. Молчал. Прекрасно сам видел, как тяжело достается и собаке и Смолину каждый шаг. Пробежали около километра, и вдруг керосиновый запах пропал. Как ни принюхивался Смолин, его нет и нет. Выветрился? Или нарушители посчитали, что нет необходимости обрабатывать дальше след керосином? Скорее всего — последнее. Смолин по инерции пробежал еще немного, Остановился. Перевел дух. Смахнул с лица пот. Погладил по голове Аргона. Подъехавшему капитану не стал объяснять, как обстановка резко изменилась к лучшему. Сам увидит, если захочет. — Ищи! След! — скомандовал он. Теперь сразу, как в лучшие времена, Аргон взял след верхним чутьем и повел. Солдаты не успевали за следопытом. Отстали. Капитан рысил позади и чуть сбоку. Он снова стал молодым, счастливым, дружелюбным. Поторапливал тревожную группу. Подбадривал следопыта: — Вышли на прямую, Саша!.. «Горячий» след!.. Свежайший! Поднатужься! Скоро схватим. Нарушителей накрыли в кладке железнодорожных противозаносных щитов. Они были вооружены, но не оказали сопротивления. Умаявшись за ночь, к тому же еще изрядно выпив, оба крепко спали. Среди вещей, отобранных у диверсантов, была фляга с керосином и черные, с крепкими тесемками, большого размера тапочки. Эти самодельные суконные лапти, смоченные в керосине, легко надевались на сапоги, зашнуровывались. Нарушителей сковали наручниками, повели на заставу. Смолин с Аргоном шли позади. К ним присоединился спешившийся капитан. — Не пропал, Саша, твой красавец и умница Аргон. Цел и невредим. Еще повоюет. — Перестраховщик я, товарищ капитан. За широкую спину академика Павлова спрятался. — Ну, это ты наговариваешь на себя. Правильно боялся за Аргона. И вовремя, в самый раз вспомнил академика Павлова. Розыскная собака — тонкая нервная штука. С ней надо бережно обращаться. — Но и не держать под тепличным колпаком. Всегда и везде должна работать розыскная собака, товарищ капитан. Начальник заставы с удивлением посмотрел на следопыта, засмеялся: — Мы, кажется, поменялись с тобой ролями… Теперь я защищаю Аргона, а ты нападаешь на него. — На себя я нападаю, товарищ капитан. Уважал я, любил Аргона, но все-таки не так как надо. Недооценивал. Он делает все, что делают лучшие собаки. И еще сверх этого столько же, чего другие сделать не могут. — Смотри, брат, не перехвали, не сглазь. — Ничего с ним не сделается. Он у меня железный.Свой почтенный возраст, какие бы у тебя ни были природные данные, далеко не спрячешь. Раньше всех заметил перемены в Аргоне майор Николаев, старый друг и первый учитель следопыта Смолина. Раньше он не мог без восторга, без широчайшей улыбки смотреть на Аргона. Ходит, бывало, вокруг и неудержимо нахваливает собаку. Теперь, увидев Аргона, сразу же нахмурился. Внимательно, придирчиво осмотрел его, покачал головой, вздохнул. — Н-да! Эх, Аргон, Аргон! — Что такое, Александр Михайлович? — Ничего особенного на первый взгляд. — А не на первый? — Время есть время. Оно неумолимо движется. Нет силы, способной остановить его. Смолин хорошо знал характер Николаева. Если уж он, великий оптимист, самый доброжелательный человек, так заговорил, что Аргон действительно выглядит худо. — Александр Михайлович, вы думаете, сдал наш герой? — А ты сам не видишь? Привык? Пригляделся? Считаешь вечно молодым, бессмертным? — Да чем он вам не понравился? Даже керосиновый след на днях проработал. Не каждая собака способна на это. Майор грустными глазами смотрел на Аргона. — Смотри, Саша, можешь остаться на мели. Ищи, пока есть время. Собаки в возрасте Аргона выходят в тираж внезапно. Сейчас его нервы напрягаются даже после короткой работы по следу. Срыв может произойти в любой момент. — Какой там срыв! Нервы у Аргона железные. — Тебе, конечно, виднее, но мой долг предупредить тебя. Не нагружай его сверх всякой меры. Пусть работает по свежему следу. — Напрасно вы беспокоитесь, Аргон не такой как все. Сверхсобака. — Сам себя уговариваешь, Саша! Положение Смолина было сложное. Он, по существу, спорил не только с Николаевым, но и с самим собой. В глубине души прекрасно понимал, что пробил последний час Аргона. С честью и славой отслужил он свой двойной срок. Пора ему уходить. Трудно, чертовски трудно Смолину отказываться от своего друга. — Мы еще задержим с ним не менее дюжины голубчиков. Вот увидите. — Может, задержите, может, нет. Бабушка надвое гадала. На всякий случай, Саша, я подобрал подходящего наследника Аргону. Есть на примете один щенок-симпатяга. Еще года нет, а ростом уже как Аргон. И масть такая. И хватка. И восприимчивость. Как две капли воды похожи, отец и сын. Да, да, это прямое потомство Аргона и Ласки. Знаешь, как мы назвали его? Грозный! — Александр Михайлович, не надо мне наследника. Даже Грозного. Пока! А там видно будет. — Надо, Саша, надо! Молчи, брат! Начальство не любит возражений.
Нарушитель прорвался через КСП темным вечером, во время сильного дождя. Вода сейчас же заполнила глубокие вмятины на рыхлой земле. Ночью ливень перестал. Ветер расчистил склоны гор, заваленные тяжелыми тучами, и угнал непогоду вниз, в долины. На рассвете небо прояснилось. Выступили по-зимнему яркие звезды. Резко похолодало. К утру грязь окаменела. Застыли все лужи, и побелели зеленые еще травы. И только в это время, уже при свете дня, пограничный наряд обнаружил на КСП под ледяной коркой отпечатки сапог рослого, увесистого, пудов на шесть-семь нарушителя. Такого здесь еще не бывало. Всю ночь не ведали пограничники о том, что нарушитель устремился в наш тыл. Начальник заставы прекрасно понимал, как трудно было наряду в сплошную темень, при ливне, секущем и заливающем землю, обнаружить прорыв неизвестного. Еще труднее стало потом, когда ударил мороз и скрыл почти все следы нарушителя. Не было никаких оснований обвинить наряд в том, что он проглядел, прозевал, не проявил оперативной сообразительности и т. д. Тяжелейшее и редчайшее стечение обстоятельств, счастливых для преступника и несчастливых для пограничников, создали на границе сложную обстановку. И все же капитан Шавров не мог удержаться, чтобы не устроить старшему и младшему наряда разнос. И был уверен, что поступил правильно. Пограничник по призванию и подготовке должен безотказно и точно действовать в самых труднейших условиях непогоды, преследования, схватки с нарушителем. Должен любую сложнейшую обстановку превращать для себя в простую, а для врага — в безвыходную. Капитан Шавров, Смолин с Аргоном и несколько солдат из поисковой группы стояли на государственном рубеже и сосредоточенно рассматривали отпечатки. Тревогу выражали их лица. Не может пограничник спокойно смотреть на КСП, оскверненную врагом. Контрольно-следовая полоса — это святая святых каждой заставы, чистейшее зеркало, в котором отражается ежедневный труд, воинская выучка и бдительность большого коллектива. Пограничники и днем и ночью холят КСП: выпалывают и одинокую травинку, вскапывают, рыхлят бороной и граблями, разминают руками каждый комок, присыпают скалистые склоны толщей мягкой земли, убирают камни крупнее грецкого ореха, сейчас же заделывают следы лося, козы, медведя, орла, галки или зайца. Капитан Шавров осторожно разбил застекленный отпечаток, выбросил все льдинки, посмотрел на Смолина. — По-моему, след двенадцатичасовой давности. А ты как думаешь, Саша? — Не меньше. Если не больше. — Ситуация! За двенадцать часов можно далеко уйти. Нарушитель, может быть, завтракает в Киеве или Дрогобыче. Не исключено, что к Москве подлетает или Харькову. — Нет, товарищ капитан, так далеко он не мог оторваться. — Почему? В его распоряжении была уйма времени. — Если бы он это знал! Ни один нарушитель, переступая границу, не бывает уверенным в удаче. Каждый ждет погони и принимает меры., чтобы скрыть следы. И этот тоже. — Может, и так. Тебе, Саша, видней. Сколько на твоем счету нарушителей? — За сотню перевалило. — Ну, а я за пятнадцать лет и десятерых не схватил. Да, ситуация! Первый раз в жизни сталкиваюсь с такой. Непременно попадет в учебник. Он разбивал ледок на отпечатках и размышлял вслух. — Мужик здоровенный, увесистый. Навьючен грузом. Вооружен. — Если навьючен, значит, далеко не ушел, — подсказал Смолин. — А может, ему и не надо далеко уходить? Может, у него явка в Стрые или Дрогобыче или поближе где-нибудь? Ну, ладно. Возьмет или не возьмет Аргон след такой давности? Впрочем, зачем я спрашиваю. Я ведь знаю, что наша окружная школа-питомник посылает собак за границу для службы, если они способны брать след полуторачасовой давности. А собака, прорабатывающая трехчасовой след, считается выдающейся. Ведь так? — Так, товарищ капитан. Беда не только в том, что след давний. Он еще льдом покрыт. В таких условиях и Аргон бессилен. — Да, ты прав, Саша. Будем искать без собаки. Я уже сообщил в отряд. Там принимаются меры для блокирования. Если бы начальник заставы настаивал, как в прошлый раз, Смолин, возможно, проявил упорство. Но Шавров сейчас был необыкновенно мягок, терпелив, щадил Аргона, целиком полагался на опыт следопыта. — Товарищ капитан, давайте заставим поработать Аргона, — сказал Смолин. — Рискованно. На днях был у меня разговор с майором Николаевым. Он умолял маня щадить старика Аргона. Может сорваться собака от перенапряжения. — И мне он говорил. Разуверился в Аргоне. Попробуем, товарищ капитан! Ничего с ним не станется. — Нет и нет! Николаев специально предупредил меня. — Беру ответственность на себя. Горячие пышки — вам, а мне — шишки. Ну, товарищ капитан?! — Соблазн, конечно, велик, но… Нет, я не хочу, чтобы ты потом вспоминал меня плохо. Отставить Аргона! Сами как умеем пойдем по следу. — Капитан, как и майор, убежден, что Аргон старик, кандидат в отставники. И Смолину захотелось доказать, что они ошибаются, что молод Аргон в свои одиннадцать, что еще любая работа ему по плечу. — Товарищ капитан, я прошу вас!.. Очень прошу. — Ну, если просишь… Давай тащи сюда старикана. Может, и в самом деле получится. Смолин подбежал к сидящей в стороне от КСП, скучающей собаке. Потрепал по загривку, поцеловал в холодный нос. — Ну, псина, работай. Или пропал, или… коронная победа. Аргон лизнул своего друга в щеку, возбужденно завизжал, запрыгал вокруг. Рад предстоящей работе. — След! Ищи! Аргон дольше, чем обычно, обнюхивал лунки, сделанные тяжелыми следами нарушителя, запоминал слабый, еле уловимый запах. «Бери, милый, бери! — мысленно умолял Смолин. — Поднатужься, дорогой! Ну! Еще! Пожалуйста, еще!» — Хорошо, Аргон, хорошо! — произнес он вслух дрожащим, срывающимся голосом. — След! Ищи! Аргон покинул КСП и побежал по целинной земле, вплотную примыкавшей к границе. Тут, на густой побелевшей траве кое-где отчетливо темнели отпечатки. Но дальше, в поле, на оледеневшей стерне Аргон резко сбавил и, наконец, застопорил. След пропал. Скрыт льдом, не источает запаха. Туда-сюда мечется собака, крутится вокруг собственной оси. Визжит, скулит, глаза полны страдания. Страдал и Смолин. — Сидеть, Аргон! Отдохни. Послушался, сел. Но не отдыхает. Продолжает страдать. На какое-то мгновение Смолину стало страшно за Аргона. Двенадцатичасовой след — неимоверно трудная, почти непосильная задача. Может быть сорвана высшая нервная деятельность и тем самым вся условно-рефлекторная работоспособность собаки. Много хороших мыслей приходит нам. Но не всегда мы успеваем превратить их в доброе дело. Внутренний голос предупреждает в критические минуты поступать так, а не этак, но мы часто глухи к нему, И чем больше побед и удач, тем менее мы осторожны. Аргон просился в бой, и Смолин поднял его, бросил вперед. Отдохнувшее обоняние действовало недолго. Уже через километр собака снова заметалась, завертелась на месте, заскулила, была необычно возбуждена. И в движениях пропала разумная расчетливость, они стали хаотичными. Возьмет след и сейчас же потеряет, мечется вперед и назад. Измучила и себя и Смолина. К счастью, начался лес. Здесь нет льда, лужи не замерзли и отпечатки хорошо сохранились на сырой земле и прелых листьях. Последние километры Аргон пробежал резво, уверенно, как в лучшие дни. След вывел на железнодорожную станцию, на глухие запасные пути. Нарушителя извлекли из кучи старых шпал. Странно вел себя Аргон во время задержания. Раньше он остервенело бросался на пойманного. Теперь и не приблизился. Беззлобный, поджав хвост и сложив уши, остановился метрах в трех и не собирался идти дальше. Вроде был скован страхом. Смолин так был встревожен переменой в Аргоне, что тоже не проявил интереса к нарушителю, доставившему ему столько хлопот. Сдал конвоирам — и забыл. Все внимание Аргону. Жалко ему было смотреть на пса. Дрожит от напряжения. Много раз поощрял его Смолин командой «хорошо», усаживал, давал отдохнуть, гладил, успокаивал — ничего не помогало, Не угасала возбужденность, будто защемило, заклинило какой-то тормоз. Нарушитель пойман, а собака все еще скулит, визжит, мечется, плохо воспринимает команду. Вот, кажется, и случилось то, о чем предупреждал майор Николаев и во что не хотел верить Смолин. Да он и сейчас не верил в непоправимую беду. Нет никакого нервного срыва. Просто переусердствовал Аргон, устал. Через день, два войдет в норму.
Прошло три недели, а собака не только не вошла в норму, но сильнее страдала. Невроз развивался катастрофически. Двигательная возбудимость приняла хаотический характер. Аргон беспрерывно порывался куда-то бежать, вертелся на месте. Вставал на задние лапы, бросался на ограду питомника. Когда Смолин подвигал ему кормушку, пес или отворачивался, или скрывался в будке. Когда же убирал кормушку, собака вдруг вспоминала, что голодна, и тянулась к пище. Аргон, всегда такой общительный, любивший раньше во время походов спать с солдатами на сеновале, теперь чуждался людей. Как подойдет кто-нибудь из пограничников, он поджимает хвост и убегает в будку. Через два месяца приступы невроза стали затихать. Но он стал терять слух. И было от чего. Сколько раз бандеровцы били его прикладами автоматов по голове! Сколько нервных нагрузок вынес мозг собаки! Смолину приходилось отдавать команды собаке криком. Но скоро и крик перестал доходить до ушей Аргона. Понимал только жесты. Потом стало отказывать и зрение. В пяти шагах стоит от своего друга — и не узнает. Целыми днями, спрятав голову, дремлет в будке. Выйдет, поест — и опять в свое убежище. Все ясно, но Смолин не мог и подумать о расставании с Аргоном. Он числится на пограничной службе, получает все необходимое. Тем временем на заставе появился Грозный.
Лишь однажды помолодел Аргон, оживился, обрел как будто слух, зрение, обоняние. Дело было так. На заставе объявили тревогу: был поднят весь личный состав. В общую работу включился по приказанию начальника и Смолин. Назначая его старшим поисковой группы, капитан Шавров сказал: — На этот раз, Саша, тебе придется поработать в качестве чистого следопыта. Можешь взять Грозного, если есть охота. Пусть щенок обнюхает границу, приучается к работе и к тебе. Смолин рассматривал носки своих сапог и молчал. — Ты что, старшина, задумался? — Виноват, товарищ капитан. Разрешите выполнять ваше приказание? — В чем дело, Саша? Тебя что-то тревожит? — Все в порядке, товарищ капитан. Готов преследовать нарушителя. — А если честно? — А если честно, то, товарищ капитан, мне очень тяжело. Первый раз за девять лет буду без Аргона работать. — Так, может, останешься на заставе? — Нет, пойду со всеми. Капитан помолчал, посмотрел в сторону питомника, где лаяли возбужденные тревогой собаки. И Аргон присоединил свой хриплый голос к общему хору. — Я бы на твоем месте забежал сейчас с Грозным к папаше Аргону, попросил «благословения». Начальник заставы улыбнулся. Но Смолин ответил ему совершенно серьезно. — Я так и сделаю, товарищ капитан! Побежал в питомник, взял Грозного, зашел в выгон Аргона. Старик выскочил из будки, обнюхал щенка, тронул его, дружелюбно оскалил желтые изъеденные зубы. Вызывал на игру. Молодому сильному Грозному было скучно со стариком. Не отозвался. Запросился на волю. Туда, куда устремилась вся застава. Смолин погладил своего старого друга и сказал: — Идем на поиск, Аргон. Пожелай нам удачи. Закрывая дверь, оглянулся. Аргон стоял посреди загородки. Морда опущена. Обыкновенная собачья морда. Но глаза вдруг обрели человеческую выразительность и до краев были полны смертной тоской и печалью. Смолину стало страшно. — Прощай, Аргон! — дрогнувшим голосом сказал он и побежал на заставу. Грозный помчался следом. Щенок возбужденно лаял и легонько хватал следопыта за полу бушлата. Там, где остался Аргон, послышался протяжный вой. Но Смолин уже не обернулся: не было сил.
Следопыт
Появление Смолина и необученного Грозного на границе, на месте прорыва изумило и рассмешило всю поисковую группу. — Зачем ты притащил его, старшина? Он же молокосос. — Спрашиваешь! Пусть враги смотрят на Грозного и трепещут. — Правильно! Это лев, а не собака. Нарушитель от одного его вида портки потеряет. Смолин лукаво улыбался и помалкивал. — Нет, Сашка, зачем тебе щенок понадобился? Он же еще глупый по всем статьям. — Ну, и сказанул! Следопыт Смолин не будет дружить с глупым псом. Грозный — с семью пядями во лбу. Все папашины таланты унаследовал. — Ну, ну, побачим, сказал слепой! И теперь следопыт не откликнулся. Прекрасно понимал своих товарищей. Будь на их месте, тоже не удержался бы от соблазна позубоскалить. Русские люди любят шутку и веселое слово. Грозный, сдерживаемый на коротком поводке, крутился и прыгал вокруг Смолина, просился на волю. — Видали молодца! — с деланным восторгом закричал ефрейтор Малинин. — На работу рвется. Давай, старшина, пускай. Пусть ищет. Смолин обвел взглядом обступивших его солдат и строго сказал: — Ну, хватит, острословы, Держи! Он передал поводок ухмыляющемуся ефрейтору, направился к контрольно-следовой полосе и начал изучать следы нарушителя. Пограничники притихли. Стояли в сторонке и напряженно ждали, что сделает и скажет следопыт. Смолин поднялся и, прищурив глаза, посмотрел в ту сторону, куда вели следы — в горный весенний лес, наполовину ржавый, наполовину зеленый. Мысленно прокладывал возможный путь нарушителя. Леса он, конечно, не минует. Все заграничные ходоки, переступив государственный рубеж, стараются как можно быстрее уйти с открытого места. До леса его путь ясен. А дальше? Куда направился: в сторону города Н., на главную магистраль Стрый — Львов — Перемышль или к железной дороге, ведущей в Закарпатье? В работе каждого следопыта, с собакой он или без собаки, вот эта первая минута работы на исходных позициях очень важна. Нельзя бросаться вперед очертя голову, не пытаясь отгадать намерения и действия врага. И чем опытнее пограничник, чем способнее, тем он меньше позволяет себе пороть горячку. Время — важный фактор для пограничника. Время же, осмысленное и обеспеченное соответствующими действиями, — вдвойне важнее. Смолин остановил взгляд на ефрейторе, державшем Грозного. — Малинин, позвоните на заставу, доложите дежурному, что мы направляемся в Ближний лес. Оттуда — смотря по обстоятельствам. Приказ был отдан строгим тоном. Но уже через мгновение лицо следопыта расплылось в широчайшей, обаятельной улыбке. Пограничники, еще не понимая в чем дело, заулыбались ему в ответ. Все любили его, всегда ждали самого удивительного поступка, самого неожиданного слова. Саша Смолин за двадцать с лишним лет своей пограничной службы научился работать не только мастерски, с полной мобилизацией физических и нравственных сил, талантливо, самоотверженно, храбро, не жалея себя, с наивысшей ответственностью, но и непринужденно, весело. Было у кого поучиться ему. Пограничники разных поколений, как правило, народ жизнерадостный, находчивый, всегда сохраняют достоинство, но и не прочь при удобном случае посмеяться. Не переставая улыбаться, Смолин скомандовал: — След! Его товарищи не сразу поняли, что он отдал команду самому себе. — Хочу посоревноваться со своим другом Аргоном, — пояснил Смолин. — След! Ищи, следопыт! Солдаты оценили шутку и рассмеялись. — Интересно! Кто — кого! Ну-ка, давай, давай, Сашок. Становись на четвереньки. — Ничего, я и так, в полный рост справлюсь. Это были последние шутливые слова за все последующие часы поиска. Он начальственным глазом посмотрел на молодых пограничников и спросил: — Как вы думаете, товарищи, случайно или не случайно нарушитель сунулся именно сюда, на наш участок? Солдаты смущенно молчали. — Малинин, вы, кажется, самый смелый. Давайте говорите. Ефрейтор покраснел и попытался ответить. — Не случайно, товарищ старшина. — Так. Хорошо. А почему вы так думаете? Давайте доказывайте, почему он перешел границу именно здесь, а не правее или левее? — На этом участке низина и болотные места. Они и в хорошую погоду плохо сохраняют следы, а после дождя и вовсе ни единого отпечатка не обнаружишь. — И что из этого следует? — Нарушитель хорошо знает границу и прилегающую местность. — Так. А еще? Солдат Рябов поднял руку. Смолин кивнул ему. — Он долго ждал непогоды: когда земля окончательно оттает после морозов, насквозь пропитается водой и превратится в болото. — Совсем правильно. А еще? Рябов молчал. Его могучие руки сжимали автомат так, что побелели пальцы. — Больше ничего не могу сказать, товарищ старшина. — Ладно. А вы, Доронин, можете добавить что-нибудь? Солдат, огромного роста, румянощекий, белобровый северянин, уверенно сказал: — Могу, товарищ старшина. Я думаю так. Нарушитель не новичок. Бывалый. Нахальный. Настырный. Знает, как охраняем мы границу, как преследуем. — Верно! Я тоже так думаю. Обратите внимание на контрольно-следовую полосу. Видите, все отпечатки, хотя он прошел недавно, уже затянулись водой, стали «слепыми». Ничего нельзя понять, кто и как, в какой обуви прошел, Это не случайное совпадение — весенняя непогода и прорыв. Нарушитель рассчитал, где, когда и как следует идти. Значит, вывод Доронина совершенно правильный. Ну, теперь мы знаем, какого зверя будем преследовать. И соответственно должны быть готовы… Малинин, ты, кажется, хочешь что-то сказать… — Хочу, товарищ старшина. Как же мы будем преследовать, если он не оставил следа? Нужна собака, а ее нет. На этого несмышленыша, — он пренебрежительно взглянул на Грозного, — надежды мало. — На Грозного совсем не надо надеяться. Он нам не поможет. Только на самих себя надейтесь. На свою выучку. На свои глаза, ноги, ум. Короче говоря, сегодня мы должны стать следопытами. В полном смысле слова. Плох тот пограничник, который не может без собаки пойти по следу нарушителя и догнать его. Нарушитель не по воздуху прошел. По земле. По нашей земле! Должен он где-нибудь оставить свои поганые следы. Их надо найти. Надо! Ясна задача, ребятки? — Ясна, товарищ старшина! — дружно откликнулись «ребятки». — Ну! Идем цепью к Ближнему лесу. Медленно. Дистанция — пять метров. Осматриваем каждый вершок земли. Обращаем внимание на каждую болотную кочку. Ищем примятую траву, потревоженную осоку, обломанную ветку, взбаламученную воду, выволоченную грязь. Поднимаем любой посторонний для местности предмет. Не проходим мимо следов кабана, лося, зайца, лисы… Ну! Теперь все. Малинин, спускай Грозного, пусть гуляет на воле. — Но, товарищ старшина… — Не беспокойтесь. Грозный не такой уж несмышленыш. Наследственный пограничник. Сын Аргона и Ласки. И, кроме того, он уже кое-чему обучен. Найдет свое законное место. Отпустите! Малинин дал волю Грозному. Собака сейчас же подбежала к Смолину, обнюхала его, раскрыла свою розовато-смуглую пасть, заулыбалась и подставила ему под руку пушистую свою холку; приласкай, мол! Смолин погладил пса по голове, достал из кармана кусочек мяса, завернутый в белую тряпочку, положил на ладонь. — Хорошо, Грозный, хорошо! Ешь, браток! Смотри! Наматывай на ус. Запоминай. Поправил на груди автомат, надвинул фуражку на лоб, взглянул на товарищей. — Ну!.. Солдаты восприняли привычное «ну» как приказ. Рассредоточились и медленно двинулись вперед. Грозный действительно сразу нашел свое место. Бежал впереди, беспокойно поводил мордой, принюхивался. Временами останавливался, прислушивался, оглядывался на солдат. — Хорошо, Грозный, хорошо! — поощрял его Смолин. Метров триста или четыреста шли болотом, имеющим сравнительно твердое, без провалов, упругое дно, поросшее прошлогодней травой. Изредка попадались кустарники. Растаявшие снега с обильными весенними осадками сплошь покрывали низину. Вода была ледяной и прозрачной. Как в аквариуме, свежо и молодо колыхалась зелень. Все, что лежало на дне, было отчетливо видно. Невдалеке от леса местность стала повышаться, заметно твердеть. На опушке вода совсем исчезла. Вышли на кочарник. И тут Смолин, идущий впереди, обнаружил на бархатно-коричневых, мелкокудрявых, чуть присыпанных землей мхах ясный отпечаток обуви. — Стоп! Все ко мне! Кажется, след. Опустился на колени и при всеобщем напряженном молчании стал исследовать отпечаток. Он был продолговатым, с узким носком, с поперечными, чуть волнистыми рубчиками. — Да, это след! — уверенно сказал повеселевший Смолин. — Кто-то прошел здесь недавно. Часа три назад. Обут в новые резиновые сапоги сорок второго размера. Все внимательно смотрели на след. Отпечатался только один сапог. Дальше, впереди ничего не было видно, но и это не смутило следопыта. — Теперь все, ребятки. Считайте, что он в наших руках. Правда, нам еще придется попотеть. Достал из кармана целлофановый мешочек, развернул, надул и бережно уложил в него мох и землю со следа нарушителя. Подвернул свободные края, скрутил и завязал куском мягкого телефонного провода, спрятал в карман. Малинин не удержался, спросил: — Зачем это, старшина? Первый раз он видел следопыта за такой работой. — Надо, Петруша! Драгоценная улика. Теперь мы и через неделю и через месяц найдем ловкача. И в Москве, и в Ташкенте, и в Баку. Везде, куда бы он ни подался. Как? Дадим хорошей собаке понюхать, — он похлопал себя по карману, — и она приведет нас к тому, кто наследил здесь. Не понятно? Ничего, раскумекаешь на досуге. Будем продолжать преследование. Рассредоточиться! Снова рассыпались цепью и пошли дальше. Путь нарушителя был обозначен еле-еле приметными даже для искушенного следопыта следами. Нет, не отпечатками. В одном месте с голого орешника сбита роса. В другом на прошлогоднем травяном покрове темнела узкая, словно тень, полоска. В третьем кто-то наступил на стоячие перья ландышевого кустика. В четвертом, на топких берегах широкого ручья остались рубчатые вмятины резиновых сапог: не желая входить в воду, нарушитель перепрыгнул преграду, В пятом, не выходя из Ближнего леса, на лугу нашли маленький, с ноготок клочок лощеной бумаги. Ничего не напечатано, не написано. Обыкновенная как будто бумага, но Смолин тщательно осмотрел ее, завернул в носовой платок, положил в карман. Все пригодится со временем. И, наконец, на том же лугу, километра через два, в поле зрения Смолина попал маленький, сантиметров двадцать пять высотой земляной курганчик. В нем, на первый, не следопытский глаз, не было ничего особенного. Кротовые норы не диковина, особенно на лугах. Их было множество и слева и справа. Но внимание Смолина привлекла только одна, именно эта. Она сделана по всем правилам кротового искусства. Черная рассыпчатая земля. Аккуратная воронка посредине, Но чем-то она не понравилась Смолину. Постоял, посмотрел со всех сторон, пригляделся, подумал и решил, что к ней приложил руку человек. А зачем ему это понадобилось? Товарищи Смолина ничего особенного не видят в кротовом курганчике, а он… — Ну-ка, Петруша, — приказал он Малинину. — Сбегай к речке, выломай хорошую палку, тащи ее сюда. Да поживее. Кажется, будут трофеи. Ефрейтор — бегом туда-сюда. Смолин взял у него палку и стал разрывать курганчик. Грозному он не отдавал никакой команды, но тот усердно помогал: черная земля так и сыпалась из-под его могучих лап. — Хорошо! Хорошо! — поощрял Смолин. — Вот тебе и несмышленыш! — засмеялся Малинин. — Яблоко от яблони далеко не катится. Следопыт не обманулся. Под землей он обнаружил иностранный паспорт, какие-то документы, пачку денег, завернутых в толстую вощеную бумагу, и разорванную фотокарточку. Выравнял на земле местечко, расстелил носовой платок и стал складывать клочки фотографии. Один к другому. Разрыв к разрыву. И на квадрате фотографической бумаги обозначился человек. Смуглое, широкоскулое лицо. Массивный, с широкими ноздрями нос. Вытянутый, чуть скошенный лоб. Громадные уши. Густые, отутюженные щеткой волосы. Взгляд больших, немного раскосых глаз сосредоточенно холодный. Тонкие губы стянуты, будто зашиты. — Кто это, Саша? Неужели нарушитель? — спросил Малинин. — Похоже, он. На паспорте точно такая же фотография. Проверим, когда схватим! Смолин достал еще один целлофановый мешочек, бережно сложил в него все бумаги, закупорил, чтобы не выдыхался запах, спрятал в карман и сказал: — Скоро мы с ним встретимся. Он где-то недалеко затаился. — Почему ты так думаешь? — Малинин невольно оглянулся вокруг себя. — Собачье чутье сработало? Запах вдохнул? — Угу. — Прямо как в пословице: с кем поведешься, у того и наберешься. Ну, и натаскал, брат, тебя Аргон. Смолин тяжко вздохнул. — Эх, Аргон, Аргон. Будь он сейчас здесь, уже бы схватили молодчика. — Нет, правда, Саша. Скажи, почему ты думаешь, что недалеко он? — Есть такое предчувствие. Почему вдруг решил избавиться от документов и долларов? Не мог этого сделать раньше, перед тем, как перейти границу, или после перехода? Мог. Раньше, там, в болотах, они ему не мешали. Теперь опасны стали. Он направился в населенный пункт. Вот и почистил карманы на всякий случай и спрятал добро в надежном месте. Наверняка собирается вернуться. А вернуться сюда, в пограничный район, можно только с ближайшего пункта. Малинин постучал себя кулаком по лбу. — Вот теперь и я, бестолковый, все понял. — Ну, раз понял, давай говори, что нам дальше делать? Малинин смутился, промолчал. За него ответил Рябов. — Разрешите, товарищ старшина?.. Нам надо проверить все ближайшие населенные пункты. — Правильно! Но при одном условии… При каком? Теперь и Рябов молчал. Смолин подсказал: — При условии, если предположения оправдаются и след приведет нас в какую-нибудь деревню или поселок. Значит, мы должны, прежде всего, установить, куда он пошел после того, как зарыл документы. Смолин с радостью приобщал молодых солдат к трудной науке. И они с неменьшей радостью впитывали богатый опыт товарища. — Все ясно и понятно, старшина. Разжевал и в рот положил. Эй, орлы в зеленых фуражках, внимание, след! Ищите! — весело крикнул Малинин и бросился вперед. На лугу, обдуваемом сквозным ветром и прогретом утренним солнцем, следов не нашли. На топком торфянистом берегу речушки отпечатки остались. Всего час назад, полтора от силы он прошел вдоль речки, по тропе, пробитой у самой воды, под раскидистыми ветлами. Под кустом, но молодой траве осталась вмятина его тела. Тут он выкурил сигарету: Смолин обнаружил пепел и маленький недокурок «Верховины». И эту улику Смолин присовокупил к прочим. Когда преследуешь противника, все важно. Неподалеку Смолин нашел и яичную скорлупу. Проголодавшийся нарушитель совместил отдых с завтраком. «Ну, а куда он дальше пошел? — у самого себя спросил Смолин и сейчас же ответил: — Переправился на тот берег. Ему не захотелось окунаться в холодную глубокую воду. Воспользовался сухой переправой». Так и оказалось. У мостика Смолин обнаружил знакомые отпечатки резиновых сапог и уверенно повел за собой поисковую группу на другую сторону. Грозный был немного приучен ходить по буму. Оттого бесстрашно, без колебаний, ловко вслед за солдатами перебежал по скользким бревнам, переброшенным через реку. На низком правом берегу тоже были отпечатки. Направление их указывало, что нарушитель кинулся не к тропе, на которой мог столкнуться с людьми, а напрямик к лесу. Поисковая группа, рассредоточившись, как и прежде, преодолела голое взгорье и вошла в заречный лес, обращенный к югу, ближе к весеннему солнцу. Тут кое-где, на осинах и мелком кустарнике, проглядывала первая зелень. Мхи свежие. Трава гуще, моложе и нежнее. Березы вот-вот раскроют свои почки. Множество ландышей протаранили теплую толстую подушку перегноя и хвои. Птицы устраивали свои гнезда. Только дубы были черны от подножья до вершин, будто навеки засохшие. Никто так много не проводит времени на природе, как пограничники. Днем и ночью, зимой и летом, во все времена года по долгу службы открывают ее прекрасные тайны. Смолин, несмотря на то, что все его силы были мобилизованы на то, чтобы не сбиться со следа, хорошо видел, как пробуждается весенний прикарпатский лес. У сосны, окруженной зарослями ландыша, он нагнулся, сорвал цветок, понюхал и засунул в карман гимнастерки. Сделал это на ходу, машинально, повинуясь красоте повседневного чуда жизни. Полюбовался скворцом, принимавшим ванну. Заметил и свежайшие следы лося: минут десять назад пробежал он здесь, проделав в сырой земле глубокие пробоины. Грозный, почуяв запах зверя, ринулся за ним: еще не приучен равнодушно относиться к постороннему запаху. — Ко мне, Аргон! — скомандовал Смолин. И тут же он, спохватившись, повторил команду. — Ко мне, Грозный! Собака резко остановилась, посмотрела на следопыта и галопом вернулась обратно. — Хорошо, Грозный, хорошо! Смолин пошел дальше с болью в сердце. Думал о своем помощнике, слабеющем час за часом. Отработал свое. И как отработал! Ни одна из служебных собак, пожалуй, не принесла столько добра людям, как Аргон. Лес кончился. Пограничники вышли на опушку. Невдалеке, у самой проселочной дороги стоял приземистый дом со старой, позеленевшей от многолетнего мха крышей. Окна маленькие, старинные. Деревянное, с навесом крылечко грубой работы. На его фронтоне оцинкованный герб австро-венгерской монархии. Лет пятьдесят назад в этом доме была придорожная галицийская корчма. С того времени, видимо, сохранился забор из толстых дубовых кольев. Ворота сколочены из молодых дубовых стволиков, плотно пригнанных один к одному. На них чернеют два огромных кованых кольца. И вот эти тяжелые вечные ворота на глазах у пограничников распахиваются, и в их створе появляется темно-красная корова и дядька с усами императора Франца-Иосифа, в меховой безрукавке, в сивой шапке. В руках хворостина. Нахлестывает корову, громко ругается, торопливо выгоняя ее со двора. Куда? Зачем? На пастбище? Еще рано. На водопой? Нет надобности: во дворе колодец. У Смолина вроде бы не было оснований видеть что-то неладное, неестественное в поведении усатого дядьки-хуторянина. Он был отличным следопытом, но кроме того, еще и безошибочно определял, когда люди действуют натурально и когда фальшивят. Не зря заторопился хуторянин. Увидел пограничников. Ждал их. Не хочет, чтобы вошли во двор. Почему? Аргон был наилучшей на западной границе служебной собакой, но Аргон один, без следопыта был бессилен, бесполезен. Смолин и без Аргона оставался хорошим следопытом, умным бойцом. Защелкнул карабин на ошейнике Грозного, подтянул к себе поводок и вполголоса скомандовал: — Пошли, ребятки! Никаких вопросов. Полный молчок. Я сам поговорю с хозяином. Дядька, неистово работая хворостиной, погнал корову по проселку, навстречу пограничникам. Поравнявшись, снял мерлушковую шапку, молча поклонился, хотел пройти мимо. — Постойте, папаша! — дружески сказал Смолин. — Куда это вы так швидко прямуете? — На пастбище. — Рановато! Трава еще не поднялась. На лугах топко. — Ничего, пусть наша кормилица прогуляется. Заблудилась скотина, плохо корм потребляет. — А почему это вы пастухом заделались? Хозяйка заставляет? — Нету хозяйки у меня. Вдовец. — И корову сами доите? — Внучка помогает. Но ее нет сейчас. В город уехала сыр и масло продавать. Никого дома нет. Один я. Ну, пойду я, сынки. — Постойте!.. А кто ж нам воды даст напиться? — Сами пейте. Вон колодец во дворе. Ведро на цепи. — Неудобно, батя, без хозяина в чужой двор заходить. — Ничего, заходьте. Колодец с собой не унесете. — А может, вернетесь, а? В голосе Смолина прозвучали повелительные нотки. — Можно и вернуться. Воля ваша. — Да, будь ласка, вернитесь, Нам надо поговорить с вами. Хуторянин взметнул свои маленькие, с опухшими веками, с выцветшими бровями и старческой слезой испуганные глаза. — Поговорить?.. Про шо? — Про жизнь. Смолин немного помолчал и вдруг спросил: — Скажите, батя, как почувает себя ваш гость? — Какой гость? — А тот, что сегодня утром явился. Смуглявый, черноволосый. В сапогах резиновых. — Да ты что, солдат! Никакого гостя я не бачив. Один я на весь дом. — Проверим! Старик завернул корову и, опустив голову, побрел домой. — Рассредоточиться! — приказал Смолин. — Окружить дом! Малинин, вы со мной. Берем нарушителя по возможности живым. Первыми не стрелять. Но воевать не пришлось. Как только Смолин с Малининым вошли во двор, на крылечке показался высокий, в кожаной куртке, смуглолицый, скуластый человек. Руки были подняты вверх. Губы дрожали. Аккуратно выложил маузер, три обоймы и две небольшие, для ближнего боя гранаты. — Не забудьте, я добровольно сдался. Если бы не ваша собака… Пограничники, как ни привыкли к выдержке и дисциплине, не могли овладеть собой, улыбнулись. По дороге на заставу нарушитель часто останавливался, хватался за сердце, отдыхал и с угрюмым любопытством поглядывал на собаку. В конце концов он понял, что она еще молодая, плохо обученная. Еще более помрачнев, подавленно спросил: — Как же вы с таким щенком взяли мой след? — У нас и щенки умеют находить вашего брата, — усмехнулся Смолин.Ну, вот, свершилось еще одно чудо в моей жизни: Витька, не долго думая, влюбился и женился. Ничего себе дивчина. Красивая и самостоятельная. Стюардессой во львовском аэропорту работает. Был, конечно, и пир на весь мир. Самый настоящий. Представляешь? Теперь свадьбы в моде, никак без них нельзя. Гол, брат, стал Сашка Смолин, как сокол. Все истратил, что имел. До последнего рубля. И еще в долги залез. Ладно, выпутаемся как-нибудь. Сидел я на почетном родительском месте, а красном углу и глаз с сына не спускал. Верил и не верил: давно ли он под столом ползал? Как быстро пролетело время! Четверть века прошло, а кажется, что вчера я купал его в корыте. Хороший парень вырос. Работящий. От книги нос никогда не воротил. Танцульками не очень увлекался. В бутылку заглядывал редко по большим праздникам. Двадцать пять ему, а уже добрые мозоли заработал. Мастеровые руки у Вити. Рабочие. На заводе им тоже довольны. Так что могу похвастаться: выполнил я свой отцовский долг перед сыном. Ни в чем не могу себя упрекнуть. И это, скажу тебе по секрету, здорово помогает жить, когда тебе за сорок и сил поубавилось порядочно. Чистая совесть — это, брат, такой могучий двигатель!.. Сразу же после свадьбы Витя распрощался с нами. Переехал к жене: у нее нет отца, в хорошейквартире с матерью живет. Ушел Витя от нас без оглядки, легко, смеясь. А мы с Юзей расстались с ним тяжело. Был наш парень — и стал чей-то!.. Голова понимает все как надо, а сердце не желает мириться с такой потерей. Ладно, постепенно привыкнем. Теперь мы с Юзефой все свои родительские заботы переключили на Любу. Пока она еще наша, но скоро и Любонька станет чьей-то. Девятнадцать лет исполнилось девушке. Вот-вот объявит: ну, дорогие родители, выхожу замуж. Ох! Какой муж попадется ей? Не заслужила она плохого и даже среднего, так себе. Душевная, работящая, веселая, толковая и пригожая дивчина. Вся в мать. И от отца кое-что перепало ей. Вот, брат, какие теперь я пишу тебе письма. А что делать? Чем живу, тем и делюсь.
Учитель и ученик
Смолин выгуливал собаку в лесу неподалеку от заставы. На опушке, в полях был уже жаркий полдень, а здесь, среди берез, дубов, ольхи, шатровых елей и толстоствольных сосен с раскидистыми ветвями, в зарослях орешника еще держалась прохлада и свежесть раннего утра, на неполегшей траве еще сверкала роса, и щебетали, встречая новый день, птицы. Грозный был в превосходном настроении. Вымытый, вычесанный, высушенный, накормленный, не зная куда девать накопленные силы, он вовсю резвился: описывал вокруг своего друга и повелителя громадные круги, пугал птиц, ломал молодые побеги малины, лаял на муравьиную кучу, хватал на ходу зубами какую-то лечебную траву, кувыркался, визжал от восторга, рвал землю когтями. В общем, очумел от своего непостижимого счастья. В зависимости от того, куда он попадал, на солнечную полянку, в густую тень или в полутень, его шелковистая шерсть принимала то темно-табачную, то нежно-йодистую, то опаловую, то золотую, то светло-коричневую окраску. Смолин, любуясь своим молодым другом, чувствовал себя превосходно. Он забыл о том, что жизненный тонус собаки целиком зависел от его собственного настроения. Гуляя, они вышли на просеку. Вот где можно развернуться Грозному. Он подбежал к Смолину, лизнул ему руку, словно приглашая следовать за собой, и во весь дух помчался по зеленому ущелью. Все дальше и дальше. Вдруг остановился, вытянул передние лапы, положил на них голову и стал к чему-то тревожно прислушиваться. «Наверное, где-то лось идет, — подумал Смолин, — или какое-нибудь животное». Собака вскочила и побежала, Но не вперед по просеке, а назад. Подскочив к Смолину, лизнула ему руки и в настороженной позе застыла у его ног. И только сейчас до уха Смолина донесся шум мотоциклетного мотора. Звук быстро нарастал. В дальнем конце просеки, в ее узком зелено-голубом прозоре Смолин увидел темную фигуру мотоциклиста. Он взял собаку на поводок и с любопытством вглядывался в приближающегося человека. Что за гость? Как он попал сюда? Заблудился? Или кто-нибудь свой? В седле «ижевца», крепко сжимая широкий, как оленьи рога, руль, сидел губастый, в милицейской фуражке набекрень старшина Семилетов, бывший пограничник. Рядом с ним, в прицепной коляске восседала серая крупная овчарка Бек. Местные жители по старинке называли Семилетова сыщиком, а его розыскную собаку ищейкой. Демобилизовавшись, он пошел служить в милицию и работал там, как слышал Смолин, в общем неплохо. За свою долгую пограничную жизнь Смолин обучил следопытскому делу многих солдат. Семилетов был одним из способных учеников. От других его отличало большое желание стать настоящим следопытом, упорство, беспощадное отношение к себе и правдивость. Семилетов лихо подкатил к Смолину, резко затормозил. Собаки заворчали друг на друга, но, одернутые вожатыми, сейчас же успокоились. — Добрый день, Александр Николаевич. Не ждали? — Здорово, Петя. По правде сказать, не ждал. Какими судьбами в наши края? Семилетов выглядел непривычно мрачным. — Нужда привела. Захотелось быть битому. Берите, Александр Николаевич, палку и бейте своего бывшего ученика. — На своих, брат, я никогда не поднимал руки. И не подниму. — А на меня должны поднять. Заслужил я лупцовки. — Где заслужил, туда и неси палку. А для меня, Петя, ты старый добрый товарищ. Давай кури. — Не пошла впрок пограничная наука этому самому вашему старому товарищу. — Зря на себя, брат, наговариваешь. Следопыт был дай бог каждому. — Да, был! Под вашим крылом. На вашем поводу. Под вашим присмотром. А как ушел на самостоятельную работу, так и сел в лужу. — В чем дело, Петя? Случилось что-нибудь? Старшина милиции в полном отчаянии махнул рукой. — Случилось, Александр Николаевич. Ночью в райцентре ограблен промтоварный магазин. Двадцать штук дорогого сукна прилипло к чьим-то рукам. — И твой Бек, как я понимаю, не взял след грабителей? — Угадали! Там такая обстановка… Любая собака, даже ваша, окажется бессильной. — Так. А я думал, что ты примчался за мной как за «скорой помощью». — Что вы, Александр Николаевич. Я к вам честно, по-дружески отношусь. Никогда и никому, и прежде всего себе, не позволю ваш авторитет марать. — Когда ограблен магазин? — Ночью. — Ночь большая. В котором часу? — Точно не установлено. По словам сторожа, это произошло часа в три-четыре. — Ну! Сторож видел, как грабили магазин, и не поднял тревоги? — Его оглушили ударом по голове каким-то тупым предметом, заткнули рот, связали и посадили в будку. — И он не запомнил ни одного лица? — Он даже не знает, сколько их было. Грабители подкрались к нему сзади. — Ну! А когда ты, Петя, выехал на место происшествия? — На рассвете. Вместе со всей оперативной группой. — И большая была группа? — Порядочная. Семь человек. — Ну, и что вы сделали, приехав на место? — Осмотрели магазин, установили, где и как действовали преступники. — Вся оперативная группа ринулась в магазин? И ты, следопыт, не остановил ее? — Не успел, Александр Николаевич. Оплошал. — Вопросов больше не имею. Все ясно. Действительно, обстановка тяжелая!.. Прошло восемь или девять часов после ограбления. Потеряно драгоценное время. Следы грабителей затоптаны. — Да, все так оно и есть. — И что же ты собираешься делать? — Не знаю. Ума не приложу. А ваш какой будет совет, Александр Николаевич? — Трудно сказать сейчас. Надо своими глазами посмотреть что и как. А может быть, есть какая-нибудь зацепка? — Никакой! Решительно. — Давай все-таки посмотрим. Поезжай к заставе и жди меня там. — Нет, Александр Николаевич, вы не должны ввязываться в это дело. Хватит и того, что я оскандалился. — Где ты, Петя, потерпел неудачу, там и мне плохо. Кто за тебя в ответе? Тот, кто обучал следопытскому делу. Значит… — Нет и нет, Александр Николаевич! Я не позволю ставить ваш авторитет под удар. — Не твоя это забота. И потом, что это за авторитет, если он боится ударов? Давай поезжай на заставу и жди меня у ворот. — Ну, смотрите, Александр Николаевич, я вас честно предупредил. — В твоей честности, брат, я нисколько не сомневаюсь. А вот в кое-чем другом… — Смолин немного помолчал. Усмехнулся и сказал; — Я знаю, Петя, ты любишь правду-матку. И потому напрямик скажу — я, брат, не уверен, что ты действовал до конца так, как тебя учили на границе. — Александр Николаевич!.. — Не обижайся. Мог что-нибудь пропустить, забыть. Со всяким такое случается. А, может быть, и хорошо действовал. Посмотрим! Давай поезжай. Нет, постой! Я появлюсь на месте происшествия без своей собаки и в штатском. Как твой помощник, практикант. Понял? И не называй, пожалуйста, меня по фамилии. Такие условия для тебя подходящие? Старшина милиции покраснел и засмеялся. — Райские это условия, Александр Николаевич. Спасибо. Петя Семилетов на мотоцикле рванул в одну сторону, по дороге, а Смолин в другую — напрямик, через лес. Определив Грозного в питомник, Смолин вошел в канцелярию к начальнику заставы и попросил увольнительную в город часа на два, три. — Пожалуйста, старшина, увольняйся! Хоть на трое суток. На границе сейчас тихо, а мы перед тобой в долгу за целый год. Без выходных работал. — Разрешите, товарищ капитан, в штатском костюме отправиться в город. Начальник заставы с недоумением посмотрел на Смолина. — До сих пор, как я знал, ты гордился зеленой фуражкой. — И теперь горжусь, товарищ капитан. И всегда буду гордиться. — Почему же тогда в штатском? Не хочешь, чтобы обращали на тебя внимания? — Так точно, товарищ капитан. Друга из беды хочу выручать. И так, чтобы не пострадало его самолюбие. — И что же сделал твой друг? — Потом расскажу. Сейчас пока дело не ясное. Разрешите идти? Минут через пять Смолин и Семилетов мчались на мотоцикле от заставы к городу. По дороге договорились, как будут действовать. Приехали в райцентр. Под промтоварный магазин приспособлен кирпичный, с множеством окон со ставнями и оцинкованной крышей жилой дом. Передняя его часть, с крыльцом и входной дверью, обращенная на улицу, не огорожена. Задняя, выходящая в проулок, сохранила старый каменный забор. Там, посаженные еще хозяином, росли роскошные яблони. Смолин увидел все это сразу, как только подъехал. В магазине было полно народу: милицейская оперативная группа, какие-то люди в штатском, очевидно, представители райторга. Они сразу же узнали Смолина. Да если бы и не узнали, все равно бы ему не удалось сойти за практиканта. Семилетов выдвинул его вперед и представил. — Вот, привез вам Смолина. На него вся надежда. Если и он не найдет… Все с превеликим вниманием и доброжелательством смотрели на прославленного следопыта и ждали от него, как явно чувствовал Смолин, того, чего не смог сделать старшина милиции. Ему стало не по себе. Люди ждут от него чуда, а чудеса он творить не способен. Раньше он надеялся найти хоть какую-нибудь зацепку. Теперь, увидев магазин, понял, что дело действительно тяжелое, почти безнадежное. Однако он не спешил капитулировать. Он размышлял. «Следы преступников затоптаны. Грабители ничего не ломали. Подобрали к замку ключи, открыли магазин и преспокойно вынесли через главный вход двадцать рулонов сукна. Каждая штука весит килограммов пятнадцать, если не больше. Триста килограммов с гаком не мог сразу унести на себе один человек. И двоим это тоже не по силам. Значит, преступников было трое или четверо. Возможно, у них была подвода или машина. Где же ее загружали?» Обращаясь к оперативной группе, Смолин спросил: — Когда вы прибыли на место происшествия, вы не видели около магазина следов машины или подводы? Ему ответил офицер с погонами капитана. Сделал он это через силу, с затаенной обидой. — Не было, старшина, ничего такого не было. — Должно быть, — твердо сказал Смолин. — На себе грабители не могли унести такую тяжесть. Будем искать. Пошли, Петя! Медленно, согнувшись, он тщательно осматривал каждый вершок земли перед главным входом магазина, с фасадной, задней и боковых сторон. Семилетов молча шагал за ним. Бек сидел в прицеле и, навострив уши, поворачивая голову, пристально следил за своим другом. Смолин ничего нигде не обнаружил. Вернулся на крыльцо магазина и, стоя здесь, раскуривая «беломор», представил себя на месте преступников. Оглушив и связав сторожа, отперев замок заранее сделанным ключом, он распахнул дверь магазина. Конечно же, он был здесь не раз в качестве покупателя. Все высмотрел. Наметил план действий. Попав в магазин ночью, он не стал раздумывать, что именно надо брать. Уверенно передвигаясь в темноте и тесноте, подбежал к полке с сукном, схватил несколько рулонов и выскочил на крыльцо. А куда дальше? Прямо на улицу? Нет, это рискованно. Можно напороться на случайного прохожего или на влюбленную парочку. Ночь вчера была звездная, светлая — улица далеко проглядывалась. «Я бы на месте грабителей, — подумал Смолин, — повернул с крыльца вправо или влево и, прижимаясь к дому, сливаясь с его чернотой, пробрался на зады, в садик, а оттуда — в глухой проулок и дальше, на большую дорогу». — Ну, что, Александр Николаевич, плохи наши дела? — унылым голосом спросил Семилетов. — Нет, брат, ничего, кое-что наклевывается. Готовь собаку к работе. Смолин спустился с крыльца, повернул налево, вышел в сад и шаг за шагом начал исследовать сухую, слежавшуюся землю под яблонями и между ними. Дошел до каменного забора — ничего. Двинулся в обратный путь — и опять ничего. На глазок отмерил еще одну полосу и еще исследовал; он не терял надежды увидеть отпечатки сапог грабителей. Сюда, обязательно сюда, в глухое, сильно затененное место должны были броситься они. Другого подходящего пути у них не было. Тут, под яблонями им удобно было оглядеться, переждать, послушать, нет ли кого-нибудь поблизости. Отсюда самая короткая и безопасная дорога в заросший лопухами, нехоженый тупичок. Там, в тупичке их ждала подвода или машина. Внимание Смолина привлекла ветка яблони, поникшая примерно на высоте двух метров, на уровне человеческой головы. Он неторопливо стал ее рассматривать. Сломана недавно, не далее как сегодняшней ночью: обнаженная кора еще совсем свежая. Кто-то нечаянно в темноте задел ее головой или каким-то предметом и сломал. Значит, под яблоней должны быть следы человека. Смолин опустился на корточки. Да, есть! Вот они. Очень слабые отпечатки. Их можно было найти только твердо зная, что здесь прошел человек. Смолин быстро разогнулся и во весь голос закричал: — Петя, давай сюда своего Бека! Семилетов прибежал с собакой. — Что, обнаружил? — Ну! Давай ищи, Петя. Твое дело правое. — След, Бек! — скомандовал старшина милиции. — Ищи! Давай, браток, старайся. След! То, что еле различал человеческий глаз, собака сразу подхватила своим тонким обонянием. Бек встал на невидимый след и, не теряя его, потащил Семилетова и Смолина через весь город. Вывел на окраину райцентра, на каменное взгорье, на перекресток дорог. Одна из них, хорошо наезженная, вливалась в недалекое шоссе, другая вела в лес, третья — в поле, четвертая, глухая, заросшая посредине травой, узкая, упиралась в старое кладбище. Смолин ждал, что Бек потащит Семилетова в лес, но собака без колебаний побежала по кладбищенскому проселку. — Куда это она тебя тащит, Петя? — удивился Смолин. Спросил — и пожалел. Надо было промолчать. Семилетов безоговорочно верил своему Беку, но тут и он дрогнул. Натянул поводок, остановил собаку. Гладил ее, подбадривал: «Хорошо, псина, хорошо, Бекушка», — а сам вопросительно смотрел на Смолина. Но тот молчал. — Что, Александр Николаевич, думаете, Бек сбился со следа? — Не знаю, брат, тебе виднее. Давай работай, не обращай на меня внимания. Семилетов покрутил головой, криво улыбнулся. Постояв некоторое время на месте, он осторожно, не насилуя, вернул собаку на перекресток. Но не спешил ставить ее на след. Пусть отдохнет, успокоится. Примчался на мотоцикле милицейский капитан. — Что, старшина, потерял след? — Найдем, если потеряем, — сказал Семилетов и посмотрел на кладбище. — Бек тянет туда, а я засомневался. — И правильно сделали… Не станут грабители прятать там свои трофеи. Кладбище все-таки! А если бы и захотели, то они не смогли бы вырыть яму для такой кучи добра. — Он повернулся к Смолину. — А вы как считаете? Смолин пожал плечами, промолчал. А Семилетов сказал: — Для грабителей кладбище не помеха, товарищ капитан. Засомневался я по другой причине. Могилы, кресты, памятники — и собака. Неудобно вторгаться. — Удобно! Преследуя преступника, вы можете вторгнуться куда угодно. Разумеется, лишь в том случае, если вы уверены, что не ошибетесь. Есть у вас такая уверенность? — Есть, товарищ капитан! — Тогда вперед! Бек, поставленный на след, опять взял его и привел Семилетова и Смолина на кладбище, к большому фамильному склепу польских помещиков с очень известной, вошедшей в историю фамилией. Семилетов, Смолин и капитан подняли с усыпальницы белую, с золотыми поблекшими буквами мраморную плиту и увидели аккуратно, в два ряда, уложенные рулоны тонкого импортного сукна. Двадцать штук.Я сознательно форсировал концовку рассказа, опустил подробности. Не в них соль. Смолин и Семилетов победили не там, в магазине, не здесь, на кладбище, а гораздо раньше. Там, в утреннем, пограничном лесу, еще не сделав ни одного физического усилия. Победили верностью своим характерам. Дружбой. Чистотой своей совести. Всем тем, что роднит учителя с учеником.
Помнишь, лет двенадцать назад я писал тебе о пастушонке из деревни Корневищи? Да, Петро, Петя! Тот самый хлопчик, который поставил нас с Бурдиным на след парашютиста. Так вот, пограничная судьба опять свела меня с ним. Вчера к нам на заставу из отрядного учебного пункта прибыло молодое поколение. После официальной встречи, когда солдаты курили в беседке, ко мне подошел высокий, голубоглазый, краснощекий, кровь с молоком, ладный парень в зеленой фуражке и заулыбался во весь рот. — Здравствуйте, товарищ старшина. — Здравствуй, если не шутишь, — говорю я и тоже улыбаюсь. — Что, решил в индивидуальном порядке поздороваться со мной? — Так точно, товарищ старшина. Двенадцать лет мечтал об этом. После таких слов, сам понимаешь, мне надо было молча повернуться и уйти. Я же взял руку молодого солдата и сказал ему со смехом. — Ты, брат, принимаешь меня не за того, кто я есть на самом деле. Я не кинозвезда, а пограничник, инструктор службы собак. Понял? — Ну да, я про то же самое и говорю. Смолин вы… тот самый. Я вас давно знаю. Помните лес, коровье стадо, деревню Корневищи и хлопчика в синей сорочке, затаившегося в кустах. Вы — к нему, а он — от вас. Дрожит весь, плачет: «Дяденька, я ничего не знаю, ничего не бачив, ничего не чув». Вспомнили? — Петро? — Он самый, товарищ старшина. Ну, известное дело, обнял я своего старого добровольного помощника, потом сел с ним под деревом и стал расспрашивать про жизнь. И рядовой Шевчук рассказывал: — С того дня, как с вами встретился, я с границы и с пограничников глаз не сводил. Понравилась ваша работа. Решил, как вырасту, непременно стану пограничником. Вышло, как видите, по-моему. Уважили в военкомате мою просьбу. И в отряде уважили: послали на эту самую заставу, где вы служите. Повезло? Удачливый я солдат. — И границе повезло, что ты стал пограничником. По секрету тебе скажу, Витя. Растрогал меня Петро Шевчук до самой глубины души. Я вдруг увидел и привычного Смолина, и все то, что он сделал, и всю привычную границу свежими глазами новичка. Ничего не упустил. Все о ценил. Много хорошего сделал, ох, как много! Любо и гордо оглядываться назад. Встреча с Петром Шевчуком здорово обрадовала меня, вознесла в собственных глазах. Он удостоил меня самой высшей человеческой награды — своей чистой любовью, желанием жить и воевать так, как жили и воевали его старшие братья и отцы. Эта награда не отлита ни в золоте, ни в серебре, ни в бронзе. Но я ее всегда буду видеть, чувствовать на своей груди рядом с орденом Ленина. Вот, брат, как я сегодня расхвастался. И нисколько не стыжусь. Такую гордость, какую вызвал у меня Петро Шевчук, грех скрывать. Я горжусь первым поколением пограничников, которые охраняли границу босыми, в кургузых шароварах, в шлемах с двумя козырьками — «здравствуй и прощай». Горжусь поколением пограничников двадцатых годов, громивших шайки басма чей, контрабандистов, ловивших шпионов, лазутчиков. Горжусь поколением пограничников, первым принявшим на себя огонь гитлеровских полчищ. И еще больше горжусь сегодняшним поколением пограничников, которое пришло нам на смену. Славные ребята. Преданные. Умные. Образованные. Когда я начал свою пограничную жизнь, следопытство было самой высокой специальностью на границе. Сейчас Петя Шевчук и такие, как он, имеют в своем распоряжении локаторы, приборы ночного видения, сигнальную систему, радиостанции, вездеходы, тракторы, бронетранспортеры, вертолет и кое-что другое. В хорошее, в золотое время начинает свою пограничную жизнь мой юный друг Петро Шевчук. Пожелаем ему, Витя, счастливой дозорной тропы.
Всю дорогу граница
Прощайте, Карпаты! Прощай, дорогая и милая Западная Украина, красная Львовщина! Лучшие годы своей жизни Смолин отдал западной границе. С юных лет до первых седин охранял государственные рубежи на Сане, на Буге, в горах, лесах и долинах. Познал здесь все радости и горести человеческого бытия. Воевал. Побеждал. Прославился на всю страну. Был ранен. Влюбился. Женился. Стал отцом семейства. И вот пришла пора расставаться со второй родиной. Нет, нет, не демобилизация. Не отставка. Отзывают. В штабе округа решили, что Смолину пора поменять и место службы и ее характер. Ну что ж, подумал Смолин, начальству виднее, где он нужнее и может принести больше пользы. По правде говоря, он и сам уже не раз мысленно прикидывал, куда бы ему перебраться с этой тяжелой работы инструктора службы собак. Не может он бегать по следу, как в былые времена. Отяжелел. И сердце не выдерживает большой нагрузки. Вовремя, в самый раз подоспел приказ штаба о переводе. Александр Николаевич пришел домой, сообщил новость жене и дочери, сказал, чтобы собирались. Ждал, что домашние поднимут переполох, будут огорчены переездом. Ничего подобного, обрадовались. Люба захлопала в ладоши. — Вот и хорошо! В столице Украины будем жить. Днепр каждый день видеть. Владимирскую горку. Крещатик. Смолин с укоризной посмотрел на дочь. — Киев — хороший город, но ведь ты столько прожила во Львове. Люба засмеялась. — Ничего, папа, мы его быстро освоим. Я — киевлянка, киевлянка! В университете буду учиться. Ох, как здорово. Побегу к девочкам, похвастаюсь. Больше всего удивила Смолина жена. Не сдержался, сказал ей: — А ты, старуха, чему радуешься? Родные места ведь покидаешь. — Ничего! Моя родина там, где ты. Вот такие пироги, коханый мой.Ну вот, дорогой Витя, я уже на новом месте, в Киеве. Пиши мне, брат, сюда. Думаю, что это моя последняя квартира в жизни. Хватит, покочевал! Оседлым стал жителем. Служба у меня теперь новая: старший контролер КПП. Мое рабочее место — это сотни километров с большим гаком. Беспрестанно путешествую. Осваиваю новый вид службы и незнакомую обстановку. Учусь. И сам кое-кого учу. В общем, работы много. Интересно! Постой, я, кажется, не раскрыл тебе тайны трех букв. КПП — это такое место на границе, через которое пропускаются потоки иностранных и наших поездов, пассажирских и товарных, автобусы и легковые автомобили, самолеты, улетающие за границу и прилетающие к нам, корабли, уходящие в чужие воды и приходящие из-за рубежа. Специальная служба пограничников проверяет иностранные паспорта. А мы, контролеры КПП, следим за тем, чтобы никто не пробрался к нам через границу незаконным путем, чтобы не было контрабанды. Представляешь? Трудная, я скажу тебе, друг Витя, и очень ответственная моя новая работа. Здесь не только крепкие ноги и здоровое сердце требуется. Нужен еще и строгий и верный глаз, опыт и смекалка, чистые руки и ясная голова, быстрота и натиск, а главное — пограничное следопытство. Без собаки и тут никак не обойдешься. Миллионы тонн всяких грузов, сыпучих и твердых, в ящиках и контейнерах, в трюмах и пульманах приходит к нам и уходит от нас. В них легко можно спрятать нарушителя. И мы находим его с помощью собаки, где бы он ни затаился, какие бы ухищрения ни применил. И с контрабандистами боремся тоже успешно. Находим все потайные места и достаем оттуда золото, валюту, ценности, наркотики, запрещенные к вывозу и ввозу вещи, всякую антисоветскую писанину. Представляешь? По совести, брат, тебе скажу: я доволен тем, что делаю. Интересная, живая работа. Карпаты и Львовщину, как ты понимаешь, забыть не могу. Но теперь тоскую по ним не так, как в первые дни. Да и некогда сейчас, по правде сказать, тосковать, С утра до вечера на работе. С нетерпением жду отпуска. Поеду в родные пограничные места. Поброжу по заставам и по всем местам, где прошумела моя молодость. Положу цветы на могилу Алеши Бурдина. Повидаюсь с живыми друзьями. Побываю у отставников. Подстрелю пару диких кабанов в каком-нибудь знакомом охотничьем урочище. Приеду домой и с новыми силами примусь за работу. Вот такие, брат, пироги. Хорошо живем!Пришла еще одна весна Смолина. Сорок седьмая в его жизни. Весна семьдесят первого. Встретил он ее на границе, между двумя КПП. В одном месте поработал, в другом — предстоит работа. Дорога полностью очистилась от снега и льда. По канавам гудели, клокотали, пенились, звенели снеговые воды. Кое-где, по бровкам кюветов, пробивалась первая травка. Пышно зеленели озимые. Над вспаханным полем перекипал сизый зной. Два грача перелетели польско-советскую границу, покружили немного над пахотой, приземлились и пропали — черные на черном. В прозрачном небе резвился жаворонок. На горизонте поднимались леса, окутанные синей весенней дымкой, а за ними — предкарпатские холмы, а еще дальше Карпаты — пограничные, исхоженные вдоль и поперек, милые до боли в сердце горы. Там сейчас шумят потоки. Сквозь перегной листвы пробиваются подснежники. Птицы вьют гнезда. Ящерицы блаженствуют на камнях, нагретых солнцем. Всюду, куда бы ни глянул Смолин, он видел работу весны. И в самом себе он чувствовал весну. Был молодым, легким. Ему хотелось снять сапоги и босыми ногами пощупать теплую землю. Хотелось пробежать по дороге, выбрыкивая, как жеребенок. Хотелось ловить бабочек. Хотелось сесть на придорожный камень, подставить лицо солнцу и не двигаться час, другой, третий. Хотелось сделать что-то необыкновенное, на диво себе и людям. Хотелось говорить какие-то веселые, дурашливые слова. Хотелось нюхать горные фиалки, целовать Юзефу, купать в ванночке хлопчика или девчушку — своих внуков, третье поколение Смолиных. Хотелось вознестись к жаворонку и вместе с ним славить жизнь. Жизнь! Сорок семь лет осталось позади, а Смолин и не заметил, как они пронеслись, пролетели. Сорок семь! И большая половина, лучшая половина отдана границе. Более четверти века назад, весной он тоже ехал вдоль этой самой границы. Хорошо, отчетливо помнит тот далекий и близкий день, будто это было вчера. Вот так же, как теперь, он смотрел на границу, думал о ней, все свои надежды и мечты связывал с ней. И с тех пор ни на один день, ни на один час не переставал быть пограничником. Двадцать семь лет жил границей. И будет жить ею до тех пор, пока дышит. Всю дорогу, всю жизнь она — граница.
Последние комментарии
9 часов 39 минут назад
18 часов 31 минут назад
18 часов 34 минут назад
3 дней 57 минут назад
3 дней 5 часов назад
3 дней 7 часов назад