Кони святого Марка [Милорад Павич] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Милорад Павич Кони святого Марка
Кровать на троих (перевод Е. Кузнецовой)
I
— Берегись Анджелара,[1] его имя лжет! — говорили мне коллеги по университету. — Если лжет коза, не лжет рог, — возражали студентки. Это происходило в то время, когда ногти растут быстро. Мои всегда были обкусанными, а про Анджелара говорили, будто ногти ему грызут женщины. Пока мы еще встречались в доме Капитана Миши,[2] в его кучерявых волосах было полно перьев, карандашных стружек и трамвайных билетов, которыми мимоходом осыпали его девушки. Он всегда ел (даже в «Трех шляпах»[3]) собственной вилкой, которую носил в кармане, ею же он расчесывал бороду. От него оставалось впечатление, которое было смесью некой странной привлекательности и страха, который он в нас пробуждал. На втором курсе нас возили в Дубровник для знакомства со старинным архивом. Мы наняли тогда рыбацкое судно и отправились в Цавтат, но по пути попали в непогоду. Почти всех на корабле тошнило, и тогда Анджелар принялся насвистывать какую-то мелодию, его свист успокоил нас, и тошнота прошла. Анджелар научил нас, что такое «пьяный хлеб» и как его едят. Если хочешь быстро что-то забыть или избавиться от душевного потрясения, можно в мгновение ока напиться до беспамятства. — Для этого, — объяснил Анджелар, — достаточно опустить два-три кусочка хлеба в стакан с ракией и проглотить их. Моментально опьянеешь, но это опьянение проходит быстрее обычного и напоминает непродолжительную потерю сознания. Анджелар приходил на лекции без ремня. Нижнюю пуговицу рубашки он обычно пристегивал к верхней петле брюк, то есть, по существу, носил брюки на шее. Нередко он проводил время в компании двух старших друзей, которые называли его «сынок». Одного звали Максимом, и родом он был из Сремской Митровицы, а второй, Василий Уршич, родился в Белграде. Василий и Максим жили на Дорчоле, у Уршича, на углу улиц Скандербега и Капитана Миши, в квартире на втором этаже дома, до которого с факультета зимой можно было быстро добраться по гололедице, царившей в это время года на улице Братьев Югович, а потом по улицам Симиной, Евремовой, Йовановой, Страхинича, Бана и Душановой. В их комнату с тремя окнами на каждую улицу и чуть приподнятым угловым балконом нас пригласили праздновать новый 1972 год. Точнее говоря, пригласили на «фасоль с мясом без мяса», а это значило, что фасоль приготовили вчера и вчера же съели из нее все мясо. Нас предупредили, что компания будет разношерстная, но мы не знали, кто там окажется и кто с кем уйдет. Собравшись, мы увидели, что комната напоминает по форме букву Г. На застекленном балконе на ступеньку выше комнаты (в дождь с него можно было услышать Дунай) стояла плита, возле нее суетился Максим. В одном конце комнаты был накрыт стол со свечами, воткнутыми в две старые трубки. Когда кто-нибудь хотел в туалет, где не было освещения, он брал трубку в зубы, зажигал свечу и отправлялся туда. У противоположной стены стояла старинная кровать на троих со встроенными часами, из которых давно уже вытекло время. Кровать с шестью маленькими столбиками и латунными шариками на них была железная, размером никак не меньше, чем три на два с половиной метра. — Когда кто-то ложится в нее, — шепнула мне одна из девушек мимоходом, — это как если бы сатана плюнул в Дунай. Поговаривали, что Анджелар (у него не было постоянного жилья) иногда спал в ней с парами подружек. Сам он, однако, заметил с улыбкой, что однажды (в отсутствие хозяев) так и случилось, но он поспорил, что ни одну из них не тронет. Спор он выиграл, а девушки проиграли. — Кровать для Жаклин Кеннеди, — заметил кто-то в шутку, на что Анджелар возмутился и добавил, что о Жаклин Онасис следовало бы хорошенько поразмыслить. — Не кажется ли вам, — спросил он у присутствующих, — что православная церковь вправе объявить Жаклин Онасис святой XX века? Все объясняется просто. Разве жена римского императора Констанция, Елена, не перешла после смерти мужа в православие и не стала тем самым святой? Почему же, в таком случае, жена одного из самых известных католических президентов главной западной империи XX столетия, которая оставила римскую веру своего мужа и перешла в православие, обвенчавшись с Онасисом по восточному обряду, не заслуживает такого же отношения? Разве она сделала что-либо менее вызывающее для своего тогдашнего окружения, чем Елена? Подумайте сами… — Смотрите на него, да он свою тень перепрыгнуть хочет! — изумленно воскликнул Василий, но в тот же момент разговор был прерван. Лиза Флашар, одна из тех девушек, что особенно бросалась в глаза за ужином и на которую явно рассчитывали в тот вечер (а может, и на более долгий срок) хозяин и его друг Максим, неожиданно и несколько преждевременно раскрыла карты, вероятно, из страха, что ее опередят. Еще во время разговора она весело и не таясь запускала руки в карманы присутствующих и уже знала, у кого в случае необходимости могла найти чистый платок, зажигалку и понравившиеся ей сигареты. Вдруг она достала из кармана Анджелара вилку и, воскликнув: «Давайте ужинать!» — ткнула его вилкой в плечо. А чуть позже, когда гостям вынесли заправленную ложкой меда фасоль, под столом можно было заметить, как Лиза разулась и тайком от нас пытается пальцами ноги отстегнуть рубашку Анджелара, на которой держались штаны. Поначалу Анджелар ел спокойно, но вдруг отодвинул тарелку и, обернувшись к Лизе, воскликнул: — Скажи на милость, что тебе все-таки от меня нужно? Мы все на мгновение перестали есть, а Лиза хладнокровно ответила: — Тебе это прекрасно известно. Тогда Анджелар гневно швырнул салфетку в тарелку и прошипел: — Хорошо, тогда раздевайся! — Прямо сейчас? — спросила Лиза. — Прямо сейчас, — ответил Анджелар. Лиза посмотрела на него долгим взглядом, словно высасывая из него все то, что он только что съел, встала из-за стола, подошла к постели и у всех на виду принялась, не отводя от него глаз, раздеваться. Она стояла в углу комнаты, как дерево, медленно заполняющее свою тень листвой, а Анджелар выглядел, как заяц, попавший в полосу, очерченную двумя лучами фар, из которой ему не вырваться. Максим, желая, очевидно, смягчить растерянность, наступившую за столом, подошел к плите на балконе и открыл простоквашу. Лиза уже снимала чулки, они оказались разного цвета. Анджелар безмолвно сидел за столом, спиной к постели, рядом с Василием, а Максим нарезал в простоквашу огурцов и положил на огонь нож, чтобы раскалился. Потом очистил головку чеснока. Одетая в наши взгляды, Лиза снимала лифчик; две его половинки застегивались спереди. На одной было написано: Да, а на другой вай! Как будто лизины груди носят имена — одна мужское, другая — женское, но прежде чем она расстегнула лифчик, на нем можно было прочесть:А потом читать было незачем. Сначала Лиза откинула одну половинку лифчика, потом другую, и мы увидели, какого цвета ее соски. Анджелар по-прежнему не смотрел на нее, никто не притрагивался к еде, а Максим у окна раскаленным ножом начал резать чеснок, и его запах разнесся по комнате, смешиваясь с запахом тела и волос Лизы. Затем Максим добавил в простоквашу с огурцами редьки и оливкового масла. Пока он крошил в салат укроп и жимолость, Лиза освободилась от последней детали одежды. Максим подошел к столу и поставил миску перед Василием и Анджеларом, а Лиза, откинув покрывало, легла в кровать. Лишь ее босая нога торчала из-под покрывала. Кровать заскрипела под ней как раз в тот момент, когда Анджелар потянулся вилкой к салату. Он замер на полпути и почувствовал, что мы на него смотрим. Мне стало ясно, что все мы в комнате выбираем между двумя «не буду». Тогда Анджелар отложил вилку, встал и подошел к кровати. Он не раздевался, только снял кольцо с руки и надел его на безымянный палец Лизиной ноги. Потом расстегнул ту пуговицу, к которой были пристегнуты брюки, и шагнул в кровать. Раздался крик. Всем сразу стало понятно, что вскрикнула не только Лиза. Вскрикнули все женщины в комнате. Анджелар и Лиза лежали, укрывшись, и пока она своими рыжими волосами вытирала ему рот от еды, Максим в другом конце комнаты снова подошел к плите у окна, как будто ничего не происходит. Он прибавил огня, обильно посолил раскаленную поверхность плиты, взял несколько небольших острых перцев и длинный нож, и тут в комнате послышалось, будто кто-то жует. За столом, однако, никто не ел; это Лиза в поцелуе жевала язык Анджелара. Максим разбил прямо на плиту несколько яиц, которые сразу схватились на жару, и в каждый желток воткнул по перцу. Перцы, коснувшись раскаленной поверхности, выпустили острый сок в желтки. Позади нас Анджелар и Лиза старались дышать в одно дыхание, а передо мной сидел Василий, брал одну за другой фасолины и давил их языком, но не глотал, а держал во рту. Максим длинным ножом снял яйца с плиты на тарелку и принес их ка стол. Лизу стало слышно громче, чем Анджелара, и мы на мгновение подумали, что она поет, но тут же поняли, что это не пение, что ее голос, как горная река, следовал за тем, что происходило глубоко под ним, на дне течения. Река пела на два голоса. Один был постоянный, светлый, журчащий, другой — глубокий, угрожающий, подвижный. Светлый голос принадлежал водоворотам, руслу, пене, краскам, которые река не в силах смыть и унести с собой; они не меняют места и облика. Второй, глубокий голос был голосом воды, что протекает под водоворотами, эта вода всегда разная; она несет птиц, задушенных ветром, и бревна, глухо врезающиеся в отмели или выскакивающие, как рыбы, из реки. В этих голосах можно было услышать даже мох с берегов и ивы, спустившиеся к воде. А потом за столом никто не мог больше выдержать. Максим наконец покинул свое место на балконе, торопливо направился к столу, отломил кусок лепешки, обмакнул его в стакан ракии и жадно проглотил «пьяный хлеб». Вскоре все кончилось. И за столом, и в постели. Мы не спеша оделись и вышли на улицу. Выяснилось, что нас семеро и что я остаюсь без пары. «Ничего страшного, — пришло мне в голову, — дождусь момента, когда Анджелар и Лиза расстанутся, и попробую снова». Впрочем, так же, несомненно, думали и другие, праздновавшие новый 1972 год на углу улиц Капитана Миши и Скандербега. Но долгое время казалось, что женщины, присутствовавшие на том ужине, никогда не простят Анджелару того, что той ночью Лиза сделала с ним и с ними. Во всяком случае, в тот раз мы увидели, как едят «пьяный хлеб».ДАВАЙ!
II
Прошел год, и мы иногда проводили время вместе, но в комнату с балконом на Дорчоле больше не заходили. Зато мы с Анджеларом и Лизой часто гуляли по улице, где она снимала комнату с двумя однокурсницами. Улица шла параллельно Дунаю, но с другой стороны Нового кладбища. У нее было три названия, и заканчивалась она коленом, которое защищало ее от кошавы.[4] Сначала она называлась улица Воеводы Браны, затем (хотя никуда не сворачивала) Воеводы Саватия и, наконец, Хаджи-Мустафина. Она была из числа тех, на которых ночью слышно, как соседи бьют в кровати комаров. Здесь мы писали на тротуарах похабные стишки, сидели ночью на корточках по углам и курили или искали самый маленький дом в Белграде, о котором Анджелар говорил, что он стоит на этой улице и что его дверь, открываясь, закрывает окно. Мы не читали ничего, кроме текстов на конвертах грампластинок. Анджелар и Лиза иногда водили нас в рассветный час в безлюдные садики с качелями между деревьев и показывали, каким необычным способом можно на этих качелях заниматься любовью. Анджелар держал качели с Лизой в объятиях, легонько притягивал их к себе и отпускал. Порой мы ходили на Новое кладбище, готовились там к занятиям на скамейках и целовались с песком во рту, размышляя о смерти. Изредка кто-нибудь из нас тайком от Анджелара подходил к Лизе и спрашивал: — Ты все еще носишь это? — Что? — Сама знаешь что, кольцо Анджелара на ноге. — Я его не снимаю, — отвечала Лиза, и разговор на этом заканчивался. Только зимой мы вновь отправились к Уршичу отмечать Новый год. Было много смеха, который поначалу был мне непонятен, а потом одна из наших сокурсниц (та, что после того ужина на Дорчоле осталась с Василием) открыла мне секрет. Девушки сидели на кровати и что-то, скрывая от мужчин, вязали. Спицы и вязанье они принесли с собой тайком. Невероятным было то, что появлялось в их руках. Та зима 1973 года началась сильными морозами, и они (по совету одной из их бабушек) вязали своим юношам что-то вроде гульфиков, которые надевают зимними ветреными ночами, когда надолго выходят из дома. Девушки вязали их из своих волос, собранных в течение года, спряденных и смотанных в клубки. Футлярчики получались разными по цвету и размеру. По цвету волос, из которых их вязали, они были вороные, льняные и рыжие, как тот, что вязала Анджелару Лиза. Было видно, что ради него ей пришлось обрезать волосы. Девушки украдкой бросали взгляды на работу соседок, глядя в сторону озаренной снегом крыши, на то, какую форму (по образцу, который у каждой был в голове) принимают гульфики. Когда одна из девушек рассмотрела Лизино вязание, она из зависти тайком оборвала под кроватью нить, из которой вязался футлярчик для Анджелара. Невозможно было проследить, что было дальше, потому что начался новый, 1974 год, и мы все поднялись поздравить друг друга. В темноте осталась лишь оборванная в прошлом году и не вплетенная в новый год нить из клубка Анджелара.III
Мы заснули на рассвете, а под вечер меня разбудили запах жареных колбасок и полупьяные голоса, звучавшие все громче. — Я создан калекой, а вы хотите, чтобы я был немым, — слышалось, как Анджелар кричит Максиму и Василию, продолжая в новом году какой-то давний, неизвестный мне спор. Лизы и остальных девушек не было, Максим у окна жарил колбаски, и его волнение было заметно по тому, как сильно он прибавил огонь, так что колбаски то и дело подпрыгивали над сковородой и ударялись в оконное стекло. За столом сидели Василий и Анджелар. Василий едва слышно говорил: — Разве ты не видишь, что и лицо на тебе не твое? Взгляни на любую фреску, на любую картину, ты сразу же его найдешь. Тебе дали его на хранение, на время поносить, словно чужую шляпу, и оно перейдет дальше. То же самое — с твоим голосом и со свистом. Впрочем, обернись к своей тени на стене, она росла и полнела вместе с тобой. В нее ты однажды ляжешь в последний раз, и она переживет тебя. Далеко не все равно, на каком огне ты кормишь свою тень. Ты обязан выбирать, где ее пасти. Подумай об этом, сколько раз я советовал тебе не всякому огню доверять. Я знаю, сын никогда еще не помог отцу, но ты все время третий, тот, кто лишний. Пришло время вывернуть подкладку в карман… Василий взял вилку Анджелара и протянул ему. — Причеши бороду, — сказал он вполголоса, но Анджелар отказался. И словно неким доводом в этом непонятном споре на стол упала— И вилка твоя, — продолжал вполголоса Василий, — не всегда была с четырьмя зубцами, как сейчас, но была, как и все вещи и существа о двух концах. Надеюсь, ты это признаешь. Только позже, соединением двух таких вот двузубых вилок, появилась четырехзубая. Все ее зубцы имеют определенное значение. Видишь, первый зуб, угловой, он создает, а не создан, это принцип или символ отца. Второй зуб принадлежит тому, кто создает, но и сам создан. Это Слово. Третий зуб создан, но ничего не создает, как ты, например, сынок. Четвертый зуб, снова угловой, принадлежит тому, кто не создан (как и первый) и не создает. Это первый зуб в состоянии отдыха, ибо тот, кто может создавать, может и не создавать. Он вновь принадлежит отцу как концу пути, завершающемуся там же, где и начался. Соединение двузубой вилки в четырехзубую, согласись, выражено в современных системах исчисления по-разному. Короче говоря, два плюс два на Востоке — это не то же самое, что в Европе. Возможно, разница проистекает из того, что к понятию числа «два» в Китае пришли вовсе не тем путем и не в тот момент, когда в европейских языках появилось двойственное число[5] (как и в нашем языке), а в математике — понятие двоичности. Число два, самое важное число, сводится, впрочем, к единичности, ведь оно — лишь отражение нашей двуглазости, подобно тому, как двузубая вилка двузуба только в мясе и однозуба в держащей ее руке. Из единственности происходит множественность, поскольку неспособный воспринять могучее содержание Единичности дух (как и наш желудок) измельчает его, делит на куски, пережевывает и превращает Единственность во множественность, чтобы ухватить ее по частям. — Вам хочется от меня избавиться! — внезапно воскликнул Анджелар, перебив Василия с возбуждением, ничуть не соответствовавшим смыслу и мирному тону только что сказанного. Непривычно было слышать его испуг и видеть, как он возбужденно поворачивается к Максиму, продолжавшему жарить колбаски в белом вине. — Тебе известно, — спокойно продолжал Василий, — что мы подняли тебя из ничего. Каждый носит свою смерть во рту и может, когда пожелает, выплюнуть ее, но нельзя ставить под сомнение то, чем все живы. Все дело в этом. — Но ваша кровать на троих, — говорил Анджелар нервно, — разве в ней нет места и для моего слова? Он дрожал так, что пальцы его барабанили по столу, и оглядывался на меня и Максима, расставлявшего у окна тарелки. Очевидно, Анджелар сразу же почувствовал в разговоре какой-то скрытый, опасный для него смысл, поначалу мне непонятный. — Скоро все будет ясно, — продолжал между тем Василий. — Греческая, а потом и византийская система, в которой для обозначения чисел использовались буквы и которая на протяжении тысячелетия употреблялась среди славян, включает нас в эту процессию математических расколов. Поэтому и нам необходимо переливание памяти. Упомянутая система идеальна, поскольку, используя буквы вместо цифр, она единственная дает всегда два точных результата. Если записать простейшее арифметическое действие вычитания арабскими цифрами: 441-20=421, получится только один результат. То же самое действие, изображенное греческими (и славянскими) буквами, дает, однако, два решения. Первое совпадает с арабским:ВИЛКА АНДЖЕЛАРА.
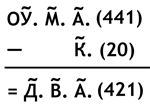 Количественное значение выражения:
Количественное значение выражения:  дает результат (как и в случае арабских цифр) 421, но если прочитать его как буквенное выражение, получится слово два. Это слово связано с первым результатом, поскольку цифры этого числа (два) содержатся каждая в предыдущей: единица в двойке два раза, двойка в четверке два раза. Таким образом, поскольку все цифры в этой части мира имеют свои буквенные обозначения, все результаты имеют соответствующий смысл. И наоборот. Каждое слово в нашем разговоре имеет свое числовое значение. Например, год назад на лифчике Лизы было написано слово «Давай!»,[6] как мы все помним. Его числовое значение составляет 1145, а это наверняка объем ее груди в миллиметрах, что ты, Анджелар, должен знать лучше меня. К нам, забывшим двойственное число и уже несколько веков использующим в речи только единственное и множественное, оно вернется однажды в язык и полезет из ушей.
— Не понимаю, какое отношение вся эта ваша математика имеет ко мне, — снова перебил Анджелар Василия.
— Скоро поймешь, что имеет, и еще какое. Если не к тебе, значит, к твоей вилке. Ты не приручил ее, смотри, не сломай об нее зуб.
Итак, в промежутке между двумя правильными (но различными) решениями одного и того же арифметического действия скрыты огромные незаполненные области, неосуществленные возможности, неисчерпаемые источники энергии. Этот дополнительный, неучитываемый и уточненный результат, который мы перестали принимать во внимание (подобно тому, как наш язык забыл двойственное число), выбрав современную систему числовых обозначений, и есть тот зазор в пространстве, в котором можно жить здесь, на Балканах, на границе двух систем исчисления, где результаты по греко-славянскому варианту обогащаются забытыми и неожиданными резонансами. Говоря коротко, два и два сегодня на Востоке ровно столько, сколько два и два будет на Западе завтра. А это вовсе не одно и то же. По крайней мере, не в тот же день. В подобной ситуации невозможно игнорировать эти невозделанные, неисчерпанные и неиспользованные промежутки пространства, которые следует заселить и эксплуатировать. Доводы таковы, что ты обязан принять их во внимание, если не как свои собственные, то как способ нашего существования, как formulae, по которым только и можно выжить на этой земле… А вместо этого ты ведешь себя как человек, который (чтобы не состариться) бежит за днем…
— Да что это вы в последнее время вселенский собор какой-то проводите, осуждая меня?! — воскликнул Анджелар запальчиво, в приступе отчаяния. — Совсем перестали со мной разговаривать как обычно. На рынке, на улице, на трамвайных остановках оба твердите какие-то непонятные вещи. Ведь сейчас не 336 год, а 1974! Спросишь, сколько платить за лук — а вы философствуете о рожденном и нерожденном; хочешь узнать, почем хлеб, отвечаете: «Отец дороже сына!» Поинтересуешься, свободна ли ванная, Максим отвечает: «Сын произошел из ничего!», а Василий: «Три динара менее ценны, чем два динара!» Как будто я гвоздь у вас в тесте. Это Белград, а не Сингидунум![7]
— Конечно, — спокойно ответил Максим, — но и фасоль с рынка Байлон, та, что сейчас перед тобой, куплена только что описанным способом, по промежуточной цене. То есть по двойственной цене, одна из которых уничтожает другую.
И в тот же момент он ударил Анджелара так, что тот стукнулся головой об стену, а потом о тарелку на столе. Так начался ужин.
дает результат (как и в случае арабских цифр) 421, но если прочитать его как буквенное выражение, получится слово два. Это слово связано с первым результатом, поскольку цифры этого числа (два) содержатся каждая в предыдущей: единица в двойке два раза, двойка в четверке два раза. Таким образом, поскольку все цифры в этой части мира имеют свои буквенные обозначения, все результаты имеют соответствующий смысл. И наоборот. Каждое слово в нашем разговоре имеет свое числовое значение. Например, год назад на лифчике Лизы было написано слово «Давай!»,[6] как мы все помним. Его числовое значение составляет 1145, а это наверняка объем ее груди в миллиметрах, что ты, Анджелар, должен знать лучше меня. К нам, забывшим двойственное число и уже несколько веков использующим в речи только единственное и множественное, оно вернется однажды в язык и полезет из ушей.
— Не понимаю, какое отношение вся эта ваша математика имеет ко мне, — снова перебил Анджелар Василия.
— Скоро поймешь, что имеет, и еще какое. Если не к тебе, значит, к твоей вилке. Ты не приручил ее, смотри, не сломай об нее зуб.
Итак, в промежутке между двумя правильными (но различными) решениями одного и того же арифметического действия скрыты огромные незаполненные области, неосуществленные возможности, неисчерпаемые источники энергии. Этот дополнительный, неучитываемый и уточненный результат, который мы перестали принимать во внимание (подобно тому, как наш язык забыл двойственное число), выбрав современную систему числовых обозначений, и есть тот зазор в пространстве, в котором можно жить здесь, на Балканах, на границе двух систем исчисления, где результаты по греко-славянскому варианту обогащаются забытыми и неожиданными резонансами. Говоря коротко, два и два сегодня на Востоке ровно столько, сколько два и два будет на Западе завтра. А это вовсе не одно и то же. По крайней мере, не в тот же день. В подобной ситуации невозможно игнорировать эти невозделанные, неисчерпанные и неиспользованные промежутки пространства, которые следует заселить и эксплуатировать. Доводы таковы, что ты обязан принять их во внимание, если не как свои собственные, то как способ нашего существования, как formulae, по которым только и можно выжить на этой земле… А вместо этого ты ведешь себя как человек, который (чтобы не состариться) бежит за днем…
— Да что это вы в последнее время вселенский собор какой-то проводите, осуждая меня?! — воскликнул Анджелар запальчиво, в приступе отчаяния. — Совсем перестали со мной разговаривать как обычно. На рынке, на улице, на трамвайных остановках оба твердите какие-то непонятные вещи. Ведь сейчас не 336 год, а 1974! Спросишь, сколько платить за лук — а вы философствуете о рожденном и нерожденном; хочешь узнать, почем хлеб, отвечаете: «Отец дороже сына!» Поинтересуешься, свободна ли ванная, Максим отвечает: «Сын произошел из ничего!», а Василий: «Три динара менее ценны, чем два динара!» Как будто я гвоздь у вас в тесте. Это Белград, а не Сингидунум![7]
— Конечно, — спокойно ответил Максим, — но и фасоль с рынка Байлон, та, что сейчас перед тобой, куплена только что описанным способом, по промежуточной цене. То есть по двойственной цене, одна из которых уничтожает другую.
И в тот же момент он ударил Анджелара так, что тот стукнулся головой об стену, а потом о тарелку на столе. Так начался ужин.
IV
Максим быстро размял на балконе два вареных баклажана, залил их козьим молоком, добавил петрушки, масла и сыра и как следует перемешал. Потом все это тихо поперчил и громко посолил, хлопнув ладонью о ладонь, чтобы отряхнуть пальцы. Потом вынес миску на стол. Когда Анджелар потянулся за вилкой, скорее для того, чтобы загладить размолвку, чем для еды, Максим сказал ему: — Тебе давно пора стать рыжим, как Лиза, а ты об этом вовремя не позаботился. Сейчас я это исправлю. Он схватил его своими сильными руками за бороду. Разделил ее на две части и с силой дернул вниз, подставив ногу так, что Анджелар ударился лицом о его колено. Затем отошел к плите и принес в глиняных мисках приготовленную фасоль с колбасками, завернутыми в запеченный перец. Когда он поставил их на стол, усы и борода Анджелара медленно краснели от крови, которая лилась на них. Он стал рыжим. Когда ему предложили фасоль, Анджелар рухнул на пол. Максим поднял его и отнес в кровать, а его тарелку с вилкой поставил передо мной. — Ешь, — сказал он тихо, увидев, что со мной происходит что-то странное, что страх охватывает меня. Очевидно, то были последние мгновения, когда Анджелару еще можно было помочь. Максим отошел к плите и надрезал несколько лепешек, которые пек, и положил в них, как в карманы, сметаны. Лепешки были твердые и хрустящие, как орехи, и постукивали у него в пальцах. Анджелар тем временем попытался подняться с постели, но к нему подошел Максим, снял свой ремень и привязал его голову к пруту кровати, как привязывают вола. За это время одна лепешка подгорела. Можно было закричать, но зубы у меня лязгали, как будто я жую. Мои зубы сдавили колбаску Анджелара, и из нее мне в рот брызнуло несколько струек теплой жидкости. В этот миг было видно, как в комнате, в зеркале напротив окна, идет снег. Анджелар в последний раз попытался освободиться. Максим потерял терпение, подошел к кровати и поставил ее вместе с Анджеларом вертикально. Анджелар остался висеть на ремне… Больше я не могла выдержать. Я отломила кусочек хлеба и опустила его в стакан с ракией. Хлеб в мгновение ока впитал в себя алкоголь, и я проглотила его. Другой кусок «пьяного хлеба» был уже не нужен. Ни мне, ни Анджелару. Теперь я могла спать спокойно с кем угодно. Единственного человека, который по-настоящему привлекал меня, больше не было. Василий, Максим и я остались наконец без третьего, который лишний.Конница (перевод Е. Кузнецовой)
С годами приходит время, когда мы все чаще выбираем себе в спутники для прогулок не тех, с кем нас связывает молодость и старая дружба, а тех, с кем нас сближают болезни. Так и я полтора года тому назад, страдая от давления, двойной болью отдающегося в затылке, начал ходить с Зораном Мишичем на долгие вечерние прогулки, рекомендованные нам обоим врачами, и эти прогулки открыли мне наконец, где я живу. А жил я тогда на улице, пересекающей улицу Рузвельта у Нового кладбища. Улица Рузвельта, как известно, идет по виадуку над оврагом, в котором некогда протекала Соловьиная речка, а сейчас расположена улица Димитрия Туцовича. На склонах оврага находится множество странных улочек, на которые во время дождя устремляется вода с Нового кладбища, и они дышат воздухом с берегов Баната, ведь здесь, на высоте птичьего полета, взгляд не встречает преград от Гайдуцкой могилы и Карабурмы, где когда-то расстреляли мятежников, до Звездары, где свадебные процессии по сей день идут пешком. Во время долгих прогулок я изучил этот край, раскинувшийся по одному склону оврага, вокруг церкви Лазарица, где лунный свет виден и тогда, когда нигде в городе его нет, и по другому, ниже рынка Джерам, где продается лучшая в городе рыба. Здесь на склонах можно увидеть домишки, соединенные задними стенами, балконы, заложенные кирпичом, так что на них нельзя выйти, дворики меньше комнаты, сросшиеся трубы, дым из которых смешивается, потерянные улицы (вроде Баньской), с одного конца заканчивающиеся тупиком, а с другого незаметные, так что ночью их можно найти разве что случайно или спрашивая через окно у кашляющих в кроватях жильцов. Здесь шумит горячая канализационная вода в люках, и у них зимой собираются замерзшие собаки, отогревая шерсть на теплом пару, что, словно белые кусты, растет по углам. До сих пор здесь сохранились фальшивые фасады с дверьми-близнецами, ведущими не в дом, а во двор, шелковицы, окрашивающие улицу, словно чернила, и крылечки на куриных ножках, каждая доска на которых скрипит по-своему, исполняя мелодию, одну — когда поднимаешься, другую — когда спускаешься. Из дома в дом перекликаются настенные часы, словно они голодны, на рассвете разносится запах из пекарен, и пьяницы приносят домой теплый хлеб и кладут в изголовье женам, надеясь, что его аромат приведет тех перед пробуждением в добродушное настроение. Там же стоит постоялый двор с выложенной галькой террасой на втором этаже, в туман он испускает смрад, какого нет ни в одном другом доме. Ночью, преображенное лунным светом, все это выглядит так невероятно, что однажды мы на вывеске «Автомеханик» прочитали:Недавно начали расширять улицу Димитрия Туцовича, и многие домики там были снесены за государственный счет. Как-то вечером, во время привычной прогулки, я заметил среди развалин дома на разломанном полу бывшей комнаты возвышающуюся в ночи одинокую белую изразцовую печь. Она была стройна, хороша собой, с украшением наверху, небольшим алтарем в центре для плошки с водой, с дверцами, которые могли бы вести во дворец, а вели в полную пепла топку. Сезонные рабочие из деревень, которые сносили дома и строили новую дорогу, наверняка с умыслом сохранили печь, оставив и часть трубы, чтобы ею можно было пользоваться. Тем вечером, непривыкшие сидеть (а только работать или лежать), они отдыхали, развалившись вокруг печи, топили ее, пекли на огне перец, грелись, потому что октябрь выдался холодный, и не спеша готовились ко сну. Они лежали — казалось, работа не утомила их, а ранила — и тихо разговаривали. Привлеченный светом огня в одинокой печи, пережившей дом, я завернул на рынок, купил у сонных крестьянок несколько перцев, принес в качестве входной платы и подошел к огню. Я попросил рабочих испечь перцы, и этого оказалось достаточно для того, чтобы они среди развалин приняли меня, кутающегося в дождевик, без подозрений. Разговор за перцем, фаршированным сыром, давно угас, кое-кто дремал, а говорил только один человек, я не успел застать начала его истории. Лица рассказчика не было видно, он лежал, прислонившись головой к основанию стены, при свете печи виднелись только его ноги. У него были очень широкие колени, как будто их замесили такие же широкие ладони, и сильно выгнутые ступни, казалось, он, словно ладонью, сгибает ими изнутри обувь. С сожалением вынужден признаться, что не смогу передать его рассказ так, как услышал. Все, что в моих силах, это пересказать описанные в нем события так, как я их понял. Не знаю и того, когда происходило действие рассказа — рассказчик сообщил об этом (если вообще сообщил) до того, как я к ним присоединился. Голос у него был горловой, но не от природы, а оттого, что горло было сдавлено, поскольку он лежал, опершись головой о стену, и эта поза искажала голос. Судя по всему, это не мешало ни ему, ни его слушателям, никто не придавал особого значения его рассказу. Привыкшие к тому, что главное делается руками, ногами и горбом, они спокойно вставали, отходили в темноту, мочились поверх высокого фундамента, переворачивали перец на печи и собирали дрова, не боясь пропустить что-то в рассказе, а потом возвращались, садились к огню и слушали дальше.А В ТОМ ХАН И ЧАРЫ.[8]
* * *
— Женщины лучше всего готовят, когда они злы, а мужчине легче всего умереть в гневе. Упомянутый Витомир Ямомет, — рассказывал незнакомец из своей тени, — спустился к Дунаю не в лодке и не пришел пешком, однажды утром он прискакал верхом и не сумел проговорить ничего, кроме имени. Он умер прямо на коне, не вынув ног из стремян. То, что, умирая, он был разгневан, было ясно по той скорости, с которой он прискакал, и по пыли, покрывшей три конских пота, а это значит, что он мчался несколько дней подряд. В двух переметных сумах он привез двух малышей (было неизвестно, сыновья ли они ему, да и про имя осталось неизвестным, его оно или убийцы, за которым он гнался, но нашел не то, что искал, а то, что само всегда нас находит). Кроме детей, при нем была сабля, ею в пути играл старший ребенок, которого конь нес в левой суме, и большой колокол, в котором сидел второй ребенок. Саблю и коня селяне забрали себе, а детям досталось каждому по половине имени, так что старшего назвали Витом, а младшего — Омиром. Ямометов вверили заботам попа, ему же отдали колокол, потому что в том краю, где испокон веков жили белые черепахи, не было ни колоколов в церквях, ни церквей в селах. Вот так, говорят, зазвонили в первый раз колокола на Дунае. Мальчики росли, сея по каменистым речным берегам горох и лук там, где на Дунае бьет родниковая вода. Старший рано повзрослел, у него появились ранки в уголках рта из-за старых дев, которые давали ему, совсем мальчишке, свои груди позабавиться. Вскоре он почувствовал себя спутанным одеждой, закованным в пуговицы и охомутанным своей косичкой. «Кто знает, какая ночь в нем», — говорил поп, а Вит отговаривался тем, что «не будет больше ложкой сеять». Однажды он нашел у кого-то из селян под подушкой отцовскую саблю, которой играл ребенком, сидя в переметной суме. То ли он узнал ее, то ли она ему понравилась, но он ее украл и прямо без ножен, которых и не заметил, унес в мир, следуя за ней, пока она сияла перед его глазами. У младшего, Омира Ямомета, время было замкнуто в камне. Говорили, что птицы могли свить в его волосах гнездо, таким он был спокойным. Поп учил мальчика читать по книге, переплетенной в кожу, так что измучились отбивать ее от собак, чтобы не обглодали. У Омира была такая длинная косичка, что он мог ею пол в церкви мыть. Немного овладев грамотой, он стал ловить черепах, писал им на панцире буквы и отпускал, чтобы они сами слагали слова, а на Духов день прилеплял им на спину свечи и гнал вниз, к реке. Со временем в селе стали поговаривать, что он трижды опоясан бородой, надышался света огня и что быть ему знахарем, если часы остановятся на его числе и если он не наткнется на девушек-перевозчиц, а то они перевезут его на другую, царскую сторону воды и отнимут посреди реки то, что мужчины способны отдать лишь ненадолго. Поскольку ему не доводилось покидать родные места, он, одетый в повязанные кнутом на поясе волосы, ходил по лесу, читая ту единственную книгу, что была у попа. Ум его бежал быстрее языка, еще необученного словам, но, как собаки, сворачивающие перед ним с дороги, не знал, куда припустить, и стегал плетью в свою сторону. Так приходилось ему возвращать мысли к книге и собирать их после каждой точки. Покуда он был молод и неискусен в грамоте, наткнулся он, бродя по лесу, на такое место в книге, где, если вкратце, говорилось о том, что любую вещь следует рассматривать, направляясь от нее к самому себе, от Бога к человеку, а не наоборот. Точно так же человек по-разному чувствует себя, когда он в плаще и когда видит этот плащ на ком-то другом. «Таким образом мы можем поставить себя на верное место, — размышлял Омир Ямомет. Когда юноша прочитал это, или, по крайней мере, ему показалось, что прочитал, он сильно испугался. — Сердце окрасит мне глаза и уши и все будет выглядеть не так, как прежде, — подумал он и тут же попытался отправиться навстречу самому себе по дороге от Дуная и увидеть себя по-новому. Но в крохотном пробеле между книжными словами оказалась пропасть. — На это способен только Бог, — думал он, — который со своего места смотрит на свое тело на кресте». Спустя год или два, став старше и искуснее в словах и языке книги, вчитываясь вновь в ее страницы, Омир Ямомет не смог уже отыскать тот отрывок, что так его потряс. Он искал и искал, листал книгу, оставлял ее на ветру, чтобы страницы сами открылись, в надежде, что узнает нужное место, но все напрасно. Честно говоря, он нашел несколько фраз, напоминающих то, что когда-то прочитал, но они говорили о чем-то другом, и дорогого неверного значения, что открылось ему, пока он не вполне владел языком книги, больше не появлялось. Тогда он перестал читать и стал спасать прочитанное от написанного. Он занялся знахарством и пошел по стопам своего учителя — попа, который и сам, покуда был молод, занимался целительством. «Знахарь, — думал он, — подобен укротителю зверей, что ведет на веревке рысь, козу и птицу. Он не может кормить их всех одной пищей, ибо одно и то же семя по-разному принимается разной почвой. От одной и той же болезни не излечишь одним снадобьем того, у кого волосы соленые, того, у кого они пресные, и того, у кого борода горчит. Все зависит от людей, а не от их недугов. Как иной раз испугает нас бездна в дождевой луже, в которой разве что чуть намокнет обувь, так же опасны и небывалые высоты в нас самих — с них можно сорваться в такую пропасть, по сравнению с которой обрыв на Дунае — ничто. Все зависит от того, куда мы шагнем. В воду — лишь замочим подошвы, в бездну под водой в той же луже — разобьемся. В зависимости от этого шага наши болезни могут оказаться смертельными или безобидными». Церковь постепенно наполнялась больными, и по праздникам он прикладывал руки, умащенные травами, на глаза немощных или велел им замкнуть в челюстях немного света свечи и хранить его до следующего праздника, чтобы свет этот много раз переночевал во рту. Иногда он встречал людей со страшными ранами, про которые ему говорили, что они нанесены саблей его брата, но в тех глубоких порезах, не щадящих даже кость, он не мог узнать слабую руку мальчика, с которым вырос. Со временем раны становились все мельче и мельче, как будто рука, наносящая их где-то там далеко, устала или колебалась во время удара. «Что происходит с моим братом?» — спрашивал себя Омир Ямомет, перевязывая раненых. Так продолжалось пять лет, и вот однажды Омиру сообщили, что в село вернулся Вит. О нем и раньше доходили порой разные слухи — что он погиб, что ест с сабли, что просфору берет копьем, что он из тех, кто в один день бывает на свадьбе, на похоронах и на завершении строительства дома, когда возводят конек. Омира Ямомета иногда звали спуститься вниз по течению и взглянуть на имперские укрепления с другой стороны воды и на мир, в котором бродит страх, посеянный его братом, но он упорно отказывался. А слухи о брате не иссякали. Говорили, что он скачет на коне, как отец — если это вообще был их отец, — что за ним идут другие, такие же, как он, что он получил наследство и стал господином, что глаза накормил он по миру, что сидит в высоком седле, так тесно к нему прижавшись, что женщины удивляются, где у него, такого крупного, помещается в такой тесноте кожаное копье. Вит Ямомет действительно в тот же вечер появился в селе. — Я знаю, в какую чашу не наливают: в полную, — сказал он, с трудом слезая с коня на ступени церкви. — А ты? — обратился он к брату насмешливо. — Слышал я, что ты до сих пор женского хлеба не пробовал. Никак не научишься смотреть третьим глазом? — И остановленные часы показывают иногда точное время, — отвечал ему Омир, впуская его в комнату под церковью. Так у братьев с самого начала не сложились те отношения, что были между ними раньше. Когда легли спать, Омир понял, что сны Вита тяжелее его руки. Тогда же ему стало ясно, что Вит приехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ним, а чтобы у него исцелиться. Как первая половина их имени отправилась в мир и разлетелась, так и вторая, подобно эху, разнеслась и привлекла к себе первую. Голос вернулся к эху. Вит нашел Омира не по любви, а по его славе целителя. «Вижу я, брат, — думал той ночью Омир Ямомет, глядя, как Вит во сне борется с постелью, — душу не родить телом. Кажется мне, что души наши — не от тех же самых земных родителей, что, допустим, ноги; душа возникает из другого источника и идет по жизни за своей волной, ищет свои уши, и не слышат друг друга брат и сестра, и не родные они, даже если родные их руки. Откуда пришла твоя душа? Во сне посадили цветок, а наяву вырос репей. Тот же, кого я жду, тих голосом и дорог истиной. Мой брат в душе и мужчина телом. Я не видел его, но знаю, что он есть, и красота его не дает мне заснуть. Идет он в мою судьбу, навстречу мне, сильный и знающий, и соединятся в нем милость и истина…» Наутро воины Вита оседлали коней, но Виту Ямомету уезжать не хотелось. — Ты, брат, какой-то слишком добрый, — сказал он наконец. — Если плюнешь в соседний двор, все курицы сдохнут. — А что? — спросил Омир Ямомет. — Да так, — отвечал брат, и страдание собралось у него между глазами, а пот заструился по косичке и стал капать на землю позади него. Внезапно он вскочил и одним взмахом сабли отрубил ноги козе, привязанной во дворе. Потом задрал штанины и сказал брату: — Смотри! На его икрах, примерно в том месте, где он отрубил козе ноги, виднелась белая, медленно исчезающая отметина. Тогда Вит Ямомет рассказал наконец брату, зачем он приехал. Все началось восемь лет тому назад, во время осады крепости на том берегу Дуная. Спать ему не хотелось, дело было днем, видно было хорошо. Ему захотелось набрать бобов, он взмахнул саблей по стеблям и в тот же миг почувствовал боль, как будто порезался о траву. Он огляделся, но ничего не нашел. Боль быстро прошла, он забыл о случившемся, но в первой же схватке все повторилось и гораздо хуже. В тот день он настиг в битве врага, задел саблей его левую руку и тут же почувствовал, что кто-то ударил его по руке. Он обернулся, чтобы отбиться, но там никого не было. Только бледная белая полоса указывала на его левой руке то место, которое он повредил врагу. Это стало повторяться, и Вит невероятно страдал: в схватке, вместо того чтобы беречь себя, ему приходилось следить за тем, где и как поразить противника, потому что наносимые им раны повторялись на его теле. С тех пор Вит Ямомет потерял сон, его отряд, грабивший по Дунаю, стал разбегаться, и Вит вынужден был сражаться немилосердно, не щадя ни себя, ни других. Сильнейшие боли в голове и в костях, одолевавшие его после таких боев, он лечил подолгу и с большим трудом, почти так же, как исцелялись раны, наносимые им. Так он страдал за нескольких человек сразу. Это было невыносимо, и он стал расспрашивать, кто лечит пострадавших от его сабли раненых, и вскоре услышал имя некого Омира, умевшего, по слухам, снимать паутину с глаз. Вит отправился через реку на поиски, и только на полпути догадался, что это, может быть, его брат… — Смени саблю, эта — не для тебя, — сказал Омир Ямомет брату, выслушав его рассказ. — Менял дважды — не помогает. Эта у меня — уже не отцовская, — ответил страждущий. — В таком случае брось ее, ты не для нее. — Этого я не могу. — Тогда тебе поможет только тот, что на стене, — и Омир указал брату на Христа, распятого на деревянной доске, с кровавыми следами на ладонях и ступнях. На том они и расстались, не проронив больше ни слова. Но спустя три дня Вита привезли в перевернутом седле, привязанном между двух коней. Он был без сознания. Ресницы его поседели, глаза неподвижно замерли не в силах от чего-то избавиться. На ладонях и стопах виднелись грубые шрамы, будто его руки и ноги прибивали гвоздями, оставившими след и после того, как раны зажили. Омир немедленно велел одному из воинов вернуться туда, где они разбойничали, и копьем прекратить мучения того несчастного, которого его брат прибил к кресту возле Дуная, сам же занялся Витом, пытаясь его исцелить. Но кровавые отметины болели все сильнее, и Вит уверял, что слышит свою боль, что она хочет ему что-то сказать. Все старания Омира были напрасны, раны открылись, в них показалась кровь, а на груди Вита появился белый шрам, как от удара копьем: вероятно, посланный воин как раз прибыл на Дунай и выполнил поручение Омира, и его удар копьем, словно эхо, повторился на теле Вита. Когда больной немного поправился, братья решили поискать спасения в больших крепостях на том берегу Дуная. Бродяги и нищие приносили из-за реки вести о городах, которые, подобно колодцам, жили в камне. Ходили слухи о купальнях, посыпанных разноцветной галькой, с полами в виде четырехлистного клевера, о павлинах, что не едят ничего, кроме глаз людей и скота, о рыбах, питающихся ушами и пальцами, и Омир думал, что там наверняка найдутся мудрецы, которые исцелят его беспамятного брата. Так они и отправились, посадив Омира на коня позади Вита, потому что он не умел ездить верхом. Уже в пути Омир понял, что и Вит Ямомет не бывал в городах и знает их не изнутри, а лишь снаружи, словно чужую шапку. Они оставили всадников Вита Ямомета в лесу, взяли все деньги,что нашлись в кошелях, и в опанках[9] из мочала вошли в город. Они искали храм Иоанна Евангелиста, который им посоветовали и как место для ночлега, и как больницу, но среди каменных улиц отыскать путь оказалось нелегко. Улицам не было конца, но ни на одной не было храма Иоанна Евангелиста, и вскоре они утратили всякое представление о том, где находятся. Вит больше не думал о том, куда идти, а, закрыв глаза, читал свои раны. — Слушай! Опять они говорят мне, — вскрикивал он. — Шрамы надо перевязать необрезанными женскими волосами! — шептала ему боль, и он вторил ей… Устав и отчаявшись, понимая, что и в лесу вокруг крепости, и в воде реки уже темно, они принялись искать корчму, но там выяснилось, что всех их денег хватит разве что на один ночлег. Тогда Омир уложил Вита, ослабевшего в городе не только телом, но и духом, под какую-то лестницу и оставил денег, чтобы его до рассвета не тревожили, а сам, пока брат отдыхал, отправился искать целителей. — Далеко ли до храма Святого Иоанна Евангелиста? — спрашивал он всех подряд на своем пути. — А знаешь, сколько переночевало под моими волосами? — спросила его одна женщина, вместо ответа предлагая ему себя. — Не знаю, — сказал Омир оторопев. — Я и сама не знаю, — отвечала женщина и попросила у него за ночь с ней столько, что ему стало ясно, что если столько же просят все женщины, ему придется всю жизнь прожить одному и никогда не стать мужчиной. Он повернул назад и побежал на первый свет, который заметил. Оказалось, что дверь вела на клирос, где как раз гасили свечи. Слабоумный пономарь, на безбородом лице которого время остановилось в возрасте пятнадцати лет, а ноги и горб добрались до шестидесяти, собирал с аналоев книги и забрасывал их на полки, потому что не дотягивался до них. «Голова как бочка, а ума — с вошь!» — прошептал Омир Ямомет, пораженный мыслью о том, сколько этот убогий мог бы прочитать в книгах, но так и не прочитал. Он прошмыгнул в темную церковь, где освещен был один алтарь. И там, на высоте, которую, как он раньше видел, достигали только птицы и деревья, на мозаичной фреске, сверкающей так, словно она в слезах, увидел преследовавший его образ. На фреске был изображен город, точно такой же, как и окружающий его, и город этот рушился, и видно было, что художник смотрит на вещи от них к себе, а не наоборот, как простой смертный, так что дальние части крыши и края падающих столов и стен были шире тех, что ближе. Все было наоборот, подобно тому, как когда-то Омир прочитал в книге то, чего в ней не было… — Я мог стать умнее книги! Я мог стать кем-то, кем не стал! — понял он и в ужасе поспешил назад к брату. Но ему никак не удавалось найти обратный путь. Темнело, он видел людей, идущих с зажженными лучинами по улицам. К ним подходили девушки, брали лучину, и они удалялись вместе обнявшись; он понял, что они продаются за язычок пламени. Он и сам зажег лучину и побрел дальше, но ни одна девушка не подошла к нему. Его огонь явно был иным, и все, кроме него, с первого взгляда это понимали. Вдруг он понял, чем мужчины отличаются от женщин, словно они принадлежат к двум разным видам существ, как, употребляя одни и те же слова, они говорят на совершенно разных языках и как одна и та же пища приобретает у них во рту разный вкус. Он проходил мимо мраморных зданий, мимо огня, заключенного в стекло, мимо озера с мощеными берегами, в котором плавали рыбы, мимо окон в каменных цветах и, завороженный, усталый и голодный, нашел наконец лестницу, где оставил Вита, по его голосу, что был слышен издалека: — Когда колокола звонят наоборот, слушай внимательно имя, которое они произносят, и берегись, человек с этим именем убьет тебя! — читал Вит Ямомет свою боль. Омир прилег рядом с братом, прислонившись головой к стене, пожевал сухой лепешки, которую они привезли в седле. В животе его было полно пота, морщин от прожитых лет, слез и хлебных крошек, падающих по его члену, набухшему и ни разу не утоленному. Он чувствовал себя старым, бедным, несчастным, ненасытившимся, потерянным и обманутым настолько, что пища стала комом у него в горле. Ему следовало что-то предпринять. Вдруг Омир Ямомет вскочил, достал саблю брата, оставив незамеченные ножны под его головой, и стремительно покинул город. Он добрался до леса, оседлал коня Вита и повел конницу на крепость. В стремительной атаке они снесли ворота, вошли в город, пробивая ступени подковами, разорили и сожгли его, а наутро Омир Ямомет приказал, чтобы кони топтали руины церкви и чтобы под копытами не осталось ни кусочка мозаики, словно они молотят хлеб.* * *
Рассказ был окончен, от белой печи исходило тепло, никто больше не подбрасывал дров. Почти все слушатели спали. Уходя, я рассматривал человека в тени, рассказавшего эту историю, и размышлял, предчувствует ли он что-то во всем этом и что он об этом думает. В темноте у стены видны были только его колени, широкие, как лбы, словно их замесили такие же широкие ладони, а стопы были так выгнуты, будто он изнутри ногой держал смятый опанок. Лица его не было видно, но сигарета горела в темноте перед ним, и на мгновение мне показалось, что я знаю, о чем он думает. Над ним постепенно гасли огни в универсамах Палилулы и голубовато светился из-за домов бульвар. Он лежал в темноте, курил и мечтал о зеленом лесе за городом и о коннице в нем.Ангел в очках (перевод Е. Кузнецовой)
I
В 1771 году первый сентябрьский экипаж, отправившийся в восемь часов утра из Триеста в Вену, миновал завесу ливня в венском Новом Городе и въехал с другой стороны дождя в солнечную и царственную австрийскую столицу. Мокрые кони лоснились на солнце, от их грив валил пар, а дождевые потоки еще струились по столичным улицам, и кучер любезно подал на Фляйшмаркете экипаж к разноцветным окнам гостиницы «У белого волка» и распахнул дверцу у самого входа. Так что единственный выходивший здесь пассажир, не коснувшись земли, шагнул с подножки экипажа прямо в корчму. Сначала появился его сапог цвета фиалок в росе, который под серебряной застежкой нес свой груз на каблуке совсем иного цвета, после чего появился и сам «груз» с подушкой под мышкой и кожаным саквояжем, сводчатую крышку которого украшала железная ручка. Щеки у путешественника были мягкие, с ямочками, исчезающими, когда он улыбался, о волосах невозможно было сказать, мужские они или женские, в блестящих ногтях отражались столь же блестящие фарфоровые пуговицы его наряда. Нос оседлали очки для верховой езды, на которые ниспадали густые брови, так что он смотрел на них сквозь стекла, как на траву. Он был в голубом одеянии из тонкого английского сукна, заправленном, чтобы не запачкать, в сапоги. На старом Мясном рынке, вблизи церкви и деревянной улицы, называющейся по церкви Греческой, приезжего никто не знал. Хозяин гостиницы, сообразивший, что прибывший — православный монах, был поражен, приняв от неизвестного следующий заказ: вареные в вине раки, жареная на меду рыба и фасоль с молотыми грецкими орехами. Оказалось, что приезжий не очень хорошо знает язык и здешние порядки и ищет в Вене жилье. В ожидании ужина он достал из саквояжа собственный прибор: нож, вилку и стакан — прибор, которым давно не пользовались, начищенный последний раз еще на Корфу песком Ионического моря. Все это он разложил вокруг тарелки с улыбкой, которую забыл убрать с лица в Триесте, при отправлении, и улыбка эта устала в пути вместе с ним. Облокотившись, он слушал, как за окном шумят дети, которые выбежали на улицу умыться под дождем и догоняли мыло, выскользнувшее от них и поплывшее по ручейку вниз по улице в сторону Санстефанскирхе и Теферграбена так быстро, что им было не догнать и не поймать его. После ужина прибывшего направили к греческому священнику на Штайергофе, отцу Антимосу Газису, который «живет здесь недалеко, трубку табака не успеешь выкурить, пока дойдешь». Монах шел и нес свой саквояж, другой рукой он размахивал шляпой, словно разгоняя темноту, наконец он нашел латунное яблоко звонка, в котором отражалась удалявшаяся улица с фонарями в глубине. Вскоре он сидел на втором этаже за рюмкой коньяка, под часами, показывавшими двум мужчинам, сидевшим рядом с гостем, буквы вместо цифр. С одной стороны от него сидел приходской священник, к которому посоветовали обратиться в гостинице, с другой — хозяин дома, одетый в собачью шерсть, которая словно повторяла цвет его глаз, усов и бакенбард. Отец Николас Димитрис не стал откладывать дело. — Не только жилье, — уверял он нежданного гостя, обращаясь к священнику, как будто гостя и не было, что служило знаком особой любезности, — не только кров над головой, но и трапезу с нами пусть разделит, пока не познакомится со здешними порядками и не устроится как следует. После этого важного заявления разговор сразу же оживился. Трудно сказать, было ли это следствием коньяка, в котором отблескивал дождь с окна, освещенного с улицы фонарем, или облегчения, которое испытал гость, оттого что ему не надо было больше, как он в шутку выразился, искать «четыре ноги для своих двух». Гость рассказывал об Афоне, Корфу и Венеции, где он побывал; разговор шел на греческом, этот язык и их беседа здесь, в Вене, сближали людей за столом, и они не чувствовали, что оказались вместе впервые. Однако хозяин продолжал потирать ручку своего кресла, будто гладил собаку. Услышав наконец, чем занимается новый жилец, он, словно в сеть, поймал своим взглядом священника Антимоса, взялся за ухо с серьгой под волосами и принялся усердно потирать камень серьги двумя пальцами. — Ну что ж, — без отлагательств обратился к гостю священник, — вы приехали в самое время. Как знали! Нельзя сказать, что у нас нет здесь учителя греческого. Напротив! И здесь не падают по ночам яблоки, распугивая куриц. Но видит Бог, — тут священник Антимос Газис вдруг надел кольцо, которым до этого играл, надевая на пуговицы жилета, — видит Бог, что нынешний учитель у нас землей причащен. Все время у него день, даже ночью! Сверх всякой меры любит он вино, да к тому же и соня… — Не только год-другой, — задушевно вступил в разговор отец Димитрис, согревая тыльные стороны ладоней у огня так, что только они и были видны, а он говорил из тени, которую отбрасывала его тяжелая, годами полнеющая фигура, — вы и всю жизнь можете в Вене приятно и сладко провести, ежели только будете обладать волей и усердием преподавать здешним детям эллинский, дабы не забыли они родной язык. Коли Бог Саваоф и святой Димитрий дозволят и в свое порабощенное отечество они когда-либо вернутся, язык им будет нужен так же, как и слезы, которые мы храним и прольем, если Богородица пожелает, чтобы этого счастливого дня дождались мы на свободе, со своим хлебом и солью… Видя, что гость принимает его предложение, отец Димитрис написал на бумажке несколько слов и имен и протянул ему. Тот открыл серебряную крышку карманных часов, положил записочку внутрь, и под его рукой раздался щелчок быстро захлопнувшейся крышки. Это словно означало успешное завершение разговора. — А вы наверняка с самих Альп пыль принесли, — вступил отец Димитрис, — а мы вам, в такой дождь, и воды не предложили. И хозяин направился к дверям, уверенный, что остальные последуют за ним. Решительным шагом, утонувшим в темноте, он шел перед ними, невидимый, тихонько напевая, чтобы гости знали, куда идти по темным коридорам, которые пахли оливковым маслом и влажными волосами детей, расчесанными перед сном. — В вашей комнате четыре окна, но, пользуясь ими, будьте внимательны, — предупредил он гостя, когда они пришли. — Вот это, с латунной ручкой, открывают весной; вон то, в толстой стене, с крюком, — осенью; третье, эркер, — зимой; четвертое, с колокольчиком, — летом. Кровать у вас, как видите, повернута к часам на башне, той, что на рынке, куда вы приехали на экипаже. А теперь — спокойной вам ночи, и будьте в добром здравии, открывая все четыре окна. Когда гость наконец остался в комнате один, он сразу же лег, достал книгу из своего саквояжа, открыл ее и прижал к стене рукой, чтобы не уставать, удерживая ее на весу. Но читать ему не довелось. Часы на улице начали бить, и он вместо чтения принялся считать удары. Потом с удивлением обнаружил свою голубую одежду, висящую на незнакомой стене, и стал рассматривать, как сильно на ней отвисли живот, грудь и бедра. Очевидно, он толстел. Он захлопнул книгу перед свечой, потушив огонь. Потом повернулся на бок и перед сном удостоверился, что в комнате действительно открыто осеннее окно, то, что с крюком. До него доносился бой часов, и монах считал с закрытыми глазами, уже во сне. Но не на греческом. Как он сообщил хозяину в самом начале разговора, он не был греком.II
— Унтере Беккерштрассе? — повторил однажды утром священник Антимос Газис вопрос и внимательно осмотрел сквозь перстень, как сквозь лорнет, левое ухо под волосами собеседника. — Кровь не водица. Хотите познакомиться со своими соплеменниками здесь, в Вене? И объяснил монаху дорогу совсем просто и коротко, вернув перстень на место, сказал номер дома. Так монах оказался в доме Харисиуса Декономуса, на Нижней Беккерштрассе, в квартире своего земляка, приходского священника сербской церкви на Штейергофе и цензора книг, Атанасия Димитровича Секереша. В квартиру он поднялся по деревянной лестнице, оставлявшей эхо его шагов в закрытых пространствах под ней. Окна квартиры выходили во двор, целиком занятый одним-единственным стволом грецкого ореха, последние листья с которого влетали в окна или, подобно крупным птицам, громко обрушивались с верхушки дерева, сбивая в падении другие листья, еще более тяжелые. Священник церкви Святого Георгия в Вене, цензор Секереш встретил гостя, стоя в небольшой гостиной, закрытой четырехстворчатыми дверями, с зеркалами вместо стекол, с ручками в виде колодок скрипичных смычков, что свидетельствовало о том, что некогда комната служила для музицирования. Сейчас она была полна книг и рыжей шерсти. Шерсть была повсюду: на оттоманках, на коврах и на спине хозяина, по которой ниспадала огромная рыжая грива, нередко пропитанная табачным дымом, который цензор с удовольствием сгонял в крупные завитки на лбу, похожие на узор из медной проволоки. Он протянул гостю руку с обкусанными ногтями, напоминающими точно такие же узкие изглоданные зубы. Он стоял посреди комнаты и держал левой рукой одновременно трубку и пояс, рассекающий живот, как дорога — горы. Глаза его были бесцветными и глубокими, глубже комнаты, и глубина эта вела к неизвестному дну где-то снаружи, в просторе вне дома, где мрак погружался в травы. Как будто глаза не грузного человека, коим, несомненно, был цензор Секереш… У него была репутация гурмана, и нередко он разборчиво выписывал для друзей на белых салфетках длинные меню, которые достаточно было отдать трактирщикам, чьи имена цензор указывал в каждом рецепте, чтобы салфетка превратилась в настоящий пир. Когда монах уже расположился в предложенном ему кресле, полном пуговиц и тепла, он заметил, что в помещении есть кто-то еще. Сначала из полумрака комнаты появилась высокая, рыжая, как хозяин, борзая, ходившая на когтях, так что только они и были слышны. За ней вышел человек с маленькими злыми глазами, они немилосердно сжимали его загнутый нос и старились быстрее, чем безобидное, совершенно беззлобное лицо, на которое были осуждены. Его уши покоились на высоком жестком воротнике, словно разрезанные снизу до половины, а нос свистел, будто в комнате кипел чайник. Будучи представленным как «наш дорогой соплеменник, слушатель юриспруденции Йоан из Мушкатировых, из Сенты в Бачке», незнакомец шагнул к гостю, при этом слегка подбрасывая ногу, как будто хотел скинуть на ходу левый башмак. — Все мокрые курицы смердят одинаково; каждый мокрый пес воняет по-своему, — брякнул он неожиданно и нюхнул немного табака, отчего глаза его покраснели. — А вы откуда, monsieur abbé? Из Баната? — спросил он, обернувшись к посетителю… Так это началось, в музыкальной гостиной, заставленной до потолка книгами, так что на верхних полках они оставались в темноте, когда внизу над столом горела лампа. Так что-то началось тем вечером рядом с часами с музыкой, стрелки которых задевали друг друга, нарушая свою механическую утробу и путая польки и кадрили. Так началась тем вечером дружба в креслах с ушами, перед пузатым буфетом для коньяка, со сферическим стеклом, чтобы внутри, среди бутылок, все было видно. Так началась эта дружба втроем, в четверг в комнате со двора, на Нижней Беккерштрассе, и цензор Секереш в такие вечера с удивлением следил за тем, как монах ловко делает разные дела каждой рукой в отдельности и одновременно. Левой рукой он мог разливать чай в чашки, а правой в это время гладить под столом собаку, находя время вытащить ее голову из-под скатерти на свет и заглянуть в глаза, и к тому же наверху над скатертью не пролить ни капли. При этом он непрерывно говорил. С неменьшим удивлением цензор, посасывая полные пунша усы, замечал, что из них троих все чаще говорит этот необычный собрат, любезный, жаждущий науки и любви. Как случилось, что они подружились втроем, в четверг, в пять часов вечера, трудно было бы объяснить, не будь этих вечерних разговоров с собакой и коньяком на Унтере Беккерштрассе. Монах часами велеречиво рассказывал о своей жизни и путешествиях, соревнуясь с бьющими и играющими мелодии часами, глядя мутными глазами в бутылку вина на столе, на горлышко которой по обычаю нижнего Подунавья была надета пресная лепешка. Цензор сидел, откинувшись, так что его жилет отставал на плечах от тела, а пальцы, соединенные кончиками ногтей перед подбородком, производили впечатление, будто он, слушая, дважды улыбается: своими ровными зубами — друзьям, а ногтями — куда-то в неопределенном направлении, потолку. — Вижу и слышу я, брат, — растроганно говаривал он в таких случаях гостю, — умеете вы сладко говорить, словно яблоко чистите. Есть пот ума и пот тела, и тот, и другой вам, безусловно, известны. Но согласитесь, безмолвие, — при этом цензор ухватывал прядь своих рыжих волос и откусывал самый кончик, — безмолвие, дражайший мой, самая сильная ваша страсть и огромная сила. Вы обладаете даром молчания, Божьим даром! Я не слышал никого, кто умеет так мощно молчать, как вы. Каждый вечер я слушаю, как вы вкрапляете молчание, словно рассказ, между строк божественных слов ваших. Целые царства умолчали вы, любезный наш, в окружении своих медовых слов… Жаль, не записать ваше молчание, но то, что вы говорите, стоило бы записать и отдать в печать, дабы и другие, помимо нас двоих, счастливцев, пользовались… — Легко сказать, — добавлял на это юрист Йоан, — но здесь, в империи, мы, сербы, не в чести. Несчастье прилепилось к нам, как к улану усы, вот вам и пожалуйста! Тяжко тому, кто, как говорится, не царской веры, а мы двум царям служим, турецкому и немецкому, разделены пополам, а веры ни того, ни другого. Жгут и вино и хлеб наш, и имя наше не поминают, а зовут нас так, что мы не можем отозваться. На голове у нас соль молотят… — И Йоан из Мушкатировых ронял изречение за изречением. Размышляя так обрывками чужих и, кто знает, сколько раз употребленных фраз, он всегда втягивал в конце губы, будто хотел их выплюнуть. И действительно выплевывал: — Мал покой, а тоска длинна… «Неприсоединенные к папству», так пишут в наших бумагах и паспортах. Зовут нас по тому, чем мы не являемся, а не по тому, что мы есть. И на неутешное горе наше и уныние отзовемся мы и на это имя. Что и неудивительно: царствующий град Вена, но мы не называем его, как все остальные, для нас это — Беч.[10] И это кириллическими буквами пишем! Ни одна живая душа здесь, сколько их есть спящих и бодрствующих по городу до Дуная, прочесть это не сумеет, а кто сумеет, не поймет, что они живут в Бече, а не в Вене. И что? Можем лишь в шапку свою плакать, а о книгах и печати и не помышлять… Так говорил правовед Йоан из Мушкатировых перед уходом, с какой-то праздной сосредоточенностью вдевая пуговицы своего пальто в петли жилета. — Приходите ко мне! Приходите почаще, — говорил цензор Секереш, провожая гостей и сонно поднимаясь в комнате, наполненной запахами табака, коньяка и теплого собачьего дыхания. Протягивал обоим одновременно руки с обращенными вниз ладонями, кланялся. — Не бойтесь поцеловаться. Жизнь коротка! — Но у вас так много работы с цензурой, — отвечал обычно монах. И его темные глаза смотрели куда-то сквозь стекла и улыбку, которая была шире его лица, сквозь улыбку, простирающуюся так же далеко, как и его голос. — Вот поэтому, именно поэтому и приходите почаще, — настаивал цензор в дверях с трубкой в руке, дым ее ветер уносил по улице в сторону Тиферграбена. На ту сторону, к «Кладбищу воров», куда потоки дождевой воды уносят кусочки мыла, выскользнувшие у детей. — Когда придете ко мне, отдохну с вами. Велик туман у нас, и только сильные и добрые могут выбраться из него…III
Проходили годы, а дни все так же сменяли друг друга, изрешеченные обедами, которые приятно и легко поедались, но еще легче забывались, оставляя на память о трапезах священника Секереша и его друзей мелко исписанные салфетки. Монах временами с удивлением наблюдал эту невероятную мощь переваривания, которой отличается и человеческий желудок, и ум. Съеденное заключало в себе не только пищу, но и большую часть его жизни, почти все, что не плавало на поверхности памяти и не осталось записанным. Потому что время от времени он доставал из саквояжа перья и чернильницу и на кривоногом столике, на ножках которого были серебряные застежки, похожие на пряжки его башмаков, записывал после ужина у Антимоса Газиса или после посиделок у цензора Секереша, на Нижней Беккерштрассе, свои только что рассказанные воспоминания, исправляя детали в зависимости от того, что выражали лица присутствующих — внимание или усталость. За окном город заносило колючим снегом, дети в шутку называли его «стойсер»,[11] а рыбаки на санях переправлялись через Дунай, который, если остановишься, был слышен подо льдом. На перекрестках прохожих могла удивить маленькая снежная буря из соседней улицы, где фонари не гасили и днем, а в черном отверстии входа в «Греческий трактир» повесили за плавник живого сома, который вертелся, размахивая хвостом, на ветру. Monsieur abbé в зимнее окно своей комнаты (в эркере) положил подушку, набитую водорослями, на подушку — книги и перья, зажигал там по вечерам свечу и писал, окруженный метелью с трех сторон, пил чай и вдыхал через открытую форточку мороз. В феврале Вену посетил один из венецианских книгопечатников, издающий там, в лагунах, и сербские книги. Это был старичок с седловидным носом и очень чутким обонянием, из-за чего он постоянно отдувал от себя табачный дым и дыхание собеседника. В первое же воскресное утро вновь прибывший грек, кир Теодосий, отправился с молитвенником в жилете вместе с другими из дома отца Димитриса в церковь русского посольства, где тоже шли службы по восточному обряду. Все сели в сани, ударявшиеся на поворотах об углы домов, и монах с удивлением заметил, как хамоватый кучер, унюхав позади себя иностранца в мехах, муфте и с козлиной бородкой, всякий раз, погоняя коней, задевает кира Теодосия кнутом по лицу. А тот, в смущении, терпел издевательство, делая вид, что не замечает его, дабы сносимое им унижение не обнаружилось. Они вошли в церковь, где уже было много народа, и все немногочисленные стулья оказались заняты. Венецианский книгопечатник дважды оглядел церковь, но свободных мест не нашел. Старый и исхлестанный, он сделал движение бровями, причем они коснулись волос, и монах, ни о чем не подозревая, предложил ему отправиться в сербскую церковь Святого Георгия на Штайергофе, где служил Секереш, там было просторнее и наверняка нашлись бы свободные места. Венецианец презрительно огляделся, поднял ногу, обхватил ее руками под коленом и прислонился спиной и ногой к колонне. — В униатскую церковь[12] не хожу, — ответил он холодно и остался в русской церкви, где какое-то время по воскресеньям служил Антимос Газис. Монах спокойно перенес оскорбление своей церкви и соплеменников, но вышел и сразу же отправился на Штайергоф к своим, которых таким образом публично обвинили в том, что они предали восточную веру и признали примат папы и Рима. Там его встретил священник и цензор Секереш и пригласил после службы заглянуть к нему. Священник сербской церкви на Штайергофе был в тот день мрачен, и прежде чем монах успел что-либо произнести, показал ему свое послание к австрийским властям с обвинением греков в том, что они хотят отделиться от православной церкви Святого Георгия, выделенной им (вместе с сербской паствой в столице) для богослужения. В послании цензора далее говорилось, что нападки на сербов, якобы отошедших от православия, и другие слухи, распространяемые греками в Вене, — всего лишь отговорка, поддерживаемая русскими властями, которые предоставляют священнику Антимосу свою церковь в виде услуги. Внизу листа, свернутого в трубочку, приводился список свидетелей против греков, в частности против Антимоса Газиса, и среди них монах увидел свое имя. Цензор обмакнул перо в чернильницу, что висела у него на поясе, задумчиво поднял его на свет, снял прилипший волосок и протянул перо монаху. Тот молча расписался и вышел. На бумаге осталась подпись:ДОСИФЕЙ.
IV
Тяжба оказалась на удивление непримиримой.[13] Императорский советник в Вене при иллирийском придворном представительстве, Константин Филипид, из семейства фон Гайа, императорская тайная дворцовая и государственная канцелярия, русское посольство в столице, дворцовый исповедник и папский прелат, царьградская патриархия, сербская митрополия в Карловцах, общины православных сербов и греков в Вене и Турции — все вмешались и все возмутились. Антимоса Газиса лишили права служить в Вене, кир Теодосий неожиданно и скоропостижно скончался, а Досифей и далее оставался верен себе, защищая сербскую паству в Вене. — Я обязан вам почитанием и незабываемым дружелюбием, любезный отец Антим, — говорил монах на одном из сытных обедов в доме отца Димитриса, — но пусть простит меня ваша милая любовь, сердце ваше должно знать, ибо оно наделено глазами любви, и ему должно быть ведомо, что страшное и чрезмерное обвинение, которое вы налагаете на нашу сербскую церковь, не может быть правдивым… — Тут монах с отсутствующим выражением взял одной рукой ложечку из соусника с хреном, а другой в то же время намазал ножом масло на хлеб. — Вы сами знаете, что подобных обвинений со стороны вашей греческой церкви против бедных здешних сербов было множество, но все они не оправдались, никто не обратился в папство и не вступил в унию с Римом… На все это отец Антимос Газис не отвечал. Он спокойно снял свое кольцо и, опустив его в тарелку, налил себе горячий суп из свинины, полагая, что с кольцом он вкуснее. Выхлебав суп, он вытер кольцо и тихо, как бы самому себе, сказал: — Ангелам очки не нужны. А у нас имя старше головы, а утро древнее вечера. Поживем — увидим! Как листья меняются каждый год, так и люди… οïη, περ φύλλων γενεή τοιήδε και ανδρὦν![14] И вернул кольцо на место. И словно в ответ на эти слова однажды утром, что настало в инее, так что ветки потрескивали на ветру, как стеклянные, и шелушились, будто с них отваливаются осколки, пришла весть, которая вдоль и поперек моментально облетела Вену. Священник сербской церкви на Штайерхофе и цензор сербских книг в Вене Атанасий Димитрович Секереш перешел в католическую веру, и папа лично принял торжественно отпечатанное изъявление преданности новообращенного верующего римской церкви.* * *
Была весна 1776 года, четверг после полудня, и дети с того берега Дуная звонили в ворота и сообщали, что прилетели первые аисты, и получали за это в подарок хлебцы с корицей, в соломенной плетенке. Двое мужчин, придерживая шляпы, шли сквозь ветер, несший пыль и ослепленных птиц по Аугартену, и у Йоана из Мушкатировых все чаще случались приступы сентенций. — Только наслаждайся и глазом не моргни! Сербы право на церковь в Вене завоевали саблей, замешивая на крови грязь в Силезии и Эльзасе, — говорил он, и было непонятно, высказывает ли он свои мысли, повторяет ли то, что ему сказали другие, или ожидает согласия собеседника. — А греки, — продолжал он, — греки свою венскую привилегию получили за мешки денег, и церковь им выхлопотал у бывшего секретаря дворцового кабинета какой-то итальянец по имени Антоний, что делает бальзамы. Человек — для волос, а вол — для рогов… Но то, что наш — допустимо ли сказать наш? — цензор Секереш учинил, превосходит всякую возможность понимания… Я никогда ему этого не прощу, да и понять не смогу. Ужасно. В высшей степени ужасно. Монах шел рядом со своим другом, и только по рукам его было заметно, о чем он думает. Руки же его, легкие и быстрые, словно он играет на клавесине, летали по перламутровым пуговицам платья тонкого английского сукна. Правая опускалась, расстегивая пуговицы, а левая одновременно поднималась ей навстречу снизу, застегивая их. Чуть ниже талии (поскольку левая была медленнее) руки встречались, после чего продолжали свой путь, уничтожая работу друг друга. Наконец друзья расстались, и Досифей остался на улице один. Он открыл свои серебряные часы, в которых все еще лежали записочки, и посмотрел: было пять часов. Тогда он решительно развернулся на своем желтом каблуке и вскоре позвонил в дверь дома на Беккерштрассе. Цензор Секереш принял его без слов в какой-то новой одежде (облачение священника он навсегда снял) и ввел как незнакомца в хорошо знакомую гостиную, в то самое помещение для музицирования, где они провели вместе столько вечеров. Сейчас здесь царил беспорядок: на подоконнике лежала груда книг, страницы которых листал ветер, открывая внесенные рукой цензора пометки для большого Thesaurus linguae slavonicae, словаря сербского языка, над которым Секереш работал годами; на столе стояли разноцветные стаканы с трубками, перьями, ножницами, расческами и щетками для языка и зубов. Цензор усадил гостя на стул, а сам остался на ногах, держа сам себя в объятиях скрещенных рук. На полу на разбросанных по ковру книгах развалилась рыжая борзая. Глаза ее были так зелены, что казалось, будто под кожей она вся зеленая, но это было заметно только по глазам. Борзая, не вставая, повернула голову к гостю, а монах сплел пальцы и вывернул ладони так, что пальцы захрустели под его слова: — Благодаря обхождению и разговорам с мужем достойнейшим, опыта и знаний обширнейших и вместе с тем добрым и сердечным, с таким мужем, как вы, уважаемый Атанасий Димитрович, многому я научился, а намерение имею и впредь это продолжать, ибо такова моя главенствующая страсть: тех, кто лучше и ученее меня, с крайним наслаждением и вниманием слушать и от них научаться… И монах, охватывая улыбкой и цензора, и его рыжего пса, и комнату с чайным столиком, на котором запотевала джезва, добавил к речи своей одно-единственное, совсем неожиданное слово: — Чаю? Цензор слушал все это, а его изгрызенная борода медленно наполнялась слезами, после чего он сел в кресло и продолжил давно прерванный разговор с другом, как будто ничего и не произошло.V
А вечером, когда монах у себя дома вернулся к перьям и бумаге, он записал в дневник (позднее опубликованный у Брайткопфа в Лейпциге) несколько слов, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к событиям, как вихрь, захватившим его. Это было воспоминание о том, как он был на Афоне, где в 1765 году монах ступил на берег, в надежде продолжить обучение у греческого учителя по имени Евгений Булгарис. Он писал легко, не чувствуя движений руки, кроме тех, когда ему приходилось обмакнуть перо, и сердился, что мысли и чернила высыхают не одновременно: «На четвертый день прибыли мы под Святопавловский монастырь. Ступив на землю святогорскую, вошел я в сад, наслаждаясь красотой разнообразных деревьев, согнувшихся под тяжестью плодов. Тут я решил пройтись и освежиться от морского укачивания. Неподалеку, под оливковым деревом, привиделась мне длинная палка, загнутая на конце, красоты несказанной; солнце освещало ее, и узоры разноцветные на ней блистали чрезвычайно, словно испещрена она была бриллиантами. Удивился я, кто бы мог ее здесь оставить. Потихоньку приступаю к ней, а будучи смолоду близорук, подошел на расстояние десяти шагов, и не знаю, как остановился, и, вместо того чтобы ближе подойти, стал отступать, неотрывно на эту вещь глядя. Отступив два или три шага, разглядел я, что изгиб на конце — это змея, повернувшая ко мне голову и поджидавшая, когда я подойду ближе…»[15] Человек сидел у окна и писал на подушке с водорослями, пробивая пером улыбку. Улыбка поднималась с его губ и была пространнее эркера, и ширилась на улицу, в метель и мрак. Следуя за этой улыбкой на восток, за палкой-змеей, только что возникшей под его пером, человек видел Святопавловский скит, за ним Афон и восточное христианство, еще дальше — Византию с ее ересью и монашеским мистицизмом Азии, в ней греков и сербов, с их церквями-скиталицами, что строились с одинаковыми именами от Царьграда до Вены. На другом конце палки, воткнутой на Афоне, которую человек не взял и отошел от нее, как от змеи, в противостоянии Византии и Запада, монах видел в противоположной стороне Галле в Германии, где снимут мантию, просветят себя современной философией и в век разума попытаются открыть глаза ума своему народу… И все же он так и не сказал нам, была ли там, на Афоне, змея или палка, и что на самом деле привиделось ему в тот солнечный день на побережье Святой горы. И действительно ли были нужны этому приятному пожилому господину, этому ангелу в очках, линзы? Возможно, он для того и носил всю жизнь очки, чтобы в тот день на Афоне сказать: — Не знаю, что я видел из того, что видел. Быть может, мы и по сей день не знаем, что там блестит на святогорском солнце, прямое, с загнутым концом, полное драгоценностей, сияния и обещаний, и ждет нашу руку — посох или змея?Рассказ с двумя названиями (перевод Е. Кузнецовой)
Подбирая вчерашние объедки, чайки проводили утро на пляже в Игало. Недалеко от них лежала сонная Ива, босые ноги в воде, и ждала, чтобы волны потихоньку разбудили ее окончательно. Сквозь закрытые веки она видела, как тени чаек, в которых мало прохлады, проносятся по ее лицу и рукам. Запах трав и соли на берегу менялся: солнце становилось жарче. Лениво, не вставая, Ива раздевалась. Альбатросов больше не было, из леса приходили купальщики. Иве совершенно не хотелось открывать глаза и распределять голоса среди тех, кому они принадлежали. Она лежала среди них на гальке с закрытыми глазами почти до полудня. Исключения составляли только неспешные вхождения в море, согретое прибрежными камнями. Утренние часы были потеряны для ее глаз, и она так и не узнала, как они выглядят, но не жалела об этом. Ива улыбалась невидящей улыбкой, возникающей на ее лице не извне, а изнутри, улыбкой, которую она пережила впервые в детстве, во сне. Теперешняя улыбка появлялась при воспоминании о прошедших вечерах, сохранявшемся в виде сладкой истомы только в одном месте, где-то в Ивиных бедрах. После полудня Ива брала мяч и шла на тренировку. Огороженная проволочной сеткой спортивная площадка находилась неподалеку, в лесу. Она пахла морем и сосновыми иголками и была полна торжественной тишины, достойной того, чтобы ее выставили в археологическом музее. Тишина, таящаяся за пиниями, ждала, как церковь, чтобы в нее вошли. Ива редко оставалась на площадке одна. Она была членом республиканской молодежной сборной по баскетболу, и обычно вокруг нее быстро собирались купальщики. Благодаря спортивному инстинкту, приобретенному на огромных зеленых стадионах больших городов, на соревнованиях стройотрядов, Ива на это не сердилась и никогда не упускала возможность передать мяч любому незнакомому партнеру, вступающему в игру. Эту странную картину ничем нельзя было объяснить, и, в сущности, мяч был лишь отговоркой. Толпа распаленных, смуглых самцов загоняла до смерти самку в солнечном лесу. Если бы пальцы Ивы не владели мячом с таким же совершенством, с каким, без сомнения, знали собственное тело, никакой игры вообще бы не получилось. Но Ива не уступала своим противникам. Они не в силах были забыть откровение, посетившее их в лесу санатория в Игало, и со страстью каждый день приходили играть, отыскивали Иву на берегу, подавали ей брошенные мячи, потому что она двигалась на удивление мало и без удовольствия. Зато ее движения у корзины были безошибочны. С ней здоровались на улице, наблюдали за ней на пляже, и она источала прекрасные, еще не выбранные ею и не воплощенные движения. После игры наступал момент захода солнца. Пляж постепенно пустел, и Ива оставляла мяч. Она брала ключ, открывала деревянный сарайчик в углу пляжа и, осторожно ступая по гальке, уносила выданные шезлонги. Пляж был немаленький, работы у нее хватало. Сначала она носила по четыре шезлонга с ближнего края пляжа, два в одной руке, два в другой. Потом по два и наконец по одному, неторопливо проходя мимо последних купальщиков. Солнце медленно садилось, ноги не подчинялись ей, и те, кто еще совсем недавно общался с ней, ее не узнавали.* * *
В то время дня, когда я бывал на берегу, редко кто из купальщиц оставался на море, в тени своих шезлонгов они наблюдали за моей работой. Я работал по пояс в воде, почти нагой, точно между заходящим солнцем и их глазами. Черная повязка на глазу, волосы, кусок ткани — вот все, что меня прикрывало. Из-за пота, соли и света казалось, что по краям тела виднеется подобие тонкой каемки крови под кожей. Пляж был покрыт галькой, которую море медленно забирало обратно, и я почти каждый свободный день каникул грузил эту гальку с морского дна в мокрую деревянную тележку и по обитой железом доске возвращал обратно на берег. Работа была тяжелой, мне всегда помогали один или два напарника, но женщины в тени на краю леса ни разу не взглянули ни на одного из них. Они нисколько не ошибались и точно знали, что именно хотят видеть. Они наблюдали за мной методично, внимательно рассматривая все части тела без исключения, но чаще всего ту, что была особенно напряжена. Картина постоянно менялась: солнце, к которому я всегда поворачивался стороной без глаза, быстро садилось, и всякий раз, когда я выходил на берег, окрашивало в новый оттенок то, за чем они наблюдали. Усталость росла, и они знали, что могли бы кончиками пальцев почувствовать, как от напряжения у меня под мокрыми волосами горячо пульсирует кровь. В это время ничего необычного, однако, не происходило. Все начиналось у Барбары. За рыбой я ходил чуть раньше. На рыбу я охотился с подводным ружьем и ловил ее ровно столько, сколько было нужно на двоих. Море пахло водорослями, ракушками и звездами, оно свободно вливалось мне в рот и заставляло запоминать эти запахи. Под водой я уже угадывал, какого вкуса будет рыба, в которую я стреляю, с «заячьей кровью» и острым салатом, приготовленным Барбарой. Ее небольшой ресторанчик с оркестровой раковиной находился рядом с пляжем, в хвойном лесу. — Барбара, не поджаришь ли рыбу? — спрашивал я. Она смотрела на мои ступни, испачканные по краям смолой, на волосы, посыпанные иголками пиний, и вдыхала соленый ветер, который я приносил в ноздрях. В ее ресторанчик посетители заходили по вечерам, когда у них не было охоты как-то особенно развлекаться. Рыбу, что я приносил, она всегда готовила с особенной страстью. Она безошибочно помнила одежду и обувь, которую я носил, цвет моих рубашек. Пока я ел за столиком в углу, куда доносился шум моря, она смотрела на меня из-за стойки сквозь ресницы, поверх щеки, и в полной мере ощущала у меня во рту вкус рыбы, которую она только что поджарила. Ей было за шестьдесят, но выглядела она молодо, была невероятно полной, а ее ревность и страсть были безмерны и безобидны. Все начиналось здесь, на глазах у Барбары. От ее взгляда не ускользало поведение ни одной женщины, приходящей поодиночке или в компании в ее ресторанчик для того, чтобы увидеть меня. Барбара знала, что каждый год все повторяется практически без изменений. Ей были хорошо знакомы одинокие и, возможно, больные женщины, приезжающие еще до открытия сезона и переживающие встречу со мной здесь, у Барбары, как некое собственное открытие, как что-то такое, чем обладают только они. Их одинокий отдых проходил в возбуждении от случайных ежедневных встреч на пляже, а по вечерам — среди полупустых столиков ресторана. Были здесь и те, что приезжали позже, в разгар сезона, и сразу же понимали, что их открытие принадлежит не только им. Барбара прекрасно знала и тех, кто долго притворялся, будто ничего не замечает, хотя их подруги, а иногда и совсем незнакомые соседки указывали им на мой столик. Но даже они, когда им случалось беспрепятственно рассматривать то, на что обратили их внимание, даже они делали это с неожиданной готовностью. Барбара наблюдала, как на их лицах, словно в зеркале, повторялись мои улыбки, и чувствовала, как им удавалось услышать что-то особенное в самых обычных словах, которые я произносил за рыбой, «заячьей кровью» или передавая деньги. Барбара знала, что бывают разные женщины, говорившие так, что она едва их понимала, приехавшие из мест, о которых она никогда не слышала. Женщины разного сложения, с разной внешностью, обычно симпатичнее Барбары и всегда моложе ее, но она со своим богатым опытом, который сменил множество форм, отлично знала, что большинству из них я совершенно не подхожу. Силой безошибочного инстинкта, который не распространялся только на нее саму, она чувствовала, что почти все женщины заблуждаются на мой счет и занимаются самообманом. Но были здесь и роскошные женщины, перед которыми Барбара чувствовала, как исчезает ее огромный опыт и охватывает страх перед их вечными лицами, чья красота повторяется и не принадлежит только одному из них. Временами появлялись роскошные и дерзкие женщины, непривычные к сопротивлению, которые быстро давали понять, что мне нужно к ним присоединиться. К другим Барбара не относилась так ревниво, потому что они сразу же открывали, чего хотят, касаясь меня плечами во время игры, несмотря на неудовольствие своих партнеров, или улучая момент, чтобы толкнуть меня грудью в узком проходе между столиками. И все же по отношению к ним она чувствовала свое превосходство, потому что, в отличие от Барбары, они не знали и не любили Иву. А вечером в ресторан приходила Ива, и тогда мы с ней больше никого не замечали. Все время, пока мы пили «заячью кровь» и ели рыбу из тарелок, полных лунного света, всей поверхностью плеч, покрытых мурашками, мы чувствовали, как повсюду вокруг ресторана Барбары нас ждет и вбирает в себя огромный пустой и теплый лес, наполненный ночью, смолой и лаем волн.* * *
В один из сезонов, проведенных в Игало, Ива пришла ко мне и сообщила, что больше не может носить шезлонги и у нее нет работы на пляже. Я тоже долгое время не работал на перевозке гальки, и потому встал вопрос, как нам жить дальше. У Ивы было несколько банок рыбных консервов, немного инжира и ничего больше, но она сказала, что нашла в одном саду работу сторожа. Мы добрались туда автостопом, поселились в небольшой сторожке из веток и камня и провели там несколько дней, питаясь консервами и распугивая колотушками птиц. Когда еда кончилась, я решил, что Ива сходит за яблоками. Но она не пошла, и мы целый день сидели голодные. На следующее утро она спросила: — Ты не мог бы сходить в сад и нарвать яблок? У меня желудок болит и разбухает, как губка. Я несколько удивился и сказал, что не могу. Я уже давно привык к тому, что мой слепой глаз смотрит только внутрь и видит, когда я сплю, а второй — наружу, в свет, и только ночью внутрь. «У меня было, — говорил я Иве, — две птицы в клетке с двумя дверьми. Одна дверь вела в день, другая — в ночь. В ночную выбирались поесть и налетаться в моем сне обе птицы, в дневную — только одна из них. Вторая птица выполнила свою работу тогда, когда выбрала тебя и принесла весть о тебе первой птице. После этого меня не особенно удивило, — продолжал я, — когда я заметил, что со временем и дневная птица, тоскуя по ночной, стала все реже пользоваться дневной дверью и все меньше времени проводить, вылетая в день, а все больше — вместе со второй птицей в ночных снах, пока наконец обе не стали вылетать только в ту дверь, что ведет в ночь и сон. Мне кажется, впрочем, — заканчивал я свой рассказ, — что темнота — естественное гнездо для глаз, туда они возвращались и раньше, с самого начала, когда им хотелось отдохнуть от света дня и истины в свете сна, который не в родстве с дневным светом и не отражает его. Под солнцем во сне глаза купаются в сиянии, которое старше дневного света (свет — всего лишь его болезнь), и видят то, чего днем увидеть нельзя. Короче говоря, — закончил я, — я совершенно слеп и не могу сходить за яблоками». — Теперь я понимаю, — сказала Ива. — Что ты понимаешь? — спросил я. — Я понимаю, почему нас взяли сторожить сад. — Почему? — Потому что ты слепой, а я, такая, какая я есть, мы не можем воровать яблоки, а можем только их охранять. — Разве ты не можешь пойти и нарвать их? — спросил я удивленно. — А разве ты думаешь, — сказала она, — что я из года в год носила шезлонги на пляже среди калек, потому что здорова и потому что мне это очень нравится? Я лечилась, но все напрасно! Теперь все кончено; я больше не могу ходить, а ты не можешь видеть. — Знаешь что, — сказал я тогда, а от голода у меня твердели уши, — садись на меня верхом и смотри за двоих, а я буду идти за двоих, и рви яблоки! И так, оседлав меня, она въехала в сад и нарвала яблок. Мы питались ими до тех пор, пока однажды хозяин, застав нас за этим занятием, не выгнал прочь. Тогда мы действительно оказались на краю. Мы остановились на перепутье, и Ива захотела меня еще раз, последний. Но так, чтобы это длилось как можно дольше. И я придумал: — Садись на меня верхом! И я нес ее и шел, пока был в ней, а она смотрела на дорогу, остающуюся позади нас. Когда же все кончилось, я сказал ей: — Мы больше не нужны друг другу. Даже когда мы близки в любви, ты смотришь туда, куда я не могу идти, если только не пойду задом наперед, а я иду туда, куда ты не можешь смотреть, если только не будешь смотреть назад. Я знаю, куда меня привели твои глаза: на берег, к другим, подобным тебе, выбирающим новые тела. Выбери и ты… Душа моя, когда ты держишь мое тело в себе, я чувствую усталость. Отпусти его, пусть оно покинет тебя и поживет на просторе, а ты поищи другое, чтобы оно носило тебя… И мы расстались, как расстаются и все, когда законченРАССКАЗ О ДУШЕ И ТЕЛЕ.
Письмо в журнал, публикующий сны (перевод Е. Кузнецовой)
Уважаемому господину Захарию Орфелину. В Славяно-Греческой благочестивой типографии Димитрия Феодосия. ВенецияМилостивый государь, Ваш журнал «Магазин» в первом номере за 1768 год предложил читателям и корреспондентам, помимо всего прочего, присылать на вышеуказанный адрес в Венецию записанные ими сны, которые Вы как редактор намерены были публиковать в отдельной рубрике. Поскольку журнал просуществовал недолго, в рубрике так и не появилось ни одной записи сна. Быть может, потому, что никто не успел ее Вам прислать. Думая об этом и сожалея, что Ваше желание не осуществилось, с опозданием отзываюсь на Вашу просьбу и посылаю одну свою заметку такого рода. Вот она. В моем сне той ночью был день, и стояла ясная погода. На берегу реки, что там текла, было много парусных лодок и любопытных. Они как раз наблюдали за лодкой, стремительно входящей на веслах в порт. Пела глухая птица. Меня среди зрителей не было — я помню это потому, что почувствовал тепло прибрежного камня, на который сел уже после того, как все случилось. Но в тот момент, когда я присоединился к зрителям, я уже знал, что в лодке, к которой было приковано общее внимание, сидят Елена, ее мать и отец — он на самом носу. По непонятной причине лодка на полном ходу врезалась в корабль, который в тот момент причаливал к берегу. Произошло столкновение, в результате которого были уничтожены вся передняя часть лодки и место гребца, а сам он был раздавлен. Осталась только его правая рука, по-прежнему сжимающая весло. Я выбегаю на берег и вижу, как эта рука все еще продолжает грести, словно пишет по воде, хотя гребец уже мертв. Вместе с обломками лодки в зеленой воде тонут Елена и ее мать, и я замечаю, как их волосы, намокая в воде, меняют цвет. В ужасе я пытаюсь им помочь, протягиваю руку, чтобы они схватились за нее, но в тот же момент понимаю, что у меня нет правой руки. То есть мне не хватает в точности того, что там, с другой стороны воды, еще не погибло, — руки гребца, сжимающей весло. И тогда до моего сознания доходит, что, конечно же, это я был гребцом в лодке, но после столкновения оказался вдруг на берегу, с этой стороны реки, наблюдать, что произойдет дальше… Смерть, очевидно, обладает невероятной скоростью как одной из своих важнейших прерогатив. А мертвые, как и мы, могут быть калеками, но у них отсутствует то, что еще живо. В таком случае, Вы наверняка чувствуете себя лишенными лучших своих книг, потому что здесь они до сих пор еще живы. С уважением, Ваш читатель
М. П.Белград, 1 марта 1975 г.
Тайная вечеря (перевод Е. Кузнецовой)
Кто знает наше имя, пусть скажет его, чтобы мы могли отозваться… Есть занятия, появляющиеся со временем и неизвестные нашим предкам. Но, подобно тайным именам, дар к такого рода занятиям существует испокон веков и уходит с поколениями, пока не возникнет вдруг вновь. В наши дни, например, довольно часто встречается профессия копииста фресок. Но когда-то было не так. Между двумя мировыми войнами в Белграде с трудом можно было найти мастера-копииста, и я помню только одного, чья мастерская находилась в мансарде углового дома между улицами Нушича и Македонской, над аптекой. Его звали Исайло Сук и жил он, утоляя жажду из чужой чаши, в башне упомянутого дома на перепачканном красками чердаке. Свою редкую работу он выполнял почти даром, неторопливо, во время белых и черных осадков, а летом ходил с этюдником по монастырям. Волосы его рано состарились и обрели цвет соли с перцем. В монастырях он перерисовывал сюжеты, которые осенью копировал в мастерской, и на полях рисунка отмечал цвета крохотными цифрами. Он выучил на память, что двойка означает желтый цвет, восьмерка — синий, а красный помечал пятеркой. Восьмерка в квадрате указывала, что следует смешивать краски, и давала зеленый. Цвета, как ему было известно, в свою очередь, являлись символами: синий означал истину, желтый — ревность и предательство, пурпурный — мощь и т. д. Он был уверен, ибо об этом шушукались в мастерских, где он учился, что существует цвет, обозначающий будущее, но никак не мог его разгадать. Кто знает, думал он иногда, обновляется ли будущее или же все существует наперед, данное навсегда и непрерывное? А мы замесили сумрак и едим глазами… Так Исайло Сук отмечал цифрами цвета, и сквозь них проглядывали черты образов, изображенных на фреске. Работая, он всегда был голоден и благодаря этому не спился, ведь трудно привыкнуть выпивать на пустой желудок. Ногти на руках и ногах у него были все в краске, а из рубашки росла борода, прилепленная к лицу, как мох. Через дыры в рубашке видно было, что борода у него повсюду на теле, даже там, где совершенно не ожидаешь. В широкой улыбке блестели его зубы, почти прозрачные, словно стекло, и за ними виднелся язык, двигавшийся как рыба. Друзей у него почти не было, он был не из местных, и единственным удовольствием для него оставалось отправиться вечером в трактир «Под липой» «икать ушами и искать куриную звезду». Трактир находился в полуподвале одного из соседних домов, и посетители спускались туда с тротуара по старым оббитым ступенькам, держась за кованые витые перила, в которых иной раз застревал ноготь или перчатка. Он любил курить над голубцами из листьев хрена и наблюдать через окно за ногами прохожих, лица которых не видел. Своих немногочисленных знакомых (кроме нескольких школьных приятелей из Второй белградской гимназии, которую он не закончил) он знал поверхностно и так и не смог разобраться в окружавших его людях. Ему не хватало воображения проникнуть в сознание других, он не переставал удивляться окружавшим его ущербным людям, которые умели у каждого, кого знали, немедленно распознать и запомнить слабые места и недостатки, а потом пользоваться ими как рычагами. Так и не поняв этого, Исайло Сук выкручивался, как мог, и однажды поймал себя на том, что, перерисовывая сюжет из монастыря Каленич, пытается узнать в фигурах персонажей своих знакомых. Очевидно, он хотел таким образом понять черты их характера и намерения, ускользающие от него, загадочные, представлявшиеся опасными. На фреске, которую он копировал, мастер XV века изобразил свадьбу в Кане Галилейской. За круглым столом, утопающим в скатертях, как в пышном тесте, сидели гости и новобрачные, а в окне виднелся нарисованный ветер. Был здесь и Христос, превративший воду в вино, вино лилось на фреске из высоких глиняных сосудов. Исайло Сук умелым движением взял немного красной темперы, обильно разбавил ее водой и, начав писать на своем полотне вино, вдруг подумал: — Смотри-ка, и я как Христос! Из воды делаю вино!.. А эти, вокруг меня, кто они? Сидя за холстом, работая, он, сам того не желая, следил за тем, как его мысли одна за другой совершают самоубийство. Он пытался облечь соседей и редких посетителей своей мастерской в одежды, изображенные на фреске, представляя себе портновские мерки, что соответствовали этому переодеванию. «Рукава до локтя, — размышлял он, — выдают человека, которому нечего скрывать. Тот, кто даже за столом запахнулся в плащ, не относится к числу откровенных и общительных, а гость, который без смущения принимает бокал с неприкрытой шеей, как бы демонстрирует свою доброту и простодушие. Говорят, по шее можно определить, сколько человеку лет, когда он умрет, голоден ли он или испытывает жажду, а у женщины шея выдает, действительно ли она довольна своим мужем или только притворяется… Не случайно и не без причины наши глаза жаждут увидеть те части тела, которые мы скрываем, выставляя на обозрение свои лица как эталон представлений о нас. Жажда скрытых частей тела, живущая в нас, жажда глаз грудей, волос живота, — это жажда истины; она старее нас и взывает к нам постоянно, беспрестанно, но мы не всегда к ней прислушиваемся… Или все это глупости? Быть может, у нас нет причин беспокоиться по поводу намерений других людей? Быть может, у нас всегда другое тело, под той же шапкой и с тем же именем. Оно не принадлежит нам, и мы меняем его, как свет на свет. Наши слова переселяются из уст в уста, точнее, нашими словами все время пользуются чьи-то уста, и слова остаются, а тела меняются. Объединяет нас только совместная деятельность: глагол, который растет и влечет нас, хотя в каждом из нас он свой. Быть может, мы все прозрачны, и ничто не скрыто, ничто не затемнено, как мы думаем, на самом деле мы взаимно доступны до самых сокровенных уголков, и каждый может быть кем-то другим. Каждый, возможно, содержит в себе остальных и видит в другом все. Все здесь везде, каждый из нас — все, каждый без конца и края. Но все-таки, тел на земле больше, чем душ…» «А лиц?» — спрашивал Исайло Сук, и это прерывало его размышления. Лица были чем-то особенным. Почти все, без остатка, они могли быть розданы живым людям, и он без труда узнал в невесте с фрески сестру одного из своих посетителей. Рисуя ее, укрытую волосами, как платком, Сук на миг подумал, что изображает собственную свадьбу, и эта мысль лишила его сна. Рисуя ее руки, он смотрел, как из ее пальца, порезанного ножом, капает капля крови, смешиваясь с кровью жениха, которая уже капнула в бокал вина для молодых, чтобы они соединились и кровью… Сук был очень чувствителен и иногда, когда на улице шел дождь, ощущал, прижавшись щекой к окну, как что-то, подобное каплям дождя, течет и с этой стороны стекла. Его жизненный путь извивался, словно червь. «Наверное, это еще не последние мои волосы, — подумал он однажды. — Возможно, еще есть надежда, и разница в возрасте с Одолой Лешак (так звали девушку) преодолима». В те дни все удавалось ему как никогда, он получил кое-какие деньги из стеклорезной мастерской, копия продвигалась быстрее и лучше, чем он мог пожелать, и он только и ждал того момента, когда чудо прекратится и дни праздника иссякнут. В один из дней этого ожидания он посватался к Одоле и получил согласие, которое в то время, перед Второй мировой, никому, кроме жениха, не показалось чем-то значительным и новым. Жених и невеста гуляли осенью 1940 года на ветру, не чувствуя его, ели в саду трактира «Три шляпы» фасоль, сваренную в воде из Савы, и Одола с удивлением заметила, как листья акации, под которой они сидели, падают Исайло Суку в тарелку, а он, не останавливаясь, ест их вместе с копчеными ребрышками. «Не поспешила ли я? — размышляла иногда девушка. — Ведь я еще не видела, когда он дорог и когда дешев». А потом настал день венчания, утонул в их бокалах с вином, и вещи утратили свои цвета и начали выстраиваться вокруг них в один ряд. В ожидании гостей на скромное свадебное торжество Исайло Сук заканчивал копию «Свадьбы в Кане» и наслаждался, представляя себе своих гостей персонажами фрески. Однако для одного гостя места среди образов XV века никак не находилось. Это был брат невесты. Этого рыжего юношу, про которого поговаривали, что он немного рыжеват и изнутри и бороду носит назло, как знамя, Исайло Сук тщетно искал среди гостей «Свадьбы в Кане» и наконец, махнув рукой, решил, что у невесты с фрески брата на свадебном обеде вообще не было. Они славно повеселились, оказалось, что брат и сестра умеют петь тихо, как из чужого дня, голосом, который не был похож на них, а Исайло Сук и Одола разрезали палец и капнули в один бокал с вином по капле крови, чтобы она смешалась, как на фреске, и потом выпили бокал вдвоем и выбросили его в окно, которое Одола на следующее утро украсила первыми цветами, посаженными в ящик с проваренной землей. Одола принесла в мансарду над аптекой кичку, которая доставала до паутины, запах новой обуви и свои быстрые пальцы, на которых любила сидеть. В новом жилище она то и дело с непривычки стукалась локтями, но, начав хозяйничать, уже, подобно воде, не останавливалась. Приводя в порядок книги, разбросанные по мансарде, она находила в них предметы, забытые там в дни, странные и чужие для нее. Из книг она выложила на поднос кучу самых необычных вещей, оставленных в них как залог, к которым неизвестные ей читатели никогда больше не вернулись: ножнички для стрижки усов, раздавленные сигареты, кусочки лимона, кисти для рисования, лорнет. Так началась их совместная жизнь, в которой невеста приспосабливалась к мужу, а в свободное время по эскизам с фресок делала из глины маленькие фигурки святых — копии, перенесенные из живописной техники в скульптурную. Это ей неплохо удавалось, и она со смехом продавала маленькие «еретические» фигурки, которые, как она говорила, перешагнули своей техникой, запрещенной в восточном христианстве, из православия в католицизм, где, как известно, церковь допускает скульптурное изображение святых. Так православные святые контрабандой попадали на католическую почву. Иногда по вечерам они сидели, увлеченные каждый своим делом, в мансарде, и Исайло Сук размышлял, глядя на свои вымазанные красками руки, связанные кистью с полотном: нет ли ошибки в том, что он старается так верно воспроизвести все детали своего эскиза на полотне? Не лучше ли и для его картины и для его жены Одолы, если он будет им менее верен, если он хоть иногда им изменит?.. Время шло, началась война 1941 года, и Одола поняла, что вообще не вышла бы замуж, если бы не решилась выйти за Исайло Сука. Между тем, с войны, из весеннего снега не вернулись в Белград многие их знакомые, в том числе и брат Одолы. Белград был оккупирован, Одола ужасно переживала, но продолжала работать, и только по меняющемуся цвету ее волос было видно, что она постоянно не высыпается и очень устала. Ее уши и пальцы заметно похудели. Она делала и продавала коврики, на которых были вытканы планы фундаментов старых сербских монастырей, найденные ею среди рисунков мужа. Он продолжал копировать фрески и в 1943 году решил перенести на холст «Тайную вечерю», сюжет, изображенный над аркой в монастыре Печ, срисованный им перед самой войной. Путешествовать больше он не мог и потому был вынужден ограничиться старыми эскизами. Он трудился целыми днями, предоставляя Одоле заботиться о пище и одежде, а вечерами, как раньше, уходил в трактир «Под липой», открытый до комендантского часа, где можно было выпить кукурузной ракии и кофе из жареной сои. Здесь, за длинным столом в помещении в глубине трактира, он сидел в компании совершенно незнакомых людей, понемногу привыкая к ним, как собака привыкает к блохам, и выпивал два стакана вина. Он стал узнавать их после нескольких встреч и понемногу принялся со своего места в центре стола (с которого был виден вход в трактир), раздавать посетителям образы фрески, которую в то время копировал. Со временем он опознал среди посетителей апостолов Петра и Павла, потом безбородого Иоанна, Луку с вьющейся бородой и загнутыми ресницами, как на фреске, так что его «Тайная вечеря» постепенно заполнялась за длинным столом в трактире «Под липой». Иногда некоторые лица, что он уже опознал, исчезали, но это особенно ему не мешало, поскольку среди новых посетителей он без труда отыскивал новых на замену. К осени 1943 года Исайло Сук почти закончил свою работу и дома, и в трактире; ему не хватало только двоих: Христа и Иуды. Христос должен находиться, размышлял он, в центре трапезы, примерно там, где сидел сам Сук, и он постоянно пытался обнаружить в сидящих рядом с ним людях черты с фрески «Тайная вечеря» из монастыря Печ. Место Иуды напротив Христа оказалось на проходе и почти все время пустовало, и потому копиисту никак не удавалось распознать среди посетителей трактира «Под липой» Иуду. Однажды вечером, перед самым началом комендантского часа, Исайло Сук сидел в трактире на своем обычном месте и ел ячменную похлебку с луком, как вдруг с улицы раздались револьверные выстрелы с тремя симметричными отрезками тишины между ними. На какое-то время все в помещении онемели, а когда разговор возобновился, по ступенькам в трактир стремглав влетел юноша в выцветших голубых штанах и торопливо направился туда, где сидел Сук. Не говоря ни слова и желая остаться незамеченным, он сел за стол напротив окаменевшего от страха Исайло Сука. Молодой человек оказался братом Одолы Лешак, жены Сука, он явно скрывался от немецкого патруля. Глядя на его рыжую бороду и волосы, Сук вдруг понял: вот кто мог бы стать Иудой! И не только тем, с фрески, чье место за столом он занял, но и на самом деле — ведь стоит юноше обратиться к Исайло Суку и дать всем понять, что они знакомы, как немцы, заглянув сюда, уведут их обоих. Краем глаза наблюдая за появившимся в дверях немецким патрулем, Исайло Сук приподнялся, не отрывая взгляда от лица в обрамлении рыжей бороды, и вдруг почувствовал, что что-то ему мешает. Он хотел, словно в руке у него была кисть, подправить черты этого лица, чтобы лицо Иуды с фрески совпало с этим, настоящим, которое чем-то противилось полному сходству. И вдруг, когда немецкие солдаты уже подошли к столу, Исайло Сук понял, что никакой кисти у него в руке нет и что он — единственный из посетителей трактира — стоит и указывает пальцем на маленького рыжего человека, который молча сидит напротив него.Шахматная партия с мексиканскими фигурами (перевод Я. Перфильевой)
Летом 1970 года я заглянул в сувенирную лавку, расположенную неподалеку от археологических раскопок Теотиуакан, к югу от Мехико. Намерений что-либо купить у меня не было. Мой третий, на темени, глаз ослепило солнце, и мне показалось, что я бесповоротно заключен в своем лице, что вместо глаз у меня зеркала и что мне невероятно хочется спрятаться от света. В лавке продавались чучела с музыкой лягушек, змей и ящериц. Их кожа и смесь, которой они были набиты, реагировали на атмосферные перемены, коготки, хвосты и зубы дергали за струны при любом изменении давления, влажности и температуры воздуха и предупреждали владельцев, что в небе Мексики что-то происходит. Здесь можно было приобрести тарелки, которые кладут под подушку, чтобы приснился изображенный на них обед. Покупатель мог заказать тот обед, который желает отведать во сне. Были там и календари ацтеков, сделанные из мраморной крошки, — самые точные календари на континенте, расположенном между двумя океанами. Были и подушки из кожи, которые владельцы после каждой стрижки набивают собственными волосами, усами и бородой, а возможно, и бородами своих предупредительных друзей, Предлагавшая их продавщица напоминала мальчика, перебирающегося из своей жизни в какую-то другую; она сообщила, что, если покупатель достиг того возраста, когда волосы растут быстро, он набьет свою подушку всего лишь за год. От подушки я отказался, и тогда она обратила мое внимание на набор шахмат, сделанных из того же камня, из которого когда-то делали ножи, которыми извлекали сердца во время человеческих жертвоприношений в Теотиуакане. Белые фигуры изображали конкистадоров, испанских завоевателей Мексики и солдат Кортеса, черные — ацтекских воинов. Чтобы продемонстрировать шахматы, девушка предложила сыграть партию. Мы не стали бросать жребий, кому достанутся белые фигуры — она, не раздумывая, предоставила их мне. Здесь считалось вполне естественным, что белый человек — завоеватель, а она, с принадлежавшими ей черными фигурами, вынуждена защищаться. И вместо того чтобы просто купить шахматы, я вдруг увидел, как на доску высаживается Кортес, опоясанный светом, огражденный страхом и гонимый страшными бурями, со своими белыми лошадьми, первопоселенцами и пушками. Магнитные берега разбросали его корабли, и под Попокатепетлем в 1519 году началось испанское завоевание. Коневой гамбит и белая мадонна защищают конкистадоров до того момента, как на d7 им был объявлен шах… На другой стороне доски, на земле и воде Теночтитлана, мрачный Монтесума II, со святым звуком «Л» в гортани, готовил своих ацтеков и пернатых змеев к полету. Метателей солнечных камней и священных мячей Монтесума разместил по черной диагонали, и они взлетали быстро, как смех. Он сделал рокировку Тлалока со священным грибом, а бога дождя Чакамулу и богиню земли Коатлику перебросил на третью горизонталь. Индейская защита развивалась на другой стороне доски, и моя соперница объявила мне шах на g8… После этого она рассмеялась, и я, признав свое поражение, купил шахматы.* * *
Дома, в Белграде, я оставил мексиканские шахматы в багажнике машины вместе с предметами, предназначенными для развлечений на пикнике. И не вспоминал о них до 1973 года, когда получил летом из Приштины приглашение на поэтический фестиваль «Лазарь Вучкович», который проводится под горой Шарпланина. Программа фестиваля включала посещение Косово, Дечанского и Печского монастырей и прочих достопримечательностей этого края. Я выехал с небольшим опозданием и, вероятно, в результате каких-то дополнительных изменений в программе фестиваля оказался на Косовом поле возле гробницы Мурата совершенно один, напрасно ожидая остальных участников, которые должны были присоединиться ко мне согласно полученной мною программе. Я лежал в траве перед гробницей, смотрел на турок и их жен, как они отдыхают на снятых с ослов и буйволов коврах, как разжигают огонь под чайниками и джезвами, как охлаждают свои длинные трубки, подставляя их под струю воды, бьющую во дворе прямо из дерева. Изнывая от скуки и дурного настроения в тот жаркий день, что не позволяет ни тени, ни ее владельцу определить, в какую сторону идти, я лежал и слушал сквозь окошко гробницы объяснения кладбищенского сторожа. Он рассказывал о том, как сербы и турки на Косовом поле в 1389 году поделили Восток и Запад. О том, что в гробнице лежит прах турецкого султана Мурата, которого 14 июня указанного года убил Милош Кобилич,[16] разрубив узел между исламом и христианством и позволив, таким образом, православию умереть, а западному христианству восторжествовать. Сторож закончил свой рассказ на том, как сербскому полководцу Лазарю Хребляновичу отрубили голову, после чего запер гробницу, бросив в ее мрак тяжелый лязг замка, как бы оставляя внутри имя ключа. С неохотой, как и я, он усаживается в траву рядом со мной и закрывает глаза. Ходят слухи, что он — из турецкой семьи, которая уже триста лет охраняет гробницу, и что он дал клятву в определенное время года не произносить имен. Кажется, сторож уснул, но вдруг он поднимает руку и указывает на моль, порхающую возле стены гробницы и появившуюся то ли из нашей одежды, то ли из персидских ковров здания. — Видишь, — обращается он ко мне без особого интереса, — мотылек высоко у белой стены и заметен только потому, что движется. Отсюда можно подумать, будто это птица. Высоко, высоко в небе, если считать небом стену. Вероятно, мотылек так и думает, и только мы знаем — он не прав. А он не знает того, что мы знаем. Не знает ничего о нашем существовании. Попробуй поговорить с ним, если сумеешь. Можешь ли ты объяснить ему, неважно что, чтобы он тебя понял и чтобы ты был уверен, что он тебя понял? — Не знаю, — ответил я. — А ты можешь? — Могу, да и любой может, — спокойно ответил старик, поднялся, хлопнул ладонями, убил моль и показал ее, раздавленную на ладони. — Думаешь, мотылек не понял, что я ему сообщил? — Так можно и свече, погасив ее двумя пальцами, показать, что ты существуешь, — ответил я. — Конечно, если только свеча способна умереть, — согласился старик и продолжил: — Представь себе, что существует некто, кому известно о нас то, что нам известно о моли. Кто знает, чем и как можно ограничить наш мир, то, что мы называем небом и считаем безграничным. Кто не в состоянии сообщить нам о своем существовании иначе, как убив нас. Некто, чьей одеждой мы питаемся, кто использует нашу смерть как средство общения с нами, как язык для разговора. Убивая нас, Неизвестный сообщает нам о себе, а мы сквозь нашу смерть, словно в приоткрытую дверь, успеваем в последний миг заметить иной мир, иное пространство. Это — шестая и высшая степень смертного страха (не остающегося в памяти), она удерживает нас вместе, связывает всех, знакомых и незнакомых. Иерархия смерти — это единственное, что сводит систему соприкосновения разных уровней реальности в одно, невидимое пространство, в котором смерть, как в черном зеркале, повторяется до бесконечности… Пока сторож говорит, я размышляю: если сказанное им — плод мудрости, опыта или начитанности, оно не заслуживает ни доверия, ни внимания. А что, если он просто оказался в нужный момент в том месте, с которого все ясно видно? Я вспоминаю, как однажды в Кракове меня отвели туда, откуда видны были все городские здания, построенные в готическом стиле. Это место обнаружили случайно, я был там и видел то же самое, что и все остальные. И вдруг я вспоминаю историю про шахматы. Иду к машине и приношу коробку с мексиканскими фигурами. Открываю ее, расставляю шахматы на траве перед моим собеседником, и игра начинается. Он, не раздумывая, выбирает черные фигуры. Ложится на землю, головой на запад и поворачивает доску, глядя на нее через правое плечо. Только тогда я понимаю, что он, словно перед боевой атакой, ориентирует доску по рекам, как военную карту по территории. Ни слова не говоря, он делает первый ход. Здесь черный — завоеватель, а белый защищается. И вдруг я вижу, как по темно-белому полю, разделяя нас, потекли реки Ситница и Лаб и как на доске с мексиканскими фигурами встречаются полумесяц и крест. Мы не видим больше ни ацтеков, ни как горит армия короля Кастилии. Мы, дервиши и иконопоклонники, здесь, на Балканах, на лугу перед косовской гробницей ведем свою собственную войну. Движутся черные и белые пешки, днями и ночами. Дни и ночи помогают им по-разному. Вместо белой ладьи в один из углов доски падает самодержавная церковь, в другом углу я вижу на g2 святого Илью-столпника, постящегося на своем столбе. На белой диагонали восседает князь Лазарь Хреблянович, черные на королевском фланге ослабли. Славянское завоевание начинается на Косовом поле, колокола собора Нотр-Дам в Париже уже звонят в честь победы неизвестного сербского креста над сурами Корана. Кобилич на белом коне копьем пробивает шатер и сердце султана Мурата. Туркам угрожает мат на c3. И начинается молитва, и приходит час страстей Христовых, и наступает день истины. Черный Баязед на крыле тигра мчится вперед во имя Аллаха. Огненный столб от неба до земли! И белые никак не могут собрать свои уши. — Встань, Лазарь, встань! — кричу я белому князю. — На коня, на d6! — И одна белая госпожа слушает нас некоторое время. И Юговичей в ее честь шлют завоевать Ситницу до Лабы, и они с трудом пробираются сквозь ряды черных пешек на помощь белому коню. Тому, который на десять маленьких дней вперед окружен на f7. И так далее… Но тогда на восемнадцатом ходу белый князь Лазарь Хреблянович оглядывается вокруг. Он понимает, что фигуры ацтекские или еще какие-то и что на самом деле это не его партия. Маленькая фигурка перестает слушаться, прячет голову под мышку и прекращает игру.Поединок (перевод Я. Перфильевой)
Никогда больше не перееду я с угла Евремовой улицы на Душанову, неся узел с постельным бельем в одной и ремнем связанные книги в другой руке, как в тот 1954 год, год окончания университета. Когда мы еще не знали толком, чего хотим, но хотели этого сразу и не получили никогда. Никогда больше я не назначу встречу словами, как в то время: «Приходи куда угодно, но не опаздывай!» Да и слова, не проглоченные, съедят меня, хотя бы и через три болота морали. Никогда больше не пойду я на лекцию, которую в университете Коларац читал Младен Лесковац, как тогда мы шли на нее, неся в себе память о его стихах. Появившийся в зале человек менее всего походил на того, кто поднимется на кафедру и обратится к нам. «Неужели он такой? — подумал я. — Господи, зачем ты позволяешь левой портить созданное правой?» Лесковац в то время преподавал литературу на философском факультете университета Нови Сада, и нам, изучающим литературу в Белграде, были известны только его тексты. Помню, что от нас пахло высохшими, потными волосами и три сотни горькой слюны перемешивались при каждом нашем слове и испарялись. У него были тонкие желто-красные уши, которые, подобно осенним листьям, лежали на траве бакенбард. Почему мы думали тогда, что он должен думать за всех нас, и что он скажет нам нечто такое, что следует запомнить? Лекция была факультативной, и однако же пришли практически все. А он, возможно, и не умел читать лекции. Возможно, ему лишь удавалось убеждать других в том, что он это умеет. Холодные карманы и подкладку моего пальто я запомнил лучше, чем саму лекцию, и все же уверен, что она была интересной и он нас покорил. Темой его лекции — я говорю его, так как нам было все равно, о чем мы будем его слушать, — был поэт Лукиан Мушицкий (1777–1837); возможно не он один, но Лукиан был важнее остального. Из всей лекции в памяти у нас осталось только письмо, которое несчастный поэт направил в 1821 году Копитару в ответ на его замечание, что он служит двум господам, то есть использует как славянский, так и свой родной язык, ибо Мушицкий и впрямь писал стихи на двух языках. В своем письме Мушицкий отвечал примерно так: — По-вашему, никто не должен служить двум господам? Мой народ служит, чтобы заработать на хлеб, сразу нескольким и притом иностранным господам: немецкому, венгерскому, латинскому (на учебе ради получения доходного места). Почему бы ему не послужить ради собственного существования двум господам — родным братьям, то есть двум языкам — старославянскому литературному языку и новому сербскому? Лучше иметь двух союзников, чем одного, особенно в дни войны! Другое, что осталось в памяти, было рассказано так, словно рассказчик присутствовал при описываемом случае, а сам случай происходил в военное время. Единственное, что прерывало этот рассказ, был сам Лесковац, который то и дело доставал из кармана платок и подносил его к левому уху, как будто прислушивался к спрятанным в нем часам, он доводил предложение до конца, быстро вытирал шею и клал платок на место. В этой части рассказа важная роль принадлежала многолетнему главе сербской церкви митрополиту Стратимировичу. По обе стороны реки, разделяющей два могущественных государства, этот человек мог практически все. Он носил часы в серебряном яйце, к ходу которых прислушивались и в Турции, и в Австрии, печать на шее, которой он запечатывал письма, отправляемые в Вену ко двору, в Белград к Карагеоргию и в Триест к Досифею, и кошелек за поясом, дукаты из которого исчезали в неизвестном направлении. В своей резиденции Стратимирович привечал двух поэтов. Первый, Гаврил Хранислав, был придворным поэтом митрополии и профессором гимназии в Карловаце; второй, Лукиан Мушицкий, известный не менее митрополита, был монахом в монастыре Шишатовац. В тот день, о котором рассказывал лектор, Стратимирович отправился взглянуть на сбор урожая на Фрушкой горе. Не уверен, что я хорошо запомнил эту часть рассказа и не добавил ли от себя и не изменил ли случайно, но суть выглядела так. Перед повозкой медленно шел большой прирученный олень с колокольчиком на шее и с ключами от своего хлева на рогах, а его движение сопровождал такой сильный бой колоколов из всех окрестных монастырей, что эти звуки вспахивали землю. Под грузом одной бочки с вином и заготовленных поросенка, теленка и ягненка кони спотыкались и фыркали, чувствуя запах крови. На Фрушкой горе уже были выкопаны ямы, и в них два дня назад положили высушенную на солнце виноградную лозу. Сейчас она пылала, а мясники заливали баранину маслом и оборачивали виноградными листьями, козлятину готовили со шкурой, а поросят — с щетиной, обмазывая их глиной до тех пор, пока они не превращались в огромные копилки. Когда огонь потускнел, все это опустили в яму и забросали землей. Перед обедом придворный поэт Гаврил Хранислав прочитал на латинском языке оду Стратимировичу и при всеобщем одобрении передал ее митрополиту в свитке, обернутом тщательно прорисованным венцом, к которому в то утро были прикреплены настоящие листочки. В этот момент мясной запах и горячий пар вырвались из ямы и собаки принялись лизать жирную землю, вдыхая запах запеченного мяса, распространяющийся по всему лесу. В соломенной шляпе вынесли хлеб и соль, а ракию гнали и хлеб пекли по этому случаю прямо здесь и первую порцию ракии поднесли митрополиту в ореховой скорлупе, чтобы тот снял пробу и благословил. В это время другой поэт Лукиан Мушицкий сидел один в заброшенном и опустевшем монастыре Шишатовац. Вопреки запрету он нарубил мужского, а потом и женского дерева, и его монашеская косичка, пока он носил дрова, пропиталась потом. У ворот он нажал рукой высоко приделанную ручку. Когда человек толкал эту дверь, он испытывал сильное сопротивление, так что приходилось целовать руку самому себе, а потом немного подождать, пока ворота откроются. Потом требовались усилия для того, чтобы их остановить, особенно если держишь на плечах две вязанки дров. Чтобы они вовремя остановились, надо было повиснуть на ручке и въехать на воротах во двор. В келье были три окна и высокий потолок с деревянным покрытием, смазанным маслом. Звуки доносились в окна самым необычным образом: когда кто-то с песней проходил рядом с двором, торопясь на праздник, его песня, шаги или скрип телеги проникали в келью кусками, разбитые на три части, с паузами, как проникал в нее и дневной свет, и безвозвратно терялись, едва оказавшись за стеной. Сейчас, однако, в келье царила тишина. Только дымоход над очагом без помех улавливал в высоте и приносил в помещение голоса, звуки и удары издалека, пока Лукиан разжигал под ним два огня. С одного края огонь был из женского дерева, из ивы, тополя и липы, маленький, слабый огонь, а с другого края — сильное пламя, разгоревшееся из дуба и сосны. Он взял деревянную ступку, посыпал в нее соли и бросил на соль пригоршню чеснока и солонины. Измельчил чеснок и солонину и стал ждать, когда в котле закипит фасоль, а на тихом огне над женскими дровами готовил перец, и, счищая с него кожицу, пачкал ногти. Обедал он один и слушал, как из дымохода доносится карканье ворон, слышал, как на ветру деревья меняют кору, как раздаются удары топора, лай и смех с Фрушкой горы. В тот момент, когда там читались стихи — его соперник при дворе и поэт митрополита Хранислав декламировал свое латинское стихотворение, — Лукиан сочинил одну из своих од на каждый день, благодаря которой мы знаем сейчас, что произошло между ним и митрополитом. — Но, — предостерегал в этом месте лектор, — следует знать, что Стратимирович удалил Лукиана Мушицкого от себя, своей милости и своего двора вовсе не случайно. Нелепо думать, будто бы митрополит (сам несостоявшийся поэт) испытывал ревность к Лукиану, который достиг славы и оды которого переводились на немецкий и венгерский языки. Причина была намного глубже. Два мира — Лукиана, мир его читателей, в основном молодежи, опоенной поэзией, и другой, Стратимира, мир церковной администрации, не были дружественны. Казалось, первому принадлежит будущее, а второму — митрополита — настоящее. Поэтому, чтобы поддерживать равновесие, митрополит постоянно держал при себе малоизвестного поэта Хранислава, который вместе с учениками училища города Карловцы представлял официальное придворное крыло поэтического искусства на латинском и немецком. А Мушицкого митрополит укорял за то, что тот распространяет мирские стихи в монастыре и переводит псалмы классическим размером язычника Горация. Впрочем, так оно и было, и митрополит Стратимирович, в подчинении которого находился монах Мушицкий, не позволял печатать и собирать в книгу его еретические стихи, тем более что всегда мог указать на Хранислава, который, будучи старше Мушицкого, не предоставлял свои оды на суд общественности и, по всей вероятности, не собирался их издавать. Об этом все знали, и приятели умоляли Лукиана сделать что-нибудь со своими произведениями и предостерегали, что после его смерти монахи тут же бросят «языческие» стихи в печь. Знал об этом и сам Мушицкий, который вел эту долгую и неравную битву, пытаясь понять, как «шахматы сыграют свою судьбу», и писал в одном письме: «Моим одам осуждено быть напечатанными только после моей или его (то есть Стратимировича) смерти». Так и случилось. Опасения Стратимировича имели свои основания. После смерти митрополита (в 1836 году) Мушицкого избрали на его место, и торжественное возведение в сан митрополита в городе Карловцы не было произведено только потому, что поэт умер в следующем 1837 году, сразу за своим противником, не успев собрать и издать свои стихи.* * *
На этом лекция закончилась, и я бы наверняка ее забыл, если бы двадцать лет спустя не случилось то, что оживило в памяти повесть о Мушицком и Стратимировиче. Я занимался литературой двух последних веков и в связи с этой работой заново перечитал Мушицкого. Я думал среди прочего о том, насколько эти стихи помешали его рясе и насколько сейчас, когда поэта уже нет в живых, ряса вредит его стихам. Как известно, Мушицкий до сих пор не попал ни в один популярный сборник, и его оды, написанные на старославянском литературном языке, который сейчас многим не понятен, остались неизвестными. Одну за другой я перевел его оды на современный язык, а несколько самых красивых выучил. Их язык свистел, как при жатве волос в ушах, от него потели зубы, а рот наполнялся звуками гулких помещений, в которых на нем раньше говорили и которые больше не существуют. Иногда я повторял стихи во сне перед зеркалом при зажженной свече, только лицо в зеркале не было похоже на мое, а перед ним, с этой стороны зеркала, в комнате никого не было и мои движения в зеркале не повторялись. Я сидел во сне спокойно — не было смысла делать то, что даже в зеркале не отражается, и ждал, что он дунет из зеркала на свечу и задует ее. Утром, когда я повторял стихи, выяснялось, что в них на одну строфу больше, чем раньше, а некоторые из них исправлены. Оказавшись осенью 1974 года в редакции Сербского литературного общества, я вспомнил лекцию Лесковаца, неизданные стихи Лукиана Мушицкого и предложил издательству выпустить в поэтической серии избранные произведения Мушицкого. Тексты давно у меня были готовы к изданию, так что книгу, объяснил я, можно сразу же отправлять в печать. Оставалось только вынести предложение на обсуждение правления Сербского литературного общества и печатать книгу «Оды и эпиграммы» ЛукианаМушицкого. В это время членом правления Сербского литературного общества вместе с Младеном Лесковацем и остальными состоял и д-р Димитрие Вученов, профессор Белградского университета, известный как отличный администратор и знаток механизмов, которые помогали деятельности работников просвещения и научных учреждений. С тонким вкусом специалиста, прекрасно знакомый с законодательством в области просвещения, Вученов был довольно влиятельной особой. Влияние его не сразу бросалось в глаза, так как место его приложения постоянно менялось. У него был тяжелый взгляд молчальника, которым, как говорили студенты, можно было и пуговицу оторвать. А уважали его на обоих берегах Дуная. Он возглавлял одну из главных кафедр в Белграде и редактировал старейший сербский журнал «Летопис Матице сþпске» в Нови Саде. Помню его костюмы, всегда соответствующие цвету волос, и научные труды о реализме в журнале «Пþилози за книжевност, jезик, истоþиjу и фолклоþ», диссертацию о Домановиче и педагогические дискуссии в небольших филологических изданиях. Как-то вечером 1974 года он оказался среди членов правления Сербского литературного общества, за длинным столом, который делит зал на втором этаже на две половины: в одной были книги, в другой — окна. Он сел за стол, легким движением достал карманные часы, словно собирался их куда-то бросить, и положил перед собой. Заседание началось, но при этом возникло впечатление, будто время в его часах идет по-своему, не так, как в остальных часах, тикающих в тот день в Обществе… В это время я сидел дома в ожидании гостей. Я срезал у булочек верхушки, выбирал середину, смазывал маслом, наполнял их тертым сыром с желтком и перцем и клал в духовку. Пока я угощал приятелей этими булочками с кружкой пива и свежим яйцом, вылитым на дно и посоленным через пиво (соль в пиве тонет), в Обществе говорили о Мушицком. С речью выступил профессор Вученов. Его глаза, окрашенные на дне тишиной, ничуть не поясняли того, что он говорил, а голос, который прошествовал по истории сербского реалистического рассказа, не запоминался, как не запоминается форма стаканчика, из которого вы пили кока-колу в кафе «У коня». Но содержание должно было остаться в памяти. Он с уважением упомянул стихи, которые я написал на двух языках, на старом и новом литературном, и отметил это как положительную особенность в пользу моей работы над подготовкой Мушицкого к изданию. Но тут же добавил, что, тем не менее, ему известна более достойная кандидатура, а именно — профессор Младен Лесковац, чья научная эрудиция и поэтическая подготовка, по его глубокому убеждению, гарантировали успех. Предложение было принято, присутствующий на заседании Младен Лесковац согласился взять дела в свои руки и сразу же попросил для подготовки Мушицкого три года. Таким образом, вместо того чтобы отправиться в печать, книга была отложена, а Мушицкий в очередной раз остался поэтом с неизданными стихами. Мне же показалось, что в зале Сербского литературного общества в тот день собиралось не правление, а снова, как и сто пятьдесят лет назад, произошел поединок между Стратимировичем и Мушицким. Поединок, в котором Стратимирович воспользовался подходящим случаем и влиянием Димитрия Вученова и прикрылся Лесковацем (как когда-то Храниславом), чтобы окончательно рассчитаться с Мушицким.Отутюженные волосы (перевод Я. Перфильевой)
Мы сидели в кафе у гостиницы «Москва», за холодным и немного липким — так что стаканы прилипали — столом, над мраморными, как в ванной комнате, полами и наблюдали за дождем, присутствующим одновременно и глубоко в нас, и во всех стеклянных стенах кафе. Дождь снаружи, со слабым запахом липового чая и детства, струился вдоль липовых стволов. Мы ждали, когда он кончится, и от нечего делать болтали. Речь шла о том, какая у нашего школьного приятеля Гргура Тезаловича была красивая мать. — Почему была? — возмутился один из присутствующих. — Она еще не умерла, нельзя говорить «была». Мне пришлось стать судьей в этом грамматическом споре. Чтобы я мог понять, верно ли употреблена эта форма, они вкратце описали один случай, исход которого мне не был известен, хотя его участников я давно и хорошо знал. Антоние Тезалович, отец Гргура, считался в свое время самым привлекательным человеком в Белграде. У него были маленький, не больше глаза рот и над губой усики размером с бровь. Женщины, которые непрерывно крутились вокруг него и входили в его жизнь, пришли в отчаяние, когда он остановил выбор на дочери одной из своих поклонниц. — Что его в ней привлекло? — удивлялись они, — неужели он не замечает, что она утюжит волосы? Вопрос их остался без ответа, но они видели, что у госпожи Руджины очень красивые длинные волосы, которые она иногда заправляла за пояс юбки, а иногда укладывала одним взмахом головы, собирая их вместе быстрым и легким движением. Она прикусывала при этом губу, и когда перебрасывала волосы с одного плеча на другое, казалось, будто та половина остается обнаженной. Это движение позволяло увидеть и оценить все ее тело — от опиравшихся на пальцы, отяжелевших от красоты ног до туловища, в напряжении которого выделялись мышцы, лопатки и груди, покачивающиеся в легкой полотняной одежде, каждая в свою сторону, В такие моменты мужчины не могли отвести от нее глаз, а женщины за этот искусственный (как они считали) поворот головы госпожу Руджину ненавидели. Иногда она надевала платье с глубоким вырезом, который заполняла своими волосами, что вызывало всеобщее удивление и привлекало внимание, так что всему нашему седьмому классу снилась мама Гргура… Сейчас она совсем другая. Муж ее умер, оставив сына, красота исчезла, тяжелые седые волосы выдавали ее возраст, пришлось их коротко постричь, и разве что необычное движение головой, словно у отбрасывающей гриву кобылки, сохранилось, бессмысленное и бесполезное, хотя она по привычке считала, что это движение привлекает к ней взгляды. …Ее сын продолжал учиться с нами, он был темен лицом и светел под темной кожей. Мы его не любили — в его лице было что-то от матери, и нам, знавшим прежнюю госпожу Руджину, не нравилось угадывать ее черты в мужском лице. Мы не хотели волноваться, глядя на него, как волновались когда-то при виде его матери. Потом Гргур внезапно возмужал, у него появились усики, лопатки на спине раздались, и он стал носить шинель по моде (сейчас возвращающейся) послевоенного времени. Раньше других эти перемены заметили девочки из нашего класса. — Как будто меня скорый поезд сбил, — услышали мы, как одна из них говорила своей соседке по парте, и поняли, что речь идет о Гргуре. Так сын госпожи Руджины покинул мужское общество и обосновался в женском… В это время в восьмом классе Четвертой белградской гимназии, располагавшейся неподалеку от автошколы, с нами учился некто Косача, по прозвищу Журавль, и нельзя было сказать, что он и Гргур как-то соприкасались. С Косачей рано произошла та странная вещь, которая вскоре меняет ход всей жизни, воспринимается, как будущее, обретенное уже в настоящем и кажется причиной тех или иных событий, хотя на самом деле это не так. Как-то он подрался в классе и без особых усилий оторвал более крупному, чем он сам, противнику ухо, подобно тому, как с дерева срывают плод. Потом Косача бросил школу, и некоторое время его не было видно. Говорят, следователь, который его задержал, хотел увидеть нож, приложенный в качестве вещественного доказательства на судебном процессе по поводу убийства на Душановаце. Отпущенный из-за недостатка улик Косача и дальше крутился возле кинотеатра на Душановаце, в центре города не появлялся и однажды признался друзьям, что не был на Теразии уже лет восемь. Время от времени Косача ходил на танцы в «Дрндару», рядом с церковью на Вождоваце, заходил в бары и выпивал по одной рюмке сливовой ракии в каждом, начиная от «Лавадина» до «Ковача», и говорил, что всегда носит с собой два ножа. Говорят, что впервые он воспользовался одним из них в кабацкой драке у «Липовой тени», где когда-то была длинная, опоясывающая здание бара терраса. Когда он выходил, один из его «должников» бросил ему с террасы на голову стул. Косача увернулся, поймал стул и тут же швырнул его назад, на террасу, оставив полную скатерть осколков на столе нападавшего. Тот поспешил за ним на улицу, но очень скоро его принесли в бар, всего в крови и с ножом в животе. Косача не убежал, напротив, помог его внести, дождался прихода полицейского инспектора и по требованию того спокойно показал свой нож, лезвие которого не было открыто и тем более не побывало в деле. Косача объяснил, что противник напал на него с ножом, что они боролись, упали и тот наткнулся на собственное оружие. Косачу отпустили, но с тех пор, говорят, он всегда носил с собой два ножа, один из которых пускал в ход все легче, быстрее и искуснее, а второй показывал только в случае необходимости. Говорят еще, что он сильно заматерел и только неспокойное послевоенное время спасло его, да и то ненадолго, от серьезных преследований. А потом его посадили на длительный срок. В это время сына госпожи Руджины, Гргура, на одной студенческой пьянке впервые упомянули в связи с Косачей. Кто-то из наших школьных приятелей заметил, когда зашел разговор о Косаче, что заматерел не только он. «По-своему заматерел еще один из наших — Гргур Тезалович. Он заматерел в своих отношениях с женщинами!» Сказано было довольно точно. «Гргур, — говорили, — утюжил волосы и особо заботился о языке, на котором общался с женщинами». Это вовсе не значило, что он тщательно подбирал слова, ибо разговоры здесь вообще не самое главное. В обхождении, в движениях, в том, как он отбрасывал и укладывал волосы, как курил, как застегивал пуговицы на шинели, как брал в руки чайную ложечку, во всем этом он непрестанно и намеренно контролировал свое поведение и подчинял все одной-единственной цели. Он прекрасно знал, что этот тайный язык, имевший большой успех сначала в гимназии, а потом и за ее стенами (Гргур быстро оказался в средоточии авантюр и вечеринок и завязал приятельские отношения со студентками и взрослыми женщинами), не остается неизменным. Его, как и моду, каждые два-три года нужно учить заново. И Гргур снова и снова, со страстью и успехом учил его. «В сущности, — говорил он, — мода и ее язык сводятся к одному: в какой мере в определенный момент женщины проявляют себя как „легкий фрукт или тяжелый фрукт“». Временами мода заставляла их, несмотря на истинное положение вещей, выглядеть так, словно можно просто пойти и подобрать их на улице, такими они казались легкими и доступными, хотя никто не требовал, чтобы так было на самом деле. Но вскоре все менялось, и почитательницы моды выглядели куда недоступнее и холоднее, чем были в действительности. Все подчинялось этому закону, между двумя крайностями обращались целые поколения женщин, а вслед за ними и мы, их поклонники, повинуясь общему закону, как повинуются ему украшения, одеяла, краска на лице и цвет используемых предметов… Короче говоря, вышло так, что одна женщина переспала с Гргуром дважды, поспорив, что он не вспомнит, что уже спал с ней, и выиграла спор. Тем не менее, об этом сравнении Гргура и Косачи мы все как-то забыли. А потом случилось так, что в один вечер Косача (его только что выпустили из тюрьмы) и Гргур оказались с одной и той же девушкой. Она была совсем молоденькая, с маленькой высокой круглой грудью и глубоким пупком, просвечивающим сквозь платье. Она надувала шарики из жевательной резинки, и те лопались у нее во рту. Чтобы обеспечить себе лучший обзор, она легонько дула на один локон на лбу, отбрасывая его с глаз. По неопытности она ввязывалась в сомнительные истории, ни на что не обращая внимания. И этим вечером она отправилась сразу с двумя, пообещав, что ляжет и с тем, и с другим. Осталось только выбрать, кто будет первым. Они шли по Авалской дороге к лесу, напротив кафе «Ковач», и она спросила Косачу, есть ли у него нож. Когда тот, усмехнувшись, ответил, что нет, она вывернула обоим карманы и проговорила: — Если нет ножа, отгрызи подкладку зубами! — Только тогда они поняли, чего она хочет. Она сама хотела выбрать первого. Косача достал запасной нож и отрезал обоим подкладки на карманах. Они взяли девушку под руку, а она сунула каждому из них руку в карман брюк, и так они продолжили свой путь. — Ну что, решила наконец? — спросил Косача нетерпеливо. — Никак не могу. Оба вы тяжеловесы. Не пойму, кто хуже, — ответила девушка. В этот момент, по причине нервного напряжения или еще почему, Гргур перебросил свои длинные волосы с одного плеча на другое; все его тело, напряженное и готовое, участвовало в этом движении. Оно и оказалось решающим. Одновременно решение приняли и девушка, и Косача. Девушка вынула руку из кармана Косачи и повернулась к Гргуру, а Косача, не успело движение окончиться, испытал к Гргуру острый, как кровь, прилив ненависти. Он улыбнулся, спокойно пропустил обоих в ворота и не мешал им начать. Когда же понял, что высшая точка уже близко, он подошел к Гргуру и прежде, чем тот изверг семя, воткнул ему один из своих ножей в спину.Кони святого Марка, или Роман о Трое (перевод Я. Перфильевой)
Эй!.. В лесу белки всегда в два раза дальше от того места, где слышно, как они грызут орехи. Во сне мы всегда в два раза моложе, чем наяву, как та бессловесная женщина, которая, кормя меня грудью, заснула, и ей снилось, что она сосет грудь своей матери. Она проснулась в ужасе, ей приснилось, что наш город Троя сгорит из-за ребенка, рожденного в тот день, когда лошадей выведут пастись, чтобы их оплодотворил ветер. В то время город Троя еще стоял на холмах. С быками-победителями и кобылами мы отправились с Кипра и доили все, имеющее вымя, но до Азии не добрались. В пути нас застал штиль, и корабли уже три недели стояли в стаде тощих парусов. А мы замесили сумрак и ели глазами. «Кто-то нечист и грешен на кораблях», — говорили в Трое. И как только мать рассказала сон, все вспомнили, что укротители парусов в тот день вывели наших кобыл на корму, чтобы они приманивали ветры из Греции. Ветры должны были покрыть кобыл и сдвинуть корабли с места. Но сами кобылы напрасно пускали ветры в паруса. Тогда стало ясно, что рожденный в тот день мальчик виноват в том, что мы не двигаемся с места по воде, и он — тот грешник, из-за которого, по пророчеству, сгорит город. Испугавшись огня, на кораблях, полных помета и горячей земли, бросили троянцы ребенка в море, но корабли все равно не сдвинулись. Тогда они вспомнили, что и я родился в тот же день, только попозже. Меня отдали моряку, чтобы он столкнул меня в море, но он, подкупленный серебряной подковой, тайком спустил меня ночью в лодку, погрузил туда же козу и, привязав ее к корме, пустил нас к берегу и горе Ида. Как только я покинул корабль, подул ветер, и галеры одна за другой двинулись к Азии, к новым берегам. А коза меня кормила, мочилась на меня, и так мы добрались до суши. Там меня встретили стада других коз и нашла бродяжка, из тех, кто может остановить рост бороды и живет, раскрашивая за скромную плату пасхальные яйца и гусиные перья. Она отдала меня пастухам, от которых я получил имя Парис Пастухович Александр, и вырос с ними и стал таким искусным в их деле, что мог бы и скорпионов пасти и бросить камень на расстояние, которого достигал мой голос. Я был так красив, что меня хотели не только женщины и богини, но и козы, и вскоре я оказался вдовцом одной козы. Я никогда бы не узнал, откуда родом, если бы однажды тайком не погнал наш скот в Трою на бой быков и там случайно не познакомился со своей семьей. Я увидел на берегу два надгробных камня, двух строящих город несчастных чертей, которые погружались в пот тем глубже, чем выше поднималась стена. Одного из них звали Пебуш. Он высекал и устанавливал камни, и строилось на земле так, как он этого хотел. Другой, Нептонуш, был морским чертом и повелевал морем. И выходила грязь из моря, и строилось на воде все, как они хотели. — Это тот город, — подумал я, — что должен сгореть из-за меня. И так возвели Трою — ни на земле, ни на волнах, наполовину соленую, наполовину из обожженного камня, и здесь поселилась и умножилась моя семья. Мой младший брат, рожденный на суше, получил имя Олень, и вот рассказ о нем и правда обо мне. Это было так.* * *
У отца был самострел с сильной отдачей, но он не менял его на другой, потому что у тетивы был долгий и красивый звук. Вместо того чтобы целиться поверх животного, отец держал руку так, чтобы она сильнее дергалась при выстреле, и отправлял стрелу прямо в цель. Олень был уже убит, а самострел продолжал приятно звенеть, наполняя звуком лес так, что издали можно было сказать: — Слышишь? Приамуж опять голодный. Он охотится! Мой брат получил прозвище Приамужевич по отцу, который славился своим умением обращаться с лошадьми, он постоянно был при них и при аме, как тогда называли конскую упряжь. Имя Олень моему брату дала мать в знак раскаяния. Она утверждала, что когда был зачат брат, она ела мясо оленя, застреленного отцом несчастливым и недостойным образом. Всю ночь он охотился на диких зверей, но и уха не поймал. Самострел стал уже сам по себе звенеть от ночной влаги и распугивать дичь, когда отец заметил оленя, в честь которого был назван мой брат, но животное было далеко, и отец не смог бы попасть в него. Тогда Приамуж перекрестился и попробовал молитвой удержать его на месте, и так ему удалось застрелить оленя. Отец смотрел на него и говорил: — Отец мой и мать моя оставили меня и холод в моих ушах. Тело болит, близится старость, вокруг несчастья; работа навалилась, никому она не нужна, друзья меня предали, а церковь без пастыря. Исчезает все хорошее, зло обнажается. Мы плывем во мраке, не видим нигде пристани. Может быть, мы гребем на месте. Воротники давят нам шеи, хотя мы расстегнулись уже до штанов. Христос заснул. Что еще произойдет? Единственное избавление от зла — смерть. Но тамошнее, если судить по здешнему, меня пугает… Олень, услышав эти слова, подошел и ждал, пойманный в западню слов молитвы, как тело, пойманное душой, и тогда отец застрелил его. После ужина родители легли на сырую, еще теплую шкуру и зачали в ней моего брата, а мать в знак раскаяния дала ему имя Олень. Когда Олень вырос, стало ясно, что он не будет таким красивым, плодовитым и сильным, как я. Еще в детстве змеи облизали ему глаза и уши, и с тех пор он был нездоров. У него была святая болезнь, он стал ясновидящим, и все говорили, что он будет прорицать будущее. Он изъяснялся на каком-то странном языке, полном присказок, словно во рту у него сливовая косточка, и речь его подобна птичьей походке. И если он, несчастный, обернутый шерстью, затопленный рачьим светом вчерашнего дня, случайно вставал к окну или двери, то начинал петь, как птица при появлении солнца, глубоким мягким голосом, легко летевшим навстречу завтрашнему дню, словно пес, спущенный с цепи. Заметив, что в его глазах посажен святой лавр и он видит макушки деревьев в завтрашнем дне, родители отдали его монахам на воспитание. Когда Олень появился в монастыре, ему показали новых учителей, болванов. Один все время молчал, другой же непрерывно говорил, как будто во рту у них было разное мясо. Они были наказаны за нетерпимость и ненависть. Они сидели в одной келье, друг против друга, подставив один другому колено и усевшись на него, и молились, скрестив руки, так что их левые и правые ладони крест-накрест соединялись в молитве. На шее у каждого висел камень, который обычно носят любовники и которым они подзывают друг друга. Камень был полым и, если раскрутить его на шнурке, тихо гудел, а слышно его было издалека. Так с помощью камня они перекликались и могли узнать, где находится каждый из них, пребывая в постоянном страхе, что, покуда они порознь, один может причинить другому горе. Оленю они тут же сказали две вещи: Первое. Человек во сне в два раза моложе, чем наяву, а наши воспоминания и слезы наяву в два раза старше, чем мы. Чувства, продолжали они, лишь проходят сквозь тело, но в нем не заканчиваются. Грязное и черное чувство исходит из земли и ползет из прошлого в завтрашний день к солнцу, как росток, а чистое и прозрачное нисходит на землю из света и надзирает за прошлым. Одно чувство хрипит и ржет от напряжения на крутом подъеме, другое спускается в полной тишине, без усилий и шума, что свидетельствует о его совершенстве. Цель восходящего — очиститься, цель нисходящего — не запятнаться. Олень Приамужевич пребывает как раз, где его чувства переплетаются подобно восьмерке. Второе. Если он хочет сохранить добродетель, ему следует обуздать жажду. Монахи сообщили ему, что вся трудность в том, что в монастыре ему дозволено утолять жажду не обычной водой, а только из одной реки. Они показали ему реку, что течет близ горы Ида и куда в вечерний час звери приходят на водопой. Но вода в ней горька, и все звери, домашние и дикие, стоят на берегу и ждут прихода Инорога. Когда он приходит и склоняется к воде, а рог его касается волн, вода мутнеет и, покуда рог в воде, перестает быть горькой. Тогда все звери и мой брат Олень Приамужевич могут пить, пока Инорог не утолит жажду и не поднимет голову. Как только рог покинет воду, она снова станет горькой. «В эти недолгие минуты ты можешь напиться, — говорили монахи моему брату, — но ты должен воздержаться от этого, и вот почему. Пока Инорог пьет и рог его мутит воду, глаза его делают реку чуть поодаль прозрачнее, и в этом месте, пока вода прозрачна и приятна для питья, ты сможешь, если забудешь про жажду, чисто и ясно, как на ладони, увидеть будущее после своей смерти. Обрати внимание на лицо, которое появится на дне реки. События, которые ты увидишь, обретут смысл в зависимости от него. Если лицо мужское, увиденное и предсказанное сбудется в краях, пребывающих под знаком Солнца, Востока и утра, если женское — предсказанные события произойдут в местах под знаком Запада, ночи и Луны. Короче говоря, если ты увидишь, что горит город, а под ним на дне женское лицо, знай, что город этот — на Западе. И наконец, — закончили пустословы свой рассказ, — мы покажем тебе коней, чтобы ты знал, на кого похож Инорог. Это долгая дорога, и мы отправимся туда, как только ты поймешь все остальное». Так мой брат начал учиться. Учение длилось долго, и сложнее всего оказалось научиться терпеть жажду и не умирать. Когда монахи решили, что он готов, они собрались в путь. Воткнули в круг сыра острый перец, залили сыр воском, сплели кольца из травы и отправились. Они плыли вдоль азиатского берега, как два испуганных теленка с обезьяной, до царского города, спали на корабле в очерченном вокруг них «рысьем кругу», с крестиками под языком, полагая, что так они в безопасности. Рыбу они не ели, так как считали, что есть ее можно только в месяце, имеющем в своем названии хребет (звук þ). Очутившись на суше, все свои деньги они тут же отдали первому встречному бродяге, который обещал им открыть тайну зарытого в Царьграде клада, но обманул их. Приняв деньги, он шепнул: «Под каждой пядью земли скрыт клад!» — и исчез. Поэтому им надо было поскорее закончить дела и возвращаться. Они отправились на главную площадь и показали Оленю Приамужевичу четырех бронзовых коней, отлитых во времена Александра Великого. Среди них Олень сразу узнал Инорога, хотя на голове его никакого рога не было. Монахи сказали ему: — Внимательно посмотри на коней. Сейчас они неподвижны. Но когда кони приходят в движение, гибнет империя…* * *
Вернувшись, монахи отвели брата на берег реки и оставили его прислушиваться, принюхиваться, подобно зверьку, вместе с другими животными к злосчастной и мутной воде среди морей, воде, которую нельзя пить, подстерегать Инорога и преодолевать свою жажду. И вот куски в его горле медленно стали хоронить в нем Оленя. И как человеку неведомо, когда придет ангел, так и мой брат не знал, когда придет Инорог. Инорог приходил много раз, но мой брат никак не мог совладать то с жаждой, то со сном, или же не мог уловить тот момент, когда животное делает воду прозрачной, и потому ему долго не удавалось рассмотреть сквозь свою болезнь будущее. Но однажды ему это все-таки удалось. И тогда перед ним, перед этим бездельником и трусом, открылось и рассыпалось до бесконечности множество бессмысленных картин, которые он видел так ясно, что они переполнили его, как людей переполняет смех. Он все глубже и глубже смотрел в набегающие, как волны, дни и, не умолкая, рассказывал нам о том, что видит. А видел он свою субботнюю бороду, выросшую раньше времени в воскресенье, так что он не мог ее потрогать и расчесать. Ему открылись далекие берега, невыросшие растения шумели в его ушах, и вкус камня пробивался во рту. Считая солнечные годы, он видел, как огненное яблоко Евы и Адама перемещается в наш город Трою. Он видел меня, своего брата Париса Пастуховича Александра, видел, как я втыкаю пастуший посох в шляпу, переодеваю чулки и иду в Спарту, чтобы, обмакнув палец в вино, написать на столе признание в любви к прекрасной и чужой жене Елене. Он видел, как я украду ее, словно овцу, и увезу в наш город Трою. После чего Троя примет огненное яблоко и сгорит дотла… Брат мой Олень Приамужевич видел все дальше и глубже сквозь время всякую чепуху и не мог остановиться, погружаясь взглядом в те времена, когда его, подобно выворачиваемому чулку, уже не будет. Он научился у пальмы, что стоять больнее всего, но продолжал стоять в окне между своих ушей и смотрел в будущее, и видел крестоносцев в Царьграде в 1204 году, грузящих четырех толстых коней на венецианские галеры. Он видел испуганных Палеологов и обутых в грязь славян, втыкающих копья в ворота Царьграда и уничтожающих еще одну империю. Он видел, как Рим переселяется в Царьград, видел Рим в Москве, и корабль Космы Индикоплова, и корабль Колумба у берегов Нового Света, видел турков под Веной и Наполеона на морозе, видел галлов, поедающих в Белоруссии конину… Мой юродивый брат Олень Приамужевич видел с троянских крепостных стен красный октябрьский снег в России, видел Blitz-Krieg и четверых в Ялте, и Сталина в 1948 году, и в ужасе, продираясь сквозь завесу своих грехов, видел Иерусалим и Стену Плача, арабов и нефть, вновь текущую на восток, и англосаксов на Луне в космосе, где советские русские, и кто знает, что еще и докуда он видел, черпая из родника своих провидящих глаз. А на дне он разглядел итальянскую газету «Corriere della sera» от 21 марта 1975 года и, дуя себе в шею, прочитал, что в ней написано: «Один из четырех прославленных бронзовых коней, веками украшавших собор святого Марка в Венеции, снят вчера со своего пьедестала из-за постигнувшего его рака бронзы. Целых двадцать три века эти кони противостояли порывам морского ветра и дождя, но не смогли выдержать разрушающего действия отравленного воздуха нашего времени. Таким образом, кони платят такую же высокую цену, как и все человечество, за блага технического прогресса, ибо разрушающие частицы нанесли непоправимый ущерб прекрасным тысячелетним памятникам. Перенос одного из коней святого Марка напомнил многим венецианцам старинное изречение: „Когда кони святого Марка начинают движение, гибнет одна из двух империй. Которая на сей раз?“…» Чтобы ответить на этот вопрос, моему брату осталось лишь разглядеть, какое лицо отражается в воде, женское или мужское. Запад погибнет или Восток? И там, где глаза Инорога сделали воду прозрачной, он заметил тебя, читающего эти строки и полагающего, на своей лавке или в своем кресле, что он в безопасности и вне игры. Тогда эти уловки и бредни мне надоели, и я воткнул пастуший посох в шляпу и, переодев чулки, отправился в Спарту, чтобы, обмакнув в вине палец, написать на столе признание в любви к прекрасной женщине, Елене Василевсе.ПУСТЬ ОДНАЖДЫ УВИДЕННОЕ НАЧНЕТСЯ!
Единокровный брат (перевод Я. Перфильевой)
Мой дед по материнской линии, которого я не помню, доктор Стеван Михайлович (1853–1922), родился в Мохаче, в доме местного сербского протоиерея Добрена и Софии Кануричевой. Они отдали сына в школу в Печуй и Колошвар, а затем отправили изучать философию и юриспруденцию в Пешт, чтобы он научился там, как говорится, сначала посолить, а потом съесть. Был он преподавателем педагогического училища в Сомборе, адвокатом в Нови Саде, скитался, чередуя две свои профессии, от Ковина до Беле Цркве, и вместе с ним кочевали двенадцать пар его костюмов, шляп и тростей. В Первую мировую войну его интернировали в венгерский лагерь в Араде после сказанных им слов «кто сеет в воздухе, пожинает свист ветра», а умер он, будучи судьей в Сомборе, после войны и похоронен там, за часовней. Женат он был дважды и оба раза был счастлив в браке с женами, несчастными с ним, и имел от них шестерых детей. Первая жена, из Панчево, родила сына и двух дочерей — моего дядю, мать и тетку. Вторая жена была из Нови Сада, из торговой семьи Стеич, проживавшей в Вене, а в Нови Саде владевшей двумя домами. Один, с балконом вдоль всего фасада второго этажа, стоял напротив гостиницы «Воеводина» и сохранился до сих пор. Второй, на углу Лебарской улицы с фонтаном, был построен над колодцем. Приданым второй жены было имение Ченей, а родила она ему трех дочек. На отца был похож только единственный сын, дядя Браца, как его до сих пор называют в семье. У него были красивые волнистые волосы, он носил с собой часы, которые заводил один раз в неделю, в церкви, и маленькую карманную солонку. Говорят, ночью он ездил по улицам на пролетке с уздечкой на шее и скрипкой в руках, и окна перед ним распахивались, а кони по звуку музыки точно определяли, в какую сторону повернуть на перекрестке, — смычок был для них вместо кнута. Он останавливался у каждой корчмы, и хозяин приносил ему в пролетку пиво. Дядя кидал в кружку серебряную монету, выпивал пиво и возвращал хозяину кружку с монетой. Еще о нем говорили, что человек он пустой, и любая его радость быстро стареет. Так, он трижды ездил с новым кошельком в Печуй «купить выпускные экзамены» и все три раза пропивал все деньги. А если он отправлялся на прогулку по реке, то для него и какой-нибудь барышни с кружевным зонтиком приносили в лодку столик, накрытый цветной скатертью и уставленный хрусталем и фарфором, закусками и напитками, на который по этому случаю устанавливали латунную оградку. Браца смеялся сквозь усы, словно сквозь ячменный колос, пока они рассаживались за столом на высоких плетеных стульях, напоминавших клетки из прутьев, и отчаливали вниз по течению. Этот дядя, в честь которого меня назвали и на которого я похож, поскольку в нашей семье родовое сходство наследуется ходом шахматного коня, перед Первой мировой войной перебрался с австрийской территории в Сербию, воевал добровольцем и погиб в бою с австрийцами. Его смерть по-разному отозвалась в первой и второй семье моего деда. Мать и тетя потеряли не только старшего брата, но и наследство, поскольку, согласно семейному завещанию, состояние могло достаться дяде и его родным сестрам только по достижении им совершеннолетия. «Кто деревянного коня оседлает, печь будет класть из песка», — сказала бабушка. По свидетельству одного солдата, лежавшего с ним в Пироте в полевом госпитале, дядя умер от ран и тифа за несколько дней до того, как ему исполнилось восемнадцать, и эти несколько дней навсегда лишили мою семью состояния. Бабушка, оставшись после развода одна, вынуждена была учительствовать в Мачве, а ее дочери и мы, их дети, вели жизнь, которая, по крайней мере до Второй мировой войны, была бы гораздо беззаботней, останься упомянутое наследство в нашей семье. После войны, когда стало ясно, что все изменится еще больше, а жизнь наша текла по новому руслу, проложенному необычным завещанием, и текла так десятилетиями, тетя и мама неожиданно отправились в Солун. Там, подгоняемые неким неясным предчувствием, которое наверняка давно уже жило в них и вместе с ними созрело, они принялись искать могилу дяди, нашли ее на Зейтинлике — сербском военном кладбище в Греции — выяснили там, что умер он через год после достижения совершеннолетия, и поздно и напрасно, но неопровержимо убедились в том, что жизнь их обманула. Все это долгое время мелкие заботы не позволяли им и головы поднять и подумать о главном, что позволило бы взять эти муки в свои руки и освободить нас от нищеты. Так тоска рождает тоску и наследует болезнь. В другой части дедушкиной семьи смерть дяди восприняли совсем по-другому. Одна из его единокровных сестер, Вида, вышла замуж и переехала в Белград, тогда как две другие сестры уехали с отцом в Сомбор, а после его смерти — в Суботицу, где и провели остаток жизни. Замуж они не выходили и жили напротив городской управы в доме, отделанном глазурованным кирпичом и напоминавшем разноцветную изразцовую печь. Свою квартиру на третьем этаже за стеклянной перегородкой, обращенной к лестнице и оклеенной разноцветной бумагой, они заставили переехавшей вместе с ними мебелью и отцовскими вещами. Марика и Анка носили свои имена с таким же равнодушием, что и осыпанные стеклярусом туфли и корсеты. Характером они не сошлись, но обе обожали своего брата и так до конца в его смерть и не поверили. Трудно сейчас сказать, как и когда случилось, что одной из них после известия о смерти на фронте в первый раз приснился брат. Возможно, еще в то время, когда он был жив, хотя и неизвестно. Во всяком случае, она немедленно рассказала сон сестре, и обе его как следует запомнили. — Боже, Марика, как будто он оказался в комнате, — говорила тетя Анка, — только не в этой, а в другой, где мы раньше жили, в Нови Саде или Сомборе, и был еще без усов. Только на языке у него след от зубов — от долгого молчания. А мы с тобой совсем другие: ты учишься в интернате, я закончила педагогическое училище и, кажется, работаю. Я чувствую другую жизнь, дорогу, которую не мы выбрали, и мы совсем не такие, как были тогда, когда он только начал отращивать усы. Ты ведь знаешь, какими мы были, и помнишь, что никаких разговоров об интернате, педагогическом училище и тому подобном не было. С другой стороны, возможно, это какое-то другое наше прошлое, какая-то другая жизнь, и все было бы не так плохо, как случилось. Быть может, если мы будем следить за ним и если он снова придет к нам во сне, мы сумеем узнать, какими бы мы были, если бы не стали тем, что мы есть, и какой была бы та другая жизнь, двойник нашей судьбы, который не навестил нас, а вырвался и где-то без нас вращается по другой орбите… Да и увидеть его, нашего Брацу, мне приятно. Представь себе, сидит рядом со мной, пускает дым в кудряшки на лбу и молчит. Прости Господи, как будто смотал наши пути в клубок, а сейчас разматывает их по собственному усмотрению… И единокровные сестры моего дяди стали следить за его визитами во сне. На их основании они постепенно восстанавливали свою иную биографию, возможную, но не осуществленную. Сначала тайком, а потом открыто стали вести об этом записи. По их тетрадкам с рецептами приготовления пирогов, портновскими мерками, советами по домоводству и врачебными поучениями на случай редких заболеваний можно проследить, как брат является к ним в новом костюме, как меняет квартиру и переезжает, как приходит в гости в плохом настроении или злой, как швыряет пальто на лед и идет по нему по реке Уна, держась за кусты. Как влетает однажды вечером со следами красного поцелуя, запыхавшись, с красивыми вьющимися волосами, запорошенными снегом, что вызывает неприкрытую ревность обеих сестер. Далее можно было узнать, как он начал учиться и как выцвели его глаза, когда он стал отращивать усы. Как он идет босиком, как сидит у стола над куском черного хлеба, как жалуется на то, что отец никогда ему не снится. Время проходило, началась Вторая мировая война, венгры оккупировали Суботицу вместе с моими тетками за стеклянной перегородкой, а они по-прежнему вели свои записи. — Подумать только, Анка, — сказала как-то утром Марика сестре, — опять новость от Брацы, причем важная. Ты не поверишь, но он на днях женится. — На ком, Господи? — воскликнула Анка удивленно и тут же высказала сомнения в возможности такого поворота: — В его ли годы? — Знаю на ком, знаю, но лучше не спрашивай, все равно не скажу, — добавляет тетя Марика. — Ни за что. И тетя Марика начинает жить как-то торжественно, вдохновленная своей новой тайной. Проходят недели, месяцы, словно молоко растворяется в кофе, и можно их только выплакать. Как-то утром, опять таинственно, покусывая сухарик за утренним чаем и размазывая на нем толстый слой маргарина, тетя Марика, опустив нижнюю губу, добавляет к первой новости вторую: — Послушай, Анка, не знаю, следует ли об этом говорить, но все же лучше тебе узнать вовремя. У него будет ребенок. Уже скоро. — Что ты говоришь, Марика? Откуда ребенок? — тщетно возражает тетя Анка. — А разве я тебе не говорила? — спокойно отвечает тетя Марика. — Он — человек женатый. Чьи вороные в пути, того и на переправе. Ничего удивительного, у него будет ребенок. Уже третий месяц. Этот тон, спокойное и упрямое покусывание сухарика, поражающая новость вызывают неприятие тети Анки, которая как раз застегивает перед выходом длинную перчатку. В смущении и гневе отрывает она одну стеклянную пуговку и покидает столовую, так и не застегнув перчатку. Напряженность длится целыми днями и выражается в том, что сестры живут рядом, не замечая друг друга. А потом обе забывают, или делают вид, что забыли, о ссоре и продолжают жить по-старому, до тех пор, пока однажды с тетей Марикой за обедом не случилась странная тошнота, которая не проходит ни на следующий день, ни в следующие месяцы и заставляет ее держать руку, как пришитую к горлу. Ее состояние ухудшается, и приглашенный врач, опасаясь внутреннего кровотечения, дает направление в больницу, но тетя Марика со дня на день откладывает поездку в больницу и непрестанно ведет и перечитывает свои записи. — О, горе мое, как тебе хорошо, — ноет она. — Ничего, еще немного. Лучше подождать, женщины говорят, не следует отправляться раньше срока. На следующее утро тетя Марика просыпается от боли и крика. Прежде чем ее сестра успевает что-либо предпринять, все кончено, и врач приходит только для того, чтобы установить причину смерти, для которой тетя Марика и проснулась. Произошло прободение желудка. Так тетя Анка осталась одна в квартире на третьем этаже за стеклянной перегородкой и купила корсет, который можно застегивать без посторонней помощи. Однажды вечером она открывает дневник, но не свой, а писанный рукой покойной сестры. Взгляд ее падает на последнюю страницу, где под 23 марта 1943 года стоит абсолютно понятная запись: «Скорее всего, день родов». А перед ней длинный список в девять месяцев. И только тогда тетя Анка понимает, что записанная дата — день смерти тети Марики и что ее сестра умерла, уверенная, что умирает в родах.* * *
После 1944 года и освобождения транспортное сообщение между Суботицей и Белградом было восстановлено, и как только начала работать почта, мои родные возобновили отношения с тетей Анкой. Сначала посредством писем, затем послали к ней меня — навестить и познакомиться. Это было так. Сразу после войны я играл в культурно-художественном обществе «Абрашевич» и как самый молодой член оркестра (мне исполнилось тогда 15 лет) оказался одним ноябрьским утром, не выспавшийся после проведенной в вагоне ночи, на гастролях в Суботице. Все у меня затекло, я не чувствовал расческу слева от пробора, и одна половина тела проснулась раньше другой. Нас было много, и мы не смогли все поместиться в привокзальном ресторане. На улице нас встретил ансамбль с цимбалами, вынесенными на снег, и музыкантами в шляпах и с замерзшими руками. Потом в пять утра мы ели на завтрак гуляш, в который падал снег, прямо на перроне, где были накрыты праздничные столы. Концерт был назначен в театре Суботицы в восемь вечера. Поскольку у нас не было вечерних костюмов, мы взяли напрокат и тут же надели красивую, новую военную форму, только без знаков отличия, и в этой форме разбрелись по городу, пропахшему мокрым дымом. По инструкции, полученной от моих родных еще в Белграде, я нашел тетю Анку. Позвонил в квартиру на третьем этаже, и из-за стеклянной перегородки быстро появилась тетя, в шуршащем платье, пахнувшем утюгом. За ней виднелась прибранная квартира, наполненная деревянными вещами, сияющими, как на корабле, и блестящими дверными ручками, цепляющими рукава. — Наконец-то, столько лет! — воскликнула она с порога и обняла меня. — Я знала, что ты придешь! Вера мне написала. Дай-ка на тебя взглянуть, дай посмотреть на твои волосы. Я так себе и представляла, что тебе идет военная форма. Именно так. Ты, конечно, устал, вижу по твоим глазам. Садись, я кое-что приготовила на обед. И тетя Анка выносит блюда на стол, уже заставленный голубым фарфором, полный ложек, удивительно несбалансированных, так что ручка перевешивает, ножей, постоянно выпадающих из тарелки, и вилок, с зубцами частыми, как у расчески, и кусающих губы, как осы. И все это солоновато, и я все больше убеждаюсь, что дерево вокруг нас тоже соленое. Я выпиваю ракии, и мы начинаем есть. Ее ухо расцвечивается разными красками — из-за стены, оклеенной разноцветной бумагой, в которую упирается заходящее солнце, а ее покрытые пудрой щеки — одна фиолетовая, другая желтая. На дне тарелки лежат кусок зеленого мяса и блестящая красная долька лимона, и от каждого куска у меня выделяется неестественная слюна. Голубиная печенка в кефире и голубцы из листьев хрена уже позади, и она продолжает разговор: — Ты женат? — Нет, — отвечаю я, чувствуя на мгновение неудобство, но тут же неожиданно ощущаю себя таким взрослым, давно известным и любимым там, где раньше никогда не был. — Значит, не женат! Так я и думала, — отвечает тетя. — Видишь, так я и думала. Я сразу поняла, что это неправда. С чего бы ты был женат?.. Покажи мне руки, я хочу снова увидеть твои руки, — говорит она дальше, и из-за тени, отбрасываемой низко опущенным абажуром на лампе, я не могу узнать свои пальцы с разноцветными ногтями. Я пользуюсь моментом, чтобы передать то, ради чего приехал. — Мои тебе, конечно, писали, что мы тебя ждем. Меня послали привезти тебя. После стольких лет наконец-то мы опять будем все вместе. — Конечно, конечно. Только бы война закончилась, — восклицает тетя и протягивает мне гранат со стола, от которого я отказываюсь, а она встает, ломает его пополам и ест. Она берет меня за руку, чтобы показать чемоданы, уже уложенные и приготовленные, во мраке рядом с входной дверью. — Видишь, все уже давно готово к поездке. Ох, эта поездка, Господи, как я ждала окончания войны, вся сгорела в ожидании, но сейчас все так же хорошо, как когда-то, сейчас… —Тетя Анка останавливается, а я в паузу обращаю ее внимание, что вечером занят в театре и мне пора идти. На это она хитро улыбается сквозь ресницы и отвечает: — Знаю я твои старые штучки, знаю, что ты любишь играть, и не буду вмешиваться. Я тебя отсюда, из окна, буду слушать и точно услышу, хотя бы аплодисменты. Иди, а завтра утром, в восемь, приходи, я буду ждать. Я буду готова. Она меня обнимает, я целую ее в щеку, но на губах чувствую только разноцветную пудру, словно бабочку в крыло поцеловал. Уходя, я оборачиваюсь и пытаюсь при дневном свете дверного проема разглядеть ее, но мне удается увидеть только руку в длинной застегнутой перчатке, которая прикрывает дверь. Одной пуговицы на перчатке не хватает, и в этом месте я замечаю полоску белой кожи. И тогда мне приходит в голову та мысль. Мысль, которая до сих пор вызывает у меня стыд, но которая неизбежно, хотя бы на мгновение, приходит мужчине в голову, если речь идет о женщине. Как бы это было с ней? Я сбегаю вниз по ступенькам, и так мы расстаемся. Утром, уже без формы, в своем старом костюме, я снова поднимаюсь, прыгая через ступеньки, на третий этаж дома, похожего на мокрую изразцовую печку. На лестнице много людей — женщины и соседи. Я продираюсь сквозь толпу и вижу широко распахнутую двустворчатую дверь стеклянной перегородки, оклеенной бумагой. Влетаю в квартиру и застаю тетю Анку празднично одетую в светлое, светлое платье, усыпанное цветочками, мелкими как укроп, в шляпке и в ботинках с множеством пуговиц, лежащую на диване. За столом врач и судебный секретарь составляют протокол о причине смерти, а любопытные наблюдают все это из-за чемоданов. Сажусь и я, чтобы в качестве родственника подписать какие-то бумаги, и вижу на столе теткин дневник, в который аккуратно внесена загробная жизнь дяди. На последней странице предложение, написанное как раз накануне: «Сегодня великий день. Наконец-то он приехал забрать меня отсюда…»Петушиный бой (перевод Д. Стукалина)
I
— Как подумаю: с каких пор я; как подумаю: больше уже никогда!.. Так шептал себе в бороду Дед-ага Очуз, устремившийся кратчайшим путем к Белграду, который в том, 1739 году стоял, переполненный австрийскими войсками на слиянии двух Дунаев (Саву в этих краях по старинке называли Западным Дунаем). В отряде знали, что командир поклялся раньше всех турецких частей прорваться в город и захватить церковь Ружицу, посвященную Богородице. Вот почему отряд спешил большую часть своего пути с Востока на Запад проделать прежде, чем солнце ударит в глаза и заставит лошадей коситься по сторонам, что замедляло движение на марше. «Вовсе не все равно, каким путем двигаться к цели», — думал командир и выбирал для своего отряда какой-нибудь необычный способ передвижения, с совершенно неожиданным сопровождением. Дед-ага Очуз в 1709 году воевал с русскими на Пруте и видел там, что русские генералы возят с собой при штабе собственные хоры, театры и балетные труппы. С тех пор и он держал в обозе певцов и шутов, и теперь им было поручено сочинять из названий мест, которые следовало пройти до Белграда, песню, сообщавшую каждому певшему ее солдату, докуда дошло войско. Певцы забирали к себе пленных «языков» и проводников-христиан и с их слов составляли для каждого отрезка пути новую строфу из названий тех мест, через которые проходила армия:Наконец, следует знать, — добавил дервиш, — что видимое пространство разделено между четырьмя городами не поровну. Говорят, поле для петушиных боев делят на четыре части перекрещенными линиями, что означает четыре мира, изображенные и на этом подносе. Как известно, далеко не все равно, в какой части вселенной или ее карты, начертанной на песке ристалища, погибает или побеждает петух. Ибо места хорошей видимости, мощного воздействия и долгой памяти распределены так, что смерть и поражение в восточной или западной части значат больше, чем победа и жизнь в южной или северной, которые, в свою очередь, расположены в пространстве плохой видимости, где смерть и победа не оставляют после себя ни сильного впечатления, ни заметного следа, а случаются почти что напрасно. Иными словами, — закончил свое толкование дервиш из Алеппо, — далеко не все равно, из какой части подноса каждый солдат взял сегодня утром и съел свою лепешку. Силен только тот, кто может одно и то же по крайней мере в трех разных мирах. У остальных время висит на хвосте…
* * *
Про Дед-агу Очуза, борода которого напоминала хвост его коня, ни за что нельзя было угадать, двинется ли он вперед или, с такой же легкостью, назад. Так и сейчас, вместо ответа на притчу дервиша он взял поднос, взвесил его в руке и вдруг перевернул и потребовал, чтобы ему растолковали и второй рисунок, вырезанный на обратной стороне. После того как выяснилось, что дервиш в этом рисунке ничего не понимает, поскольку его вырезал не мусульманский мастер, на перевернутый поднос прилепили зажженную свечу и потребовали кого-нибудь из проводников или «языков»-христиан, чтобы объяснить изображение. Когда человека привели, ему был задан вопрос: — Что ты видишь на подносе? — Свою щеку, — ответил приведенный. — У тебя нет чести[17] с тех пор, как ты предал своих, — ответил Дед-ага Очуз. — Смотри лучше. С этой медной пластины с вырезанным на ней рисунком когда-то печатали карты, а потом из нее сделали поднос. Можешь прочитать, что на нем написано? — Griechisch Weissenburg. — Что это значит? — Белград. — Греческий Белград? — Нет. Австрийцы так дают понять, что мы, сербы, живущие в Белграде, не принадлежим к их вере. — И к нашей тоже. — Мы знаем. — А своей у вас нет, только греческая. Но это неважно. Мы хотим, чтобы ты рассказал, что изображено на подносе и когда был вырезан рисунок. Нам нужны подробные сведения о Белграде. Как можно более подробные. О крепостных стенах, постройках, строителях, воротах, о богатстве, жителях — обо всем. У нас целая ночь впереди, а сколько нам осталось жить, я не знаю. Нелегко поделить хлеб, если не знаешь, сколько его осталось. Поэтому рассказывай не спеша. От рисунка к рисунку, и лучше тебе что-нибудь прибавить, чем не договорить. Подумай только: с каких ты пор, подумай потом: больше уже никогда!II
Сидя на седле и медленно поворачивая поднос, проводник разглядывал его дно, следя за тем, чтобы пламя не опалило ему усы и брови, и читал по меди, как по книге. Все время его долгого рассказа Дед-ага Очуз сидел неподвижно, перебирал бороду, словно держал в руках какого-то шустрого зверька, и прядь за прядью внимательно ее обнюхивал, сверкая глазами при каждом новом запахе, который улавливал. Про эти глаза говорили у походных костров, что порой они на мгновение слепнут, и Дед-ага Очуз иногда, спешившись, не видит землю, с которой садился в седло. Ему было очень хорошо, он слушал, делая вид, что не обращает особого внимания на рассказ, и казалось, он принюхивается, словно охотничий пес, пытаясь отыскать какое-то место, где уже был раньше, но потом запамятовал к нему дорогу. Только место это находилось не снаружи, за стенами шатра, а где-то в нем самом, скрытое и заросшее временем. Вот так ожидая, что знакомый и давно желанный запах разбудит его память и отведет в нужное место, Дед-ага Очуз слушал. Под бровью у него пульсировала жилка, тикая, как часы, так что на его застывшем лице волоски трепетали, словно бабочки. Можно было ожидать, что эти часы, идущие в нем, остановятся и пробьют точное время, когда он найдет оба искомых места: в рассказе проводника — для нападения на город, а в себе самом — откуда это нападение начать. И весь его военный поход, вместе с полученными сведениями, казался тем вечером людям в шатре не самой важной частью другого, внутреннего похода, который в некое неизвестное мгновение соединится с первым в одно неудержимое действие и выполнит некогда данную клятву. Так, по крайней мере, думали сидящие в шатре. А Дед-ага Очуз, принюхиваясь к своей бороде, думал о чем-то совсем другом. Он вспоминал, как в один из пыльных дней похода, на вечерней заре, наблюдал картину, значение которой понял не сразу. Из своего седла он увидел собаку, которая перебегала ему дорогу. Потом сообразил: собака пытается схватить светлячка. А потом оба пропали из виду. Он даже спросил себя — не заметил ли их еще кто-нибудь в отряде, и пришел к выводу: я тоже гонюсь за светлячком. Только он давно уже во мне, а я по-прежнему ловлю его. Значит, проглотить недостаточно. Приходится и дальше захватывать свет, даже если он уже проглочен…которое было выслушано в ту ночь, может кому-то показаться слишком пространным и изобилующим подробностями, не относящимися к собственно военным сведениям, но этому легко найти объяснение: страх, который испытывал рассказчик, заставлял его говорить больше, чем от него ждали. — Изображение вырезано тогда, когда в городе появился австрийский гарнизон, — начал проводник свой рассказ. — Я вижу это по башням, между которыми расположены Савские ворота. Эту, ближе к краю подноса, строил Кузма Левач. А эту, напротив свечи, — Сандаль Красимирич. Сандаль Красимирич был гораздо старше Кузмы Левача; по возрасту он годился ему в отцы. А по своему положению Левач годился Красимиричу в слуги. Тот вошел в Белград с австрийской армией в 1717 году, в кожаном шлеме, так крепко привязанном к бороде, что, когда настало время снять снаряжение, бороду пришлось остричь. После того как Красимирич это сделал и остался с непокрытой головой, оказалось, что он совершенно седой. Еще во время войны он попал в строительные части австрийской армии, возводившие понтонные мосты, а с 1723 года участвовал в восстановлении, по планам швейцарского наемника Николы Доксата, разрушенных башен и крепостных валов. У него не было для этого иной подготовки, кроме полученной в походах, но и в мирное время он заслужил доверие начальства, и ему поручили построить нескольких пороховых магазинов и складов в предместье. Хотя в те осенние дни дождь наполнял миски с едой быстрее, чем их опустошали рабочие, Красимирич успешно закончил работу. Его мастерство в быстро растущем городе стало пользоваться спросом, и он со своими помощниками тем больше удалялся от своего дома, чем дальше буква «р» в названиях месяцев уходила от конца слова. «В месяцы, в имени которых нет кости, домой меня не жди», — говорил Красимирич жене, и действительно, когда буква «р» исчезала из названия месяца, ни Сандаля, ни его помощников не видели в семьях вплоть до дождей, когда волшебная буква отдыха вместе с сентябрем вновь появлялась в хвосте года. В это время Кузма Левач подрастал в пригороде на Саве среди евреев и ослепших с голоду собак. Отец-рыбак (который служил на плавучем госпитале, стоящем на приколе на Ялии) не выучил его грамоте, но водил в церковь Ружица и говорил: «Какая шляпа есть, такой и приветствуют». Со временем мальчик заметил, что у отца нет определенного имени, что и знакомые, и незнакомые называют его так, как им придет в голову, а он на все откликается. Кузме казалось, что отец завален именами и почти исчез под необычными, иногда злыми прозвищами, которые давали ему люди. Отец, указывая ему на прохожих, предупреждал: есть люди, что всю жизнь рубашку выворачивают через рукав; остерегайся их. Отец учил его вязать морские узлы и говорил возле сети, испещренной красными узелками: «Взгляни на эти узлы; они устроены так, что веревка сама тянет себя за хвост и не позволяет узлу развязаться. Как ни тяни, он не подастся, потому что удерживает себя сам. Точно так же и с людьми. Их пути так сплетены в узлы, что они поддерживают друг с другом кажущийся мир и не пересекают чужих границ, а на самом деле — словно узлы на сети, тянут на себя вплоть до разрыва, ибо каждый из них делает то, что должен, а не то, что хочет. Например, ты, сын, замешан круто. У тебя сильная кровь, она могла бы камни переносить. Но этого мало. Ты и все твое поколение не на царство препоясаны, а на подчинение и работу на хозяев. И вам все равно, на кого вы будете батрачить. Ты не сможешь петь то, что захочешь, потому что кто-то управляет твоим умом, как органчиком, и накачивает в него воздух, чтобы он звучал…» Не веря в такую судьбу, мальчик все чаще ходил смотреть, как поднимается новый город. А город возникал будто из воды, словно его сам Кузма Левач мыслью своей строил, а глазами рисовал, потому что говорили, что у мальчишки рыбака глаза сделаны из ангельской быстроты и что он может догнать взглядом ветер через Саву. Обычно он сидел на холме в крепости над городом и клал свои глаза на крылья какой-нибудь птицы, стремительно падающей вниз с кручи, и птица носила его взгляд по городу, который понемногу рос вдоль рек, как каменные зубы земли. Так ничто не было предоставлено случаю и ничто не оставалось незамеченным; со временем мальчик сетью птичьих полетов охватил и осмотрел весь город, каждый уголок, и впитывал в себя, дрожа, словно глотал глазами, мельчайшие подробности, которых касался его взгляд на птице в ее падении. Носимый так на пернатых крыльях, он смотрел на башню Небойшу, отражавшуюся в двух реках одновременно, и сквозь ее окна, расположенные друг против друга, был виден клочок неба с другой стороны, которую башня заслоняла. Он пролетал возле колоколен, которые были слышны в двух империях, а когда птица, подхваченная внезапным потоком воздуха, ныряла сквозь триумфальную арку Карла VI, завоевателя Белграда, и, напуганная теснотой, в которой оказалась, взмывала вверх, поднимался и он, состязаясь с крыльями, к церкви Ружица, касался барабанщика, бьющего в барабан возле ворот, когда их закрывали, у которого не было видно лица, но можно было пересчитать все пуговицы, сверкающие на солнце. Кубарем, с легким ужасом, летел он снова к савским пастбищам у подножья крепости, там коровы пробрались по каменным ступенькам в запретное для них место, где у домов рос лук-порей, и жевали его, что значило — знал он — что завтра их молоко будет с запахом. И вновь перед его глазами голубая савская вода, ряды новых красивых домов с латунными шарами на дверях, за которые держатся, когда очищают перед входом обувь о серпы под ними. Потом внезапно его заносило на панчевскую[18] сторону, где видно было место с горькой травой, которое стада обходили стороной. Тут можно было почувствовать, как ветер относит дунайскую воду назад к группе солдат, которые шагали в строю со штыками, такими блестящими, что казались влажными. В городе наверху было множество часов с боем, которые перекликались друг с другом над дворцом наместника, а в нем — столько окон, сколько дней в году. Лавки были новые и полные, церкви — с крестами с тремя перекладинами, сады с красивыми оградами привлекали к себе соловьев с обоих берегов Савы, а мимо садов проезжали повозки, попадая под ливень, который накрывал всего две-три улицы. И вновь перед глазами немного облаков, немного тростника и тумана, плывущего по Саве и впадающего в более густой и быстрый туман над Дунаем. На другой стороне в лесах виднелись косые лучи солнечного света, и мальчик чувствовал в них горячие и холодные запахи дымящейся чащи. И снова появлялся город: строители заканчивали дубровицкую церковь — плотник замахивался и вонзал топор, но звук удара доносился с запозданием, так что птица успевала пролететь между звуком и его источником. Потом мальчик увидел, как ветер рассердил птицу, унося ее в сторону, и как далеко внизу ударил колокол, но звук послышался позже, словно плод, оторвавшийся от своего металлического черешка. Он видел, как этот звук дрожит под птицей, перелетая реку, и как достигает австрийских военных лошадей, а те настораживают уши на пастбище по ту сторону Савы. А потом можно было проследить, как звон колокола, словно тень облака, достигает на пути к Земуну пастухов и как те, услышав его, поворачивают маленькие головы к Белграду, который вновь погружается в тишину на своем берегу. А потом птица стремительным полетом пришила к небу, словно подкладку, этот мир, в котором мальчик лежал пойманный, как в сети. Ибо достаточно было распахнуть одни-единственные ворота, чтобы в муравейник города влетели турецкие конники и вмиг превратили все это сокровище, которое кололо им глаза на границе их мира над реками, в прах и дым. Наконец птица исчезала, будто ее разбивал ветер о калемегданский[19] вал, и мальчик заканчивал игру, унося с собой боль в глазах. В октябре 1727 года отец повел Левача смотреть на русских, которые приехали в город. Мальчик ожидал увидеть всадников с копьями, воткнутыми за голенища сапог, но вместо армии увидел запряженные тройкой сани, из которых выбрался человек в огромной шубе. В ноздрях у незнакомца было два стебля базилика; он ступил на землю и тотчас прошел в канцелярию митрополита. Другой пришелец внес за ним сундук и икону. Это было все. «Вот твой учитель, — сказал отец. — У него ты научишься грамоте. К нему просили посылать всех детей, что поют в церкви. Но помни: грамотный смотрит в книгу, ученый смотрит на мудрого, а мудрый — на небо или под юбку, что может и неграмотный…» Так Левач начал учиться читать, считать, а понемногу — и латыни. За это время Максим Терентьевич Суворов (так звали учителя) на их глазах лишился последних волос. Лоб его от какого-то внутреннего напряжения сморщился, будто чулок, а кожа настолько истончилась, что голубой цвет глаз просвечивал сквозь опущенные веки. Во время уроков за его щеками виднелся двигающийся язык красивого красного цвета, а на переменах можно было разглядеть, как этот язык дрожит от ветра, что бушевал во рту русского, но не достигал его учеников. «Мы все между молотом и наковальней и перченый хлеб месим», — говорил он детям на непонятном полусербском языке, который считался языком его императора. Только на уроках латыни чужеземец ненадолго преодолевал страх и с вдохновением учил их искусству запоминания, мнемотехнике, разработанной на примерах из речей Демосфена и Цицерона; он излагал ее по тетрадке, на которой они украдкой прочитали название: «Ad Herennium».[20] Чтобы запомнить текст, нужно было, как советовал русский учитель, вызывать в памяти фасад какого-нибудь дома, около которого часто ходишь и который хорошо знаешь. После чего следовало представить себе, будто по очереди открываешь каждую дверь и каждое окно этого здания и в каждый проем — для света или в бойницу — произносишь одну из длинных фраз Цицерона. Таким образом, мысленно обойдя все здание и в каждое окно или дверь проговорив по фразе, в конце обхода запоминаешь всю речь и можешь без всякого труда повторить ее. По этому способу ученики белградской русской школы целиком выучили речь Цицерона «In Catilinam».[21] Они начали обходить митрополичий дворец, который как раз строился тогда в Белграде и в котором было больше сорока помещений. В это здание Кузма Левач и его товарищи произносили — днями и неделями, каждое утро направляясь в школу и каждый вечер мысленно обходя его перед сном, — в окна, в арки, в замочные скважины, в бойницы, в церковные канцелярии, кабинеты, залы, рабочие комнаты, трапезные, библиотеки — по фразе из речи Цицерона: «В самом деле, Катилина, что тебя в этом городе еще может радовать?» Проходя мимо архива, у которого было два разных замка, так что он запирался или только снаружи, или только изнутри, минуя опочивальню митрополита, выходящую на запад, и его свиты и гостей, глядящие на восток (чтобы младшие просыпались раньше старших), мальчики декламировали: «Где мы в мире? В каком городе живем? Что за государство у нас? Есть здесь, среди нас, собравшиеся отцы-сенаторы, те, кто помышляет о разорении всеобщем, о гибели этого города…» И так понемногу и незаметно речь врезалась в память. «…Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non ille conceperit?..[22] Наследие свое растранжирили, владения свои перезаложили, денег у них уже давно нет, а с недавних пор — и веры, но при всем том остается у них та же самая похоть, как и тогда, когда они были богатыми…» Строительство не было еще завершено, и дворец заселялся крыло за крылом, так что через окна и распахнутые двери было видно, что большинство комнат украшено деревянными светильниками и обоями разного цвета. Личные покои митрополита были зелеными, один кабинет — красным, другой — тоже зеленым, но иного оттенка. У охранников были комнаты, в которых можно было спать при свете неугасимой лампады. «Далеко ли должен быть от темницы и оков тот, кто сам себя считает достойным заключения?» — кричали мальчики в бойницы. «Почему ты ждешь мнения тех, кто говорит, если ты видишь их волю и когда они молчат?»… Часть помещений уже была обставлена мебелью, в основном — прибывшей по Дунаю из Вены. Высокие своды хранили глубоко на дне комнат великолепную утварь: камины, фарфоровые печи в цветочках, бархат и парчу, шелковые чулки, посуду из карлсбадского, венского и английского фарфора, серебряные столовые приборы из Лейпцига, сервизы из чешского хрусталя и отшлифованного цветного стекла, светильники и зеркала из Венеции, часы с музыкой… «Поэтому уйди и избавь меня от этого страха: чтобы он меня не мучил, если он настоящий, и чтобы я наконец перестал бояться, если он ложный», — декламировали мальчики латинские фразы, учение подходило к концу, и казалось, что их русский наставник скоро рухнет внутрь себя, как те монастыри, что они видели вокруг Белграда, опустевшие, с проросшими сквозь них деревьями. Когда учение и в самом деле закончилось, и русский учитель опять уехал за Срем, Левач продолжил образование в австрийском военно-инженерном училище для унтер-офицеров. Как раз тогда, когда и эта учеба подходила к концу, разнесся слух, что на Савских воротах решено построить две новые башни на месте старых, разрушенных в 1690 году. Возведение одной из них, северной, было доверено давно испытанному Сандалю Красимиричу, и он уже заложил фундамент. С другой, южной, башней все оказалось не так просто. Все товарищи Сандаля, строившие тогда в Белграде, отказались от этой работы, потому что вторую башню нужно было возвести на болотистой почве. «Чтобы вода была, нужно сперва колодец вырыть», — говорили они. Поэтому на том месте работы никак не начинались, и когда задержка стала уже серьезной, однажды утром по улицам города, ко всеобщему изумлению, промчался Левач-рыбак, в отчаянии крича на сына: «В молодости храбрец, в старости нищий! Словно до третьей ночи его не берегли, Боже сохрани! Куда ты ввязался! Одно бросил, до другого не добрался!..» Так стало известно, что Кузма Левач взялся строить новую башню. Сандаль строил свою башню так, как умел, и с теми людьми, с которыми давно уже работал. Он воткнул в краюху хлеба золотой, пустил ее вниз по Дунаю и начал. Средства для строительства были ему обеспечены — его знали и давали ему, не скупясь, и соль бочками, и вино котлами. Левачу пришлось сначала засыпать болото камнями и песком, за что ему не заплатили ни гроша. Знавшие Сандаля люди из казначейства немного чуждались юноши, которому мало было своего дела и он ввязался в чужое, который во время войны не сеял кровь и которому земля кровь не рожала, а он взялся сделать то, что Сандаль счел невозможным. Таким образом, с самого начала Кузма Левич строил, можно сказать, на своих харчах и одежде. Когда поднялись первые этажи башен, народ стал собираться возле башни Сандаля. Приходили с жирными после завтрака бородами, взбодрившиеся крепким кофе, его ровесники и австрийские мастера, чтобы полюбоваться новой постройкой, окруженной лесами. «Не насмотреться нам на эту красоту, не заставить сердце поверить, что такое возможно, глянь только, что Сандаль сделал», — говорили они, трогали камень, румяный, как дно каравая, держались за затылок и прикидывали высоту, на которую взметнется будущая башня, и хвалили зодчего. А в это время Левач приволок в свое болото лодку, и здесь, в лодке, на более или менее сухом, ел, спал, а больше всего — корпел над чертежами, цифрами и угольниками, которые носил с собой, нанизав на руку, повсюду, даже на леса, возведенные с внутренней стороны постройки, так что снаружи работу было не видно. По ночам он зажигал на лодке фонарь и при его свете строил башню изнутри, словно плыл куда-то сквозь ночь, но не по реке, шум которой слышался рядом, а вверх, к невидимым облакам, которые тоже шумели, цепляясь за ветер или за рога месяца. Ему казалось, что он заточен в трюме корабля, стоящего на вечном приколе у некой пристани, которую он никогда не видел, и выйти из этого корабля можно было через одно-единственное окно, причем выйти прямо к смерти. И вдруг этот корабль на неведомом море двинулся и оказался в такой же неизвестной, но бурной пучине. Следовало безошибочно плыть сквозь ночь, наблюдая лишь за чужими снами в собственных снах, С таким вот чувством, производя расчеты при свете свечи, Кузма Левач отвоевывал у тьмы свою башню. Погрузившись в расчеты, он пришел к выводу, что лишь геометрические тела имеют одинаковую ценность и на небе, и на земле, как бы их ни обозначали. С цифрами было не так. Их величины менялись, и Левач понимал, что при строительстве следует принимать во внимание происхождение цифр, а не только их сиюминутную ценность. Ибо цифры, как и деньги, в разных условиях котируются по-разному, заключал он, и их ценность непостоянна. Однажды он все же заколебался и почти отказался от искусства расчетов, которому научил его русский с голубыми глазами, менявшими во сне свой цвет. Ему показалось вдруг, что Сандаль Красимирич обходится с числами гораздо удачнее, чем он, и что школа, воспитавшая его соперника, превосходит школу Левача. Однажды утром прибежали рабочие с берега Савы и объявили Сандалю, что башня переросла валы и уже отражается в воде. В мгновение ока известие облетело город. Был устроен большой праздник, и Кузма Левач, почувствовав, что его обгоняют, тайком велел одному погонщику мулов сходить и посмотреть, не видна ли в Саве и его, южная башня. Тот равнодушно ему сообщил, что, конечно, видна, и уже давно, и нет никакой нужды спускаться к реке. Это случилось тогда, когда Левач заметил, что нужда в мастерах и рабочих растет, а его сверстники и школьные товарищи, которых он когда-то нанял, осыпаются с постройки и исчезают один за другим. Среди друзей Сандаля, вместе с ним пришедших в Белград, был один по имени Шишман Гак. Он разбирался в строительстве и в звездах, но сам больше не строил. Гак считал, что всякое действие должно отвечать возможностям действующего, а если такого соответствия нет, работу не стоит и начинать. Так он держал во рту ночь и жил в примыкавшем к австрийскому пороховому складу просторном доме, который был заброшен и опасен в том смысле, что пожар в нем не мог перекинуться на склад, но обратное было неизбежно. Нимало о том не заботясь, Гак расставил в доме свои книги, разложил инструменты, подзорные трубы и кожаные глобусы и, по общему мнению, проводил время в безделье, наблюдая за дождем и женскими звездами. «И птица падает, а человек — нет», — говорили о нем. А злые языки добавляли, что он просто не способен переносить с места на место свои огромные знания. Они таяли, как лед, при перемещении, и в каждом новом месте, вне порохового склада, он был бессилен и пуст, а весь его опыт и умение становились хрупкими и ненадежными, память на имена и цифры изменяла ему, и после того, как он появлялся на новом месте, на него приходилось рассчитывать не больше, чем на пересаженное растение. Однажды под вечер, когда на стройке никого уже не было, этот человек, чей облик заметно старился во время разговора и в чьих волосах всегда были мухи, внезапно свернул с пути и обошел вокруг башни Левача. Лизнул камень, попробовал пальцами раствор, бросил щепотку травы в известь, посмотрел на нее, положил три пальца на один из углов и что-то измерил. Наконец обратился к Левачу: «Ухо вместо подушки, а такая работа и такие знания, — сказал он. — Не знаю, где и когда ты всему этому научился, но будь осторожен! Никто не знает, где закончит утро: за забором или на чердаке. Хорошо сделал, что леса поставил изнутри. С тяжелым сердцем смотрели бы люди на то, что ты строишь быстрее и лучше Сандаля. Это нужно скрывать, пока возможно…» Так говорил Гак, про которого знали, что он свои дни посеял в ночь. Потом Гак ушел, а Левач продолжил работу. Все более одинокий, он искал иногда общества, которого в изобилии было по ту сторону Савских ворот. Когда он появился там впервые, — а это случилось во время праздника по поводу того, что башня Сандаля поднялась над стенами, — его приняли прекрасно. Он вымыл, по обычаю, руки за спиной и смешался с толпой. Некоторые из сверстников, работавших раньше с ним, повели его с собой и с воодушевлением стали показывать своды на верху башни, где следовало от четырехугольного сечения перейти к круглому. Среди тех, кто подчеркивал достоинства башни Сандаля, был и Гак, но сейчас он, как и все остальные, башню Левача не упоминал, да и по имени Левача здесь не называли, словно забыли. Тут собрались странные люди, что смеются от удивления, держат слезы в носу и лишь отплевываются, когда им тяжело. Были женщины, которых Левач узнал (а они его нет), потому что спал с ними наспех, где-нибудь на возу с сеном, возвращавшемся вечером с поля — он платил владельцу, чтобы тот сошел и доверил им воз на полчаса, до городских ворот. Женщины быстро его забывали, с первого взгляда понимая, что он из тех, кто, правда, тяжел, словно колокол, когда входит, но думает при этом: счастье — это работа, которую любишь, и женщина, которая любит. Поэтому женщины приходили к Сандалю Красимиричу и находили там все, что им нужно. Среди прочих любопытствующих, умножавших число тех, кто восхищался быстрым продвижением работ на башне Сандаля, Левач заметил в тот вечер возле костра и человека с сетью на плечах, испещренной красными узелками. В высоких рыбацких сапогах он бродил некоторое время между огнями, а потом, сторонясь Левача, исчез в темноте. «Пошел хоронить мертвецов в лодках», — сказал кто-то громко, и так Левач наконец-то узнал, чем на самом деле занимался его отец и на каких хлебах вырастил сына. Словно не услышав сказанного, он спросил: «Как будете делать переход к барабану купола: с помощью тромпа[23] или пандатива?»[24] «С помощью тромпа», — ответили одни. «С помощью пандатива», — думали другие. Все повернулись к Сандалю, но тот был занят другим разговором и только издевательски усмехнулся, словно вопрос был неуместен. Вечером, вернувшись в свою башню, Левач воткнул свечу в лепешку, лег в лодку, смотал змейкой косичку под голову и устремил взгляд в большой четырехугольный пирог темноты, который был виден изнутри башни через окно. Так он лежал и ждал, что что-нибудь произойдет. Что-то должно было случиться и измениться — он чувствовал это и надеялся. Повсюду стояла ночь, даже глубоко в ушах; ничего не было слышно во тьме, тьма пахла землей, дыханием после выпитого вина. Майский жук залетел ему под куртку, жужжал и никак не мог выбраться. «В такую ночь, — думал Левач, — даже собаки не кусаются, только насекомые жалят, будто твоя рубаха полна звезд, и летают вокруг тебя. А все, что ты не видел — улетело…» Потом он встал, погасил свечу и ощупал в темноте стены башни. Башня была здесь, холодная и настоящая; она существовала настолько, насколько существовал он сам. А наутро и впрямь нечто произошло, словно в непогоду загудел закопанный в землю колокол. Гость постарался нигде не споткнуться, не провозиться долго с запором, быстро и удобно усесться, чтобы все выглядело как можно обычнее и естественнее, словно все это происходило уже много раз и не является чем-то исключительным. Сандаль, как говорится, закусил ус и пришел лично навестить Левача, правда, не на стройке, а в маленьком рыбачьем домике его отца. Они сидели на бочках, обхватив колени руками, и разговор начался поверх обуви. Не договорив фразы, Сандаль вытащил из-за обшлага свиток бумаги, придержал рукав пальцами, словно собирался надеть пальто, стряхнул с листов пыль и протянул их Левачу со словами: «Здесь мои расчеты и планы. Думаю, не все в них как надо, но ты легко это можешь проверить. Нет колодца без болота. Окажи мне эту услугу. Неловко будет перед людьми, если ты построишь башню раньше меня…» Сказав это, уже в дверях, посетитель повернулся и небрежно добавил: «Кстати, я попросил бы тебя сделать для меня чертеж тромпов, которые будут поддерживать барабан купола…» Таким образом, Левач с изумлением узнал, что Сандалю не удалось перейти от четырехугольного сечения к круглому. «Смотри-ка, где на лугу зубы выросли», — подумал он и сделал все необходимые расчеты, но оказалось, что в одном месте, уже построенном, исправлять было поздно, поскольку ошибка была допущена еще при закладке фундамента, не способного выдержать башню в том виде, как она была задумана. На следующее утро Левач пошел к Сандалю, отнес ему бумаги с исправлениями и откровенно заявил, что строительство башни следует немедленно заканчивать — выше ее не построить. Сандаль воспринял все это на удивление спокойно, взял расчеты, поблагодарил и извинился, что ему надо идти — ждут ученики. Левач видел, что в одном из складов близ стройки по распоряжению канцелярии митрополита было открыто временное училище для строительных десятников, и среди учеников Сандаля Левач заметил тех, кто когда-то с ним учился и научился переходить от четырехугольной части башни к тромпам, а от тромпов — к закругленному верху.Сообщение о подносе,
Последние комментарии
3 часов 55 минут назад
3 часов 58 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад