Искатель. 1982. Выпуск № 05 [Игорь Маркович Росоховатский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

ИСКАТЕЛЬ № 5 1982

Юрий ПЕРЕСУНЬКО ЖАРКОЕ ЛЕТО

I
Над Босфором, словно прикипевшее к зениту, висело солнце, и если бы не легкий бриз, обдувающий верхнюю палубу «Крыма», то, казалось, можно было бы задохнуться от жарищи и духоты. Для Николая Голобородько, электромеханика суперлайнера «Крым», этот турецкий город был не в новинку, и все же он любил в нем бывать, особенно бродить по Каналы Чаршы — знаменитому Крытому рынку. Ему нравилось смотреть, как работают чеканщики по меди, которые в своих маленьких кустарных мастерских выковывали необыкновенные по красоте мангалы, кувшины, тазы. Николай, увлекавшийся чеканкой, мог часами стоять около какой-нибудь открытой мастерской и словно завороженный смотреть, как из-под искусных рук мастера выходит произведение искусства. Но больше всего он любил бывать на улице Неджети-бей, где в крошечном полуподвальном помещении старый усатый хозяин плавил в небольшом тигле бронзу и алюминий. Сегодня же, то ли из-за жары, а может, из-за того, что Таня Быкова, официантка, к которой Николай давно уже «неравномерно дышал», слишком игриво улыбнулась Васе Жмыху, саксофонисту из оркестра, настроение с самого утра было испорчено, и Николай, бесцельно проболтавшийся на обезлюдевшей палубе все свободное время, с жадностью заступил на вахту. Надо было основательно покопаться в выключателе руля: вахтенный, сдавая последнюю ходовую вахту, посетовал, что рули иногда плохо ходят. Степан Васильевич Барсуков, второй помощник капитана, только что заступивший на вахту, стоял у трапа и наблюдал, как расторопный голосистый турчонок пытался продать собравшимся у борта женщинам мотки разноцветного мохера. Те смеялись, что-то говорили настырному продавцу, а тот гнул свое, желая сбыть залежавшийся товар. Николай высунулся из штурманской, крикнул негромко: — Степан Василич… Как насчет рулей-то? А то у меня и другой работы хватает. Застоявшаяся духота клонила ко сну, расслабляла, навевала черт знает какие мысли по поводу смазливого саксофониста и Танюшки Быковой. В какой-то момент Николай даже хотел бросить весь ремонт к чертовой матери и пойти объясниться с ними обоими, но передумал и, скрипя зубами, продолжал затягивать болты пакетника. Теперь рули шли хорошо, можно было бы и сворачивать ремонт в штурманской. Но уж такая была натура мастерового человека Николая Голобородько: не мог бросить дела, не удостоверившись, что все сработано на «ять», и поэтому решил заодно проверить электропроводку — кто-то из ребят жаловался, будто иногда искрит. Николай вскрыл один лючок, второй, подсветил фонариком, пытаясь найти пробой. Вроде бы все было в порядке, и он уж хотел опять задраить лючки, как вдруг его внимание привлек небольшой сверток. Николай хмыкнул удивленно и почти по плечо засунул руку в лючок. Когда пальцы нащупали сверток и он ухватил его, то вдруг ощутил, насколько тяжела находка. Что-то было завернуто в старую тряпицу и крест-накрест перемотано синей изоляционной лентой. Николай обернулся на дремавшего рядом второго помощника Барсукова, позвал тихо: — Степан Василич… Второй помощник вскинул голову и крепко мотнул головой. — Чего?.. — Слушай, Василич… посмотри-ка, что я в лючке нашел. Грузный Барсуков резко поднялся с кресла, шагнул к лючку, возле которого на корточках сидел Голобородько, протянул руку, прикинул сверток на вес, нахмурился, бросил коротко: — Посмотри, чтобы не вошел никто. Затем положил сверток на приборную панель, аккуратно размотал ленту, развернул тряпицу. Николай ахнул от удивления — под слепящими лучами стамбульского солнца, что било в открытые настежь смотровые окна, на старой, заношенной тряпице блестели желтым яичным цветом тонкие золотые пластины. Рядом с ними, словно нечто чужеродное, лежали четыре автомобильных свечи.— Необыкновенно богатое убранство соборной церкви святой Софии, или Айя-Софьи — Великой церкви, как ее раньше называли в странах Ближнего и Среднего Востока, было предметом восхищения многих авторов книг о Стамбуле. В одной из таких книг сказано… — Экскурсовод, темноволосая молодая женщина, достала из сумочки, перекинутой через плечо, исписанные листы бумаги, прочла: — «Рассказы всех очевидцев о внутреннем великолепии храма, в котором мы сейчас находимся, превосходят самое смелое воображение. Юстиниан был словно опьянен своим могуществом и богатством и украсил храм с баснословной расточительностью. Золото для сооружения престола было сочтено недостаточно драгоценным, и для этого употребили особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней и, кроме того, инкрустации из камней и медалей…» Она словно заведенная говорила что-то еще и еще, но Вилен Александрович Федотов уже не слушал ее, полностью уйдя в свои мысли. А подумать было о чем. В последнее время что-то не ладилось дома. Вернее, причина была ясна: единственная дочь, недавно закончившая Институт кинематографии, не желала «прозябать» на Одесском телевидении и рвалась в Москву, надеясь выйти на всесоюзный экран. Сам Вилен Александрович и жена как могли отговаривали ее, но дочь настаивала на своем, втихую добилась вызова из столицы. Федотов, плававший первым помощником капитана на «Крыме», все надеялся, что дочь образумится. В доме нарастала атмосфера обоюдной неприязни, раздражения, делавшая жизнь невыносимой. И он, поняв, что дочь уже не отговорить, решил сразу после рейса взять отпуск, тем более что «Крым» должен был сделать несколько круизных рейсов по Черному морю без заходов в загранпорты. Можно было бы, конечно, и не брать этого отпуска: дочь уже взрослая, вот и пусть меняет свою однокомнатную квартиру на что угодно. Но жена, всплакнув, уговорила его сразу после этого рейса съездить в Москву и самому ознакомиться с предложенными вариантами обмена. — …Врата этой жемчужины наивысшего расцвета византийского искусства, — продолжала монотонно экскурсовод, — были из слоновой кости, янтаря и кедрового дерева, а их косяки — из позолоченного серебра… Федотов, слышавший все это десятки раз, тронул за плечо старшего группы, сказал тихо: — Я пойду. Что-то голова разболелась. Когда экскурсия кончится, езжайте без меня. Он хорошо знал эту часть Стамбула и решил пройтись до Галатского моста пешком. А там недалеко и причал, где ошвартовался «Крым». У Галатского моста Федотова нагнал лимонаджи — худенький мальчишка, продавец лимонада, с большим медным кувшином за спиной. Черноглазый и подвижный, он задиристо улыбнулся и, поймав ответную улыбку русского капитана — они почему-то всегда безошибочно угадывали советских моряков в пестрой, разноцветной толпе, заполняющей с восходом солнца Стамбул, — моментально выхватил из-за широкого пояса стакан, тут же ополоснул его из чайника, который держал в другой руке, и, немного нагнувшись, наполнил его искрящейся жидкостью. — Русэй. О'кэй, — с южным гортанным акцентом сказал мальчишка и протянул Федотову стакан. Вилен Александрович благодарно улыбнулся маленькому торговцу лимонадом; маленькими глотками выпил освежающую жидкость, затем порылся в карманах, нашел монетку и протянул ее мальчишке. — Держи, друг. Спасибо. Подвижное лицо лимонаджи расцвело в улыбке, он аккуратно спрятал монету в широченный карман каких-то несуразных брюк, сказал серьезно: — Друг. Спасибо. Карашо. Когда Федотов подошел к судну, у трапа его встретил вахтенный матрос, выпалил скороговоркой: — Капитан просил вас, как только придете, подняться к нему. Федотов недоуменно пожал плечами, прошел длинный прохладный коридор, застеленный мягким ковром, остановился перед каютой капитана. Постучал. Александр Петрович был не один. Около его рабочего стола сидели второй помощник Барсуков и Николай Голобородько, электромеханик. — Тебя ждем, помполит. Чепе у нас, — сказал капитан. Вилен Александрович в упор посмотрел на Николая, спросил хмуро: — Натворил чего? — Сейчас узнаешь. — Капитан встал с дивана, открыл дверцу сейфа, достал какой-то сверток, обернутый в грязную тряпицу, положил его на полированную поверхность стола. И от того, с каким пришлепом лег на стол сверток, у Федотова заныло в груди. Стараясь оттянуть неприятную минуту, он достал трубочку с валидолом, медленно открыл ее, аккуратно положил таблетку под язык. — Неужели контрабанда? — стараясь не смотреть на Голобородько, спросил он. Словно угадав его мысли, капитан положил ему руку на плечо, сказал тихо: — Парень здесь ни при чем. Это он нашел сверток. Однако дело дрянь, помполит. Золото кто-то пытался провезти. — Он развернул тряпицу, и на столе желтым отливом заблестел металл. Немного в стороне от него лежали четыре автомобильных свечи. — Та-ак, — протянул Федотов и посмотрел на капитана. — Александр Петрович, кто у нас машины имеет? — Человек восемь. — Многовато, — вздохнул Федотов, посмотрел на желтые пластины, подкинул на руке свечу, сказал полуутвердительно: — Думаю, что надо радиограммой сообщить в Одессу, а это дело пока что положить обратно в лючок. Как вы считаете, Александр Петрович? — Думаю, вы правы, Вилен Александрович. Не будем торопить события.
II
Несмотря на полуденную жару, в управлении было прохладно. Толстые стены, сложенные из камня, свободно «дышали», и поэтому здесь не надоедали своим утробным гудением вентиляторы. Поднявшись на этаж, Нина Степановна Гридунова прошла длинным полутемным коридором к своей комнате, в которую к ней подселили старшего лейтенанта Пашко, толкнула дверь, но она оказалась закрыта. Видно, Саша ушел обедать. Гридунова достала ключи, открыла дверь и не успела еще подойти к своему столу, как забренчал телефонный звонок внутренней связи. Говорил сержант-постовой. — Товарищ майор? Тут один гражданин пришел, просит принять срочно. Может, вы побеседуете? Гридунова с сожалением посмотрела на шкаф, в котором стоял термос с чаем и лежали бутерброды с сыром, тяжело вздохнула: сколько раз она говорила себе, что на обед будет уходить из управления, и вот на тебе! — Пусть пройдет. Посетителем оказался коренастый таджик лет пятидесяти. Увидев Гридунову, он остановился на пороге, вопросительно уставился на нее. — Извыны, — сказал он. — Мне главный начальник надо. — А вы, собственно, по какому вопросу? Может, я смогу помочь? — Нэт, нэт. Ты — жэнщин. Печатай машинка. Мне самый главный начальник надо. Нина Степановна удивленно покачала головой, посмотрела на новенькую «Эрику», в которую был заложен протокол допроса. Действительно, в ярком цветастом платье, с пышно взбитой прической, она меньше всего походила на майора милиции с двадцатилетним стажем. Она улыбнулась, встала из-за стола, представилась: — Старший инспектор Гридунова Нина Степановна. Чем могу быть полезна? Да вы садитесь, пожалуйста. Таджик захлопал глазами, заторопился, тяжело плюхнулся на стул. — Я — Сангин. Приехал Одесса. Меня ограбили. — Он жестко сжал челюсти, пристально посмотрел на Гридунову. — Ограбили. Украли почти все деньги. Все. Все! — Его большие волосатые руки легли на стол, сжались в тяжелые кулаки. — У-у, шайтан… Аллах! Помоги вернуть деньги! — Наверно, машину хотели купить? — Да, да. Машина. «Волга — двадцать четыре». А откуда знаешь? — Догадываюсь. — Нина Степановна достала из стола пачку «Явы», протянула Сангину. — Курите? Нет? Ну и правильно. До ста лет, может, доживете. А я вот курю. — Она чиркнула спичкой, по-мужски прикурила, затянулась. — Ну а теперь давайте по порядку. Кто вы? Откуда? И прочее. В окно ярко светило солнце, резвились воробьи на широком подоконнике, а Сангин все рассказывал и рассказывал, то и дело вытирая мозолистой пятерней выступавший на лбу пот. Понемногу его возбуждение улеглось, и теперь, небритый и осунувшийся, он сидел на стуле, и не зная, куда деть большие, рабочие, покрытые вздутыми венами руки, говорил: — …а потом, когда я о «Волге» договорился, я в «Березка», в магазин, пошел. Пришел, а там японский магнитол стоит. Я подошел к парню-продавец и говорю: «Какой ему цена?», а он мне: «Это на валюта продается». Тогда я просить его стал. «Может, — прошу, — достанешь одна штука?» Он и говорит: «Полтора тысяч рублей». Я рассердился вначале, говорю, что они гораздо меньше стоят, а он мне: «Ну и покупай за меньше». Тогда я согласился, а он и говорит: «Может, еще два магнитол надо? Могу достать». — Какой он из себя? — Кто, парень-продавец этот? Длинный. Шея тонкий. Савсэм молодой. — Сангин уперся руками о стол, напрягся, заскрежетал зубами. — У-у, спекулянт проклятые! Моя работает на хлопковом поле, а ихняя спекулирует. Нина Степановна слушала Сангина и при всем участии к этому человеку не могла не спросить: — Хорошо. Они преступники — это ясно. Но как вы, хлопкороб, могли опуститься до того, чтобы ехать в Одессу и незаконными путями пытаться приобрести «Волгу»? Я уверена, что у вас в колхозе ее гораздо проще купить, чем здесь. — У нас, панимаешь, «Волга» в продаже нет. «Жигуль» есть, «Нива» есть, «Лада» есть, «Москвич» есть, а «Волга» нет. А я хочу «Волга». Она большой, красивый… — Та-ак, понятно, — протянула Гридунова. — Ну а зачем магнитолы у спекулянтов покупать? — Э-э, товарищ… — Сангин тяжело обхватил голову руками. — Мне самому стыдно. Панимаешь, сын из армии вернулся, а у него, панимаешь, японский магнитол нету. У Рафика, сына председателя, есть, а у него нету. — Тяжелый, конечно, случай. — Нина Степановна сочувственно покачала головой. — У Рафика есть, а у него нету… — Э-э, как ты не панимаешь! Он хороший мальчик, после армии на комбайне стал работать, хлопок убирал, ему почетный грамота давали. Я ему подарок хотел сделать. Он один у меня. — Да-а… Ну и как вы договорились с тем парнем из «Березки»? — Как? Я сказал, что, мол, надо телеграмм домой дать, чтобы денег выслали. А потом приду к нему… Когда Сангин ушел, Нина Степановна достала из сейфа картотеку, нашла нужную карточку, сверила с показаниями Сангина — вроде бы все сходилось. После этого сняла телефонную трубку, и, когда в мембране послышалось глуховатое, прокуренное «слушаю» полковника Ермилова, Нина Степановна попросила принять ее. Начальник отдела, Артем Осипович Ермилов, обычно галантный по отношению к женщинам, на этот раз даже не поднялся навстречу Гридуновой, а только кивнул на стул, спросил: — Ну, что у вас? Поняв по тону полковника, что попала в неурочный час, Нина Степановна лаконично передала рассказ хлопкороба из Таджикистана. Сангин приехал в Одессу купить машину. Естественно, несколько дней крутился около магазина, кое с кем познакомился, и вот однажды к нему подошел солидный мужчина и, представившись ученым, который якобы три года проплавал на научно-исследовательском судне, предложил Сангину сделку: он продает ему инвалютные рубли и доверенность на «Волгу», по которой будто бы уже подходит очередь, а Сангин переплачивает ему за это три тысячи. Сангин, конечно, с радостью согласился. На следующий день «ученый» и его товарищ приехали в гостиницу «Спартак», где Сангин остановился в отдельном номере, отсчитали ему положенное, выдали «доверенность», получили деньги от Сангина и, достав бутылку коньяка, предложили обмыть сделку. Когда «продавцы» ушли, Сангин полез в чемодан, чтобы еще раз посмотреть на свое богатство. Открыл, а там вместо инрублей — пачка разлинованной бумаги. — Лихо! — хмыкнул полковник. — Но должен вам, уважаемая Нина Степановна, с радостью доложить, что «куклами» занимается уголовный розыск. Им и передайте это дело. Нам же с вами предстоит другая забота. — Я это прекрасно знаю, Артем Осипович, и уже направила Сангина к капитану Мещерко, но это не все. Сангин показал еще одного дельца, который предложил купить у него три японские магнитолы. Деляга этот работает продавцом в «Березке», по описанию похож на Книжника, то бишь на Корякина Александра Васильевича. — Он что, проходил у нас? — Не совсем так. Его дважды задерживали дружинники за спекуляцию книгами, и вот во второй раз при досмотре у него было обнаружено немного «компота»: доллары, франки, западногерманские марки. Тогда он смог выкрутиться, объяснив, что увлекается нумизматикой, а найденная у него валюта — обменный фонд. — Что же это, прости меня господи, за дурак такой, что повсюду таскает с собой валюту? — Вот в райотделе на это и купились. Короче говоря, упустили тогда этого Корякина. Затем еще дважды он попадал в поле зрения милиции, но все по мелочи. Сейчас же с Сангиным он, очевидно, решил действовать более крупно. Полагаю необходимым пресечь его деятельность. — Ну что же, я не возражаю. — Ермилов замолчал, тяжело облокотился грудью о край стола, пододвинул к себе синюю тоненькую папку, сказал с хрипотцой в голосе: — Однако материал по нему передадите старшему лейтенанту Пашко, а сами займетесь вот этим. Он достал из папки несколько густо испечатанных страничек, положил их перед Гридуновой. — Это касается контрабанды, что была обнаружена на «Крыме». Так вот, на наш запрос Москва сообщила, что золото, найденное в лючке штурманской рубки, по процентному содержанию и химическому составу аналогично золоту, купленному батумским зубным техником Мдивани у бармена с «Советской Прибалтики» Приходько. — Да, но ведь контрабанда не наша компетенция, — попыталась возразить Гридунова, подспудно чувствуя, как безвозвратно уплывает мечта об отпуске. — Не торопитесь, — остановил ее полковник. — Сейчас все объясню. — Он взял из папки лист бумаги, испещренный телетайпными знаками, протянул его Гридуновой. — Ознакомьтесь и давайте подумаем: что это — случайное совпадение или продолжение одной цепочки? Нина Степановна взяла сообщение, пробежала его глазами. «…всем начальникам гор(рай)органов внутренних дел. Объявляется розыск бежавшего из колонии строгого режима особо опасного преступника Валентина Евгеньевича Приходько, кличка Монгол, 1950 года рождения, осужденного по статье… пункт… УК Украинской ССР на срок 12 лет. Преступник вооружен холодным оружием. При задержании соблюдать осторожность. Возможное направление движения — Одесса, а также портовые города. Приметы: рост 180 см, волосы черные, короткие, нос прямой…» Нина Степановна читала, а перед глазами, будто наяву, стоял красивый, статный Монгол — Валентин Приходько — ее «крестничек», которого она задержала два года назад. Значит, права она была тогда, убеждая следователя прокуратуры выделить дело Монгола в отдельное производство. Она чувствовала, что за Приходько стоит кто-то более сильный. Но уж слишком зыбкими были ее аргументы. И вот на тебе — опять золото и этот побег. Гридунова дочитала сообщение до конца, положила его на стол, сказала с болью в голосе: — Поторопились мы тогда взять Монгола, Артем Осипович. Не выявили его связей, вот и уплыла от нас та блондинка, о которой говорил Мдивани. — Возможно, — согласился полковник. — Однако не одни мы виноваты в этом. — Оно конечно, — кивнула Гридунова, — однако ошибку-то исправлять нам. — Она замолчала, покусывая губы, затем спросила: — А как насчет золота? — Решено оставить в тайнике до появления хозяина.III
Нервное напряжение наконец-то отпустило, и Монгол впервые заснул. Потом он пытался вспомнить, что же ему снилось в первую ночь на свободе, но так и не смог. Проснулся от прикосновения к плечу и радостного баритона начальника отряда, старшего лейтенанта Васильева: «Ну что, осужденный Приходько, добегался? Думал, не поймаем?..» Монгол вскочил с широкой, накрытой плюшевым покрывалом кровати, ошалело оглянулся вокруг, дрожащей рукой вытер со лба выступившую холодную испарину. Словно сумасшедшее, глухо стучало сердце. Приходько еще раз оглянулся, убеждаясь, что весь этот кошмар всего лишь сон, криво ухмыльнулся, представив, как прочесывают сейчас все потаенные места солдаты с красными погонами на плечах, как мечется начальник оперативного отдела, вызывая к себе в кабинет его корешей по отряду. «Ищите, ищите», — подумал Приходько и встрепенулся от звука собственного голоса. Усмехнулся, но все же с опаской покрутил головой: нет ли кого вокруг? Но дача Лисицкой, куда он тайком пробрался ночью, была все так же пуста, закрытые наглухо окна почти не пропускали воздуха, и от этого в комнате стояла тяжелая, спертая духота. И все-таки, несмотря ни на что, здесь было гораздо лучше, чем в пропахших столярным клеем мастерских или на бетономешалке, где он успел понабраться опыта за эти два года, набить поначалу кровавые, а потом и широкие, жесткие, бугристые мозоли. Осторожно, так, чтобы его не увидели в окнах, которые выходили на улицу, Монгол прошмыгнул к холодильнику, достал трехлитровую банку остуженной воды. Единым махом выпил полбанки, вздохнул облегченно, долил в нее из-под крана, поставил обратно, включив морозилку на максимум. Теперь страшно захотелось есть. Он прошел на кухню, открыл дверцу шкафчика, где Ирина обычно хранила продукты. Накаляясь злобой, в который уже раз оглядел пустые, аккуратно протертые полки. — Чистюля хренова! — Он сплюнул на пол, смачно выругался и, сглотнув слюну, тяжело плюхнулся на жалобно заскрипевшую под ним кровать. Хотелось отключиться от всего этого враждебного, чуждого ему мира и не думать, не думать ни о чем. Но думать надо было. Надо было обдумать свое настоящее положение, как следует осмыслить предстоящий разговор с Лисицкой… Монгол закинул руки за голову, закрыл глаза, и сразу же, словно в калейдоскопе, замелькала мозаика знакомых лиц. И вдруг, будто цветущий оазис в этом хаосе прошлого, в памяти четко вырисовался затемненный, огромной подковой вогнутый зал бара, разноцветный палас на полу, крутящиеся модерновые кресла, цветастое мозаичное панно вдоль стен, длинная стойка — и он, словно царь и хозяин всего этого богатства. Ему нравилось плавать барменом на «Советской Прибалтике». Нравилась униформа, он любил ловить восхищенные взгляды молоденьких, а то и не молоденьких пассажирок, когда легко и ловко крутил коктейли. И вдруг все это оборвалось. Сразу. В один момент. Его взяли на второй день после возвращения судна из очередного круизного рейса. Позади остался таможенный досмотр, пограничный контроль, и он, успокоенный, достал из тайника три пары джинсовых костюмов, рулон парчи, кинул все это в объемистую сумку, которую для отвода глаз постоянно таскал с собой, если даже там ничего не было, и уже сошел с трапа, небрежно кинув вахтенному свое «адью», как вдруг… Дальше начинался кошмарный сон. К нему подошли двое мужчин в штатском и женщина лет сорока, быстро предъявили красные книжицы (от нахлынувшего страха он даже не мог прочесть, что в них написано), обессиленного, едва державшегося на подкашивающихся ногах, втолкнули в черную «Волгу». Уже в кабинете следователя он начал понемногу приходить в себя, осмысливать вопросы, а когда следователь спросил его про золото, которое было продано батумцу, он вдруг ясно и отчетливо понял, в какой переплет попал, и от этого озарения как-то сразу сжался, перестал отвечать. В камере, куда конвоир привел Монгола, было до жути одиноко, и если бы у Приходько имелась хоть какая-нибудь возможность повеситься, он, не задумываясь, сделал бы это. Первой его мыслью было рассказать всю правду и хоть как-то выпутаться самому, в надежде получить срок только за ту партию контрабандного товара, с которым его взяли, но, поразмыслив как следует, понял, что от золота ему не отвертеться. В торге, который велся с Мдивани, Монгол, войдя по дурости в роль и желая лишний раз покрасоваться, все время повторял, что это ЕГО золото. Попробуй теперь доказать, что это не так. Сначала он почти выл от своего бессилия, но вскоре пришел в себя, поняв, что можно потом получить колоссальные деньги, если решиться взять всю вину на себя, умолчать кое про кого, а потом, отсидев свое, потребовать должок сполна. «Ну и что? Дадут года два-три, но зато в богатстве купаться буду», — рассуждал он. Однако, когда судья огласил приговор «…двенадцать лет лишения свободы, из них восемь лет строгого режима…», он, еще даже не зная, что такое «строгий режим», понял, в какой капкан загнал себя, и от этого едва не заплакал, без сил опускаясь на дубовую скамью. Находясь в полусознательном состоянии, он почти не слышал, о чем говорил адвокат. Очнулся как следует лишь в колонии, куда его доставили с новой партией заключенных. Правда, это был уже не тот Валя Приходько, изнеженный и холеный, строго следящий за своими ногтями и прической, баловень одесских любительниц итальянской жвачки и греческих цветастых платков, которыми он их снабжал в неограниченном количестве. Это был Монгол, получивший свою кличку даже не за слегка раскосые глаза, а за то, что в нем проснулся какой-то отдаленный предок, хитрый и жестокий. Он потянулся, открыл глаза, хмыкнул, представив себя в жарком Палермо на Сицилии или в Пирее. Нужны были хорошие деньги, и поэтому главное сейчас — основательно тряхнуть Ирину. А то, что у нее деньжат прибавилось, в этом Монгол не сомневался. Колька Парфенов, который терся около Ирины, как-то писал ему, что она все так же плавает на «Крыме» директором ресторана и почти не вылезает из средиземноморских рейсов. Ну а что она своего не упустит — в этом Монгол был уверен на все сто. За окнами незаметно наступили сумерки. Уже не опасаясь, что его могут заметить с улицы, Монгол легко спрыгнул с опостылевшей за день кровати, умылся, причесал короткие мокрые волосы на пробор. Вот только бы еще побриться — и никакая милиция не узнает. Но бриться было нечем, и он, расчесывая бороду, решил переждать еще немного, чтобы уже наверняка добраться до квартиры Лисицкой. «Крым» стоял в порту — об этом он узнал еще прошлой ночью у пьяного мужика, которого встретил на пустынной ночной улице, когда пробирался к дачному массиву. Он тогда же хотел было свернуть к дому, где жила Ирина, но в последний момент чего-то испугался. Решил день отлежаться, привести себя в порядок. За окном потемнело окончательно, и только редкие фонари высвечивали бьющихся о них ночных бабочек. Монгол тщательно зашнуровал туфли, сунул под ремень самодельную финку, которую достал еще в колонии, тихо вышел из дома и, озираясь по сторонам, свернул с наезженной дороги в безлюдный проулок. Жаркий душный день перешел в теплую, без малейшего дуновения, звездную ночь, и даже луна, словно сморенная, тусклым полукругом висела у самой кромки темного, сливающегося с чернотой ночи моря. Совсем рядом, за полосой дачных построек, прогремел трамвай. Монгол остановился, раздумывая, стоит ли идти пешком, но решил не испытывать судьбу и зашагал вдоль кромки ленивого, без единого всплеска моря. Квартира Лисицкой находилась в новом жилмассиве, который вытянулся вдоль берега моря, в стороне от городского центра. Почти не встречая прохожих, совершенно успокоенный, Монгол добрался до дома, где жила Ирина, и вдруг почувствовал, что не сможет вот так же спокойно войти к ней. Опять, как в дачной духоте, забилось сердце. Он остановился, не дойдя до нужного подъезда метров десять, облизнул ссохшиеся губы. Страшно захотелось пить, и он с какой-то жгучей тоской вспомнил об оставленной в холодильнике банке с водой. От этого стало еще хуже, в груди тяжелой волной разлилась злоба на себя, Ирину, он выругался сквозь зубы и решительно толкнул входную дверь. Лифта внизу не было, и он, чувствуя, что не в силах ждать его, стремительно взбежал на третий этаж, остановился около обитой коричневым дерматином двери с маленьким отверстием для глазка. Широко раздувая ноздри, почти со свистом втянул в себя воздух, выдохнул и едва коснулся пальцем кнопки звонка…IV
Вот уже вторую педелю в Одессе стояла дикая, изнуряющая жара. Пожухли тяжелые кроны платанов, завяли листья белой акации и сникли даже привычные к южному солнцу каштаны. Нина Степановна Гридунова, прячась в тени деревьев, медленно шла по безлюдному Приморскому бульвару и пыталась сопоставить два события: контрабанда на «Крыме» и побег Монгола из колонии. Валентин Приходько, который плавал барменом на пассажирском суперлайнере «Советская Прибалтика», совершавшем круизные рейсы по Средиземному морю, попался два года назад на перепродаже золота. Правда, попался не он сам, а зубной техник из Батуми Шота Мдивани, который и указал на него как на одного из поставщиков «левого» золота. Из показаний Мдивани довольно-таки ясно следовало: за Монголом стоял еще кто-то, на кого он работал. Однако Приходько причастность еще кого-либо к этому делу категорически отрицал, заявляя, что золото приобретено им лично, а та блондинка, что сидела с ним в ресторане, — случайная батумская знакомая и адреса ее он не знает. Эта легенда была шита белыми нитками. Нина Степановна выявила всех блондинистых подруг и подружек Валентина Приходько, их фотографии представили на опознание Мдивани, но… посетительницы ресторана «Аджарети» среди них не оказалось. Раздумывая обо всем этом, Гридунова незаметно для себя прошла тенистый, засаженный огромными платанами Приморский бульвар и вышла к памятнику Ришелье. Как и все одесситы, она любила это место. Отсюда от края до края виден порт, к причалам которого прижались огромные суда, а над ними, словно вытянутые шеи гигантских жирафов, простерлись стальные стрелы кранов. Нина Степановна постояла под платаном, не решаясь шагнуть на раскаленную лестницу, каскадами спускавшуюся к пассажирскому порту. Обычно многолюдная, сейчас она была пустынна. Нина Степановна, решившись, почти пробежала лестницу, по инерции проскочила дорогу и, уже взойдя на виадук, который вел к пассажирскому пирсу, остановилась, пытаясь отдышаться. Внизу прогрохотал тепловоз, подталкивая товарные вагоны к раскрытому настежь зеву объемистого трюма «Академика Туполева». Рядом, ошвартованный к причальной стенке толстенными капроновыми канатами, неподвижный, как огромный сухогруз, «Николай Полетаев». На акватории порта, словно муравьи, сновали пассажирские трамвайчики, черные, обвешанные резиновыми кранцами буксиры. Рядом со всем этим гомонящим, снующим, лязгающим портовым миром, даже не прикасающийся белоснежным бортом к пирсу, словно опасающийся испачкаться, стоял красавец «Крым». Его выскобленные, ухоженные палубы поражали чистотой и великолепием. На шлюпбалках покоились объемистые шлюпки, обведенные красной полосой по ватерлинии. Всю эту красоту дополняли разноцветные флажки, поднятые на высоту топовых огней. И не хотелось верить, что при такой красоте кем-то могут твориться черные дела. Когда лаборатория дала точный анализ контрабандного золота и Москва выявила его аналогичность с теми слитками, что были куплены зубным техником из Батуми, в областном управлении внутренних дел облегченно вздохнули: вроде бы наконец-то обнаружился затерявшийся след, который вел к компаньону Монгола. Вариант мог быть единственным: «хозяин», почуяв неладное, перешел с «Советской Прибалтики» на «Крым». Оперативники уже потирали руки в предвкушении такой удачи, как вдруг… Отдел кадров пароходства в затребованной справке сообщил, что за последние два года ни единого перехода с «Советской Прибалтики» на «Крым» отмечено не было. Нина Степановна подошла к трапу, окликнула задремавшего было вахтенного. Тот встрепенулся, нехотя подошел к Гридуновой: — Я вас слушаю. — Мне бы товарища Федотова повидать. Вахтенный, каким-то образом почуяв перед собой начальство, одернул рубашку, подтянулся, сказал уже иным тоном: — Как о вас доложить? — Скажите, что Гридунова ждет. Он в курсе. Разговор с Федотовым обещал быть трудным и неприятным — предстояло бросить тень на людей, точнее, на конкретного, может быть, и ни в чем не повинного человека. — Вилен Александрович, простите, что потревожила вас, но мы вынуждены обратиться к вам за помощью… — Она замялась, заготовленные было слова вылетели из головы. — Слушаю вас, — подчеркнуто сухо сказал Федотов и, открыв дверь своей каюты, пригласил: — Проходите, пожалуйста. Кофе, воды? — спросил он, когда Нина Степановна села в глубокое, удобное кресло. — Если можно, воды. Что-то душно очень, — словно оправдываясь, сказала она и тут же спросила: — Вилен Александрович, хотелось бы навести справки об одной вашей работнице. Вы хорошо знаете Лисицкую? — Ирину Михайловну?! — Федотов удивленно поднял брови, вопросительно посмотрел на Гридунову. — Хорошо — это не то слово. Она уже несколько лет плавает у нас директором ресторана и за все это время не имела по работе ни одного нарекания. А что? У вас есть… — Он не докончил фразы и сел напротив Гридуновой. — Нет, нет, упаси бог! — всплеснула руками Нина Степановна. — Просто… Буду с вами откровенна, Вилен Александрович, и надеюсь на вашу помощь. — Она отпила глоток воды, сказала полувопросительно: — По всей вероятности, вы слышали, как два года назад был осужден за валютную операцию бармен «Советской Прибалтики» Валентин Приходько? — Слышал что-то. — Так вот, он был арестован за перепродажу крупной партии золота, и, как показал лабораторный анализ, оно по своему процентному и химическому содержанию совершенно аналогично контрабандному золоту, которое кто-то пытался провезти на вашем судне. — Ну и что? — пожал плечами Федотов. — «Крым» и «Прибалтика» при круизных рейсах заходят в одни и те же порты. — Значит, не исключено, что обе партии золота куплены у какого-то одного лица? — Не знаю. — Два года назад, когда мы выявили все возможные связи Приходько, то оказалось, что его близкой знакомой была и Лисицкая Ирина Михайловна. Теперь вы понимаете наш интерес к ней? — Что вы хотите этим сказать? — вскинулся Федотов. — Ирина Михайловна — прекрасный работник! А знакомые?.. Мы же в одном порту работаем. Гридунова, ожидавшая такой реакции, сказала как можно мягче: — Вилен Александрович, вы поймите и нас правильно. Мы не хотим бросать тень на невинного человека, но и не имеем права сидеть сложа руки, когда под носом ходит матерый преступник. А теперь давайте забудем этот разговор и перейдем к главному. Хозяин контрабандного золота до сих пор не объявился, хотя судно и прошло давным-давно таможенный досмотр. Что из этого следует? Как я думаю, возможны два варианта: первый — этот некто каким-то образом обнаружил, что тайник раскрыт; второй — доставать сейчас золото рано, и он ждет удобного момента. Вот почему завтра мы пришлем к вам опергруппу, которая будет находиться на судне во время рейса. На случай вскрытия лючка. В вашу каюту, как и в каюту группы, подведут сигнал, который сработает, как только этот некто попытается проникнуть в тайник. Просьба самостоятельных расследований до поимки преступника не предпринимать. Если же узнаете что-либо новое, срочно сообщите нашим товарищам. Старшим опергруппы будет капитан Воробьев.…Когда Гридунова вернулась в управление, то увидела на столе записку, написанную рукой Пашко: «Н. С. Срочно зайдите к генералу. Ермилов уже там. Я работаю по Корякину. Саша». В просторной приемной секретарши не было, и Нина Степановна, одернув платье как форму, открыла дверь кабинета. — Разрешите, товарищ генерал? — Пожалуйста, проходите. — Моложавый, порывистый в движениях, генерал, кивнув на полукресло, в котором сидел незнакомый мужчина в штатском, сказал: — Познакомьтесь. Майор Никитин. Прибыл из Москвы в связи с обнаруженной контрабандой. Никитин встал навстречу, поздоровался крепким рукопожатием и, когда Гридунова села рядом с полковником Ермиловым, повернулся к генералу. — Если позволите, я вкратце повторю Нине Степановне то, что уже докладывал вам. — Да, пожалуйста. — Так вот. Недавно нашими товарищами, — негромко заговорил майор, — задержаны в Москве лица, занимающиеся скупкой и перепродажей царских монет, валюты, а также раритетов. Двое на следствии показали, что несколько месяцев назад одному из них, а именно Золотареву Борису Яковлевичу, позвонила неизвестная дама и предложила встретиться по интересующему его вопросу в каком-либо ресторане. Он поначалу отказался, но женщина позвонила на следующий день и предложила то же самое. После некоторого раздумья Золотарев согласился, однако сразу оговорил условие, что придет не один. Женщина сказала «ладно». Тогда он спросил, как узнать ее, на что она ответила, чтобы это его не волновало, пусть он заранее придет в ресторан и закажет столик. Встреча состоялась. По описанию Золотарева это была стройная красивая блондинка чуть старше тридцати лет. — С ума сойти! Неужели та самая?! — не удержалась Нина Степановна. — Она, — поняв, о ком спросила Гридунова, кивнул Никитин. — По крайней мере Мдивани опознал на фотороботе, составленном по описанию Золотарева, ту женщину, которая была в ресторане с Приходько. Так вот, — продолжил он, — эта блондинка, кстати, у столичных дельцов-валютчиков она проходит под кличкой Акула, предложила Золотареву крупную партию золота. Тот, естественно, не поверил. Тогда она в качестве визитной карточки продала ему золотую пластину, и тогда пошел торг. Акула особо интересовалась дорогостоящими раритетами, которые имеют высокое хождение на международном рынке. — Никитин замолчал, сцепил пальцы, хрустнул ими, затем добавил: — Купленную золотую пластину Золотарев не успел реализовать, ее изъяли при аресте. Она оказалась аналогичной тем, что были конфискованы у Мдивани. И вот теперь это золото на «Крыме»… Кстати, товарищ полковник, кто из команды знает о нем? — повернулся Никитин к Ермилову. — Капитан, помполит, электромеханик, который обнаружил тайник, и второй помощник капитана. — Надеюсь, утечки информации нет? — Все четверо — люди надежные. — Хорошо, — согласно кивнул Никитин. — А кто занимается служебным расследованием? — Первый помощник капитана Федотов. Проверенный человек, старый моряк, бывший комсомольский работник. — Он ориентирован, на что именно надо делать упор в служебном расследовании? Я имею в виду также тех членов команды, которые имеют машины, — повернулся к Гридуновой Никитин. — Да. — Ну и что он думает по этому поводу? — Никто из них, по его убеждению, не мог спрятать контрабанду, — жестко ответила Нина Степановна, и в глазах ее вспыхнул упрямый огонек. — И должна вам сказать, что я вполне разделяю это мнение. — Простите, у вас что… муж тоже моряк? — усмехнулся Никитин. — Да. А что? — Слишком прослеживается ваша предвзятость. Мы же пока что располагаем фактами и только фактами, которые говорят далеко не в их пользу. — Никитин помолчал, устало потер лоб, добавил спокойнее: — Однако простите меня, Нина Степановна, за резкость. Может быть, я действительно не прав. Дай-то бог. Генерал, молча слушавший спор, поднялся из-за стола, прошел к окну, посмотрел на резвящихся воробьев, затем вернулся к столу, взял синюю папку с делом, задумчиво постучал ребром, сказал, словно сам с собой делясь мыслями: — Эти свечи зажигания, обнаруженные вместе с золотом. Разве станет опытный контрабандист так явно наводить на себя, если у него, конечно, есть машина? Ведь он же вполне допускает хотя бы минимальную возможность обнаружения контрабанды при таможенном досмотре. Никитин пожал плечами, кивнул: — Согласен. — Значит, могут быть еще два варианта, — продолжал все так же размеренно говорить генерал. — Первый: у преступника есть знакомый, который просил достать ему свечи. Мы эту возможность учли и сейчас устанавливаем владельцев машин, которые как-то связаны с командой «Крыма». И второй вариант: преступник допускает возможность обнаружения контрабанды и сразу же дает следствию ложный ход. — Логично, — раздумчиво сказал Никитин, — но, насколько я знаю, допуск в штурманскую рубку дозволен определенному кругу лиц. — Он вопросительно посмотрел на Гридунову. — Да, это так, — согласно кивнула Нина Степановна. — И именно они-то и имеют машины… — В том-то и дело, — сказал полковник. — Слишком все явно и открыто. К тому же, если кому из экипажа очень захочется инкогнито попасть в штурманскую рубку, это будет не так уж трудно сделать. На стоянках она практически не закрывается. — И все-таки, — упрямо сказал Никитин, — судя по всему, раскладка в группе несложная: кто-то, имеющий доступ в загранпорты, доставляет в Одессу контрабанду, а Акула распихивает ее по внутреннему черному рынку, скупая при этом раритеты для переправки их за границу. Правда, мы еще не знаем весь объем их махинаций. Однако имеются сведения, что у одного из любителей-коллекционеров неизвестной блондинкой закуплена панагия — знамение божьей матери, — имеющая историческую ценность. Вполне возможно, что это дело рук все той же Акулы. — А не может она сама находиться на «Крыме»? — спросил генерал. — Не думаю, — пожал плечами Ермилов. — Сейчас есть возможность проверить по фотороботу, но… — Он опять пожал плечами. — Почему? — Не вяжется линия Акула — Приходько. Ведь Монгол во время ареста плавал на «Советской Прибалтике», торг с Мдивани шел в «Батуми», а «Крым», по данным пароходства, в ту пору стоял в Одессе. Так что… Кстати, Нина Степановна, сколько женщин в экипаже «Крыма»? — По судовой роли сорок шесть. Шестнадцать классных номерных, две уборщицы, семь поварих, семь работниц кухни, восемь официанток, две киоскерши и четыре буфетчицы. — А сколько из них блондинок в возрасте тридцати — тридцати пяти лет? — Семнадцать. — М-да, — задумчиво протянул Никитин и повернулся к генералу: — Разрешите доложить по следующему вопросу? — Да. Пожалуйста. Никитин раскрыл черный, с блестящей окантовкой «дипломат», достал из него папки с бумагами, разложил их перед собой. — По полученным сведениям, бежавший из колонии Валентин Приходько неоднократно хвастался, что не намерен «тянуть весь срок», что ему только бы удалось бежать, а там уж у него деньги будут — Одесса, мол, слишком иного ему задолжала. — Значит, вы считаете, что этот побег был заранее оговорен с кем-то и золото предназначается для Монгола как откупное за молчание? — Не исключен и такой вариант, товарищ генерал. Думается, надо учитывать эту возможность, а также то, что Приходько должен появиться в Одессе.Когда он будет обнаружен, рекомендую его сразу не брать, а установить за ним круглосуточное наблюдение и постараться выявить все его связи. Батумские товарищи также предупреждены.
V
Еще днем Ирина Михайловна Лисицкая почувствовала какой-то неприятный осадок на душе, гнетущее состояние. И от этого злилась, накаляясь злобой, работа не ладилась. Пытаясь хоть на ком-то сорвать злость, она ни за что ни про что накричала на новенькую официантку, но от этого легче не стало, и Ирина Михайловна, устав от непонятного тяжелого предчувствия, которое свинцовой тяжестью навалилось на нее, ушла к себе в каюту, закрылась на ключ, достала из холодильника бутылку «Наполеона», налила полную рюмку и одним махом, не закусывая, выпила. Коньяк обжег горло, по телу разлилась теплота, хмель ударил в голову. Ирина Михайловна налила еще одну рюмку и, не выпуская ее из рук, села в глубокое, удобное кресло. Уже в который раз она пыталась хорошенько обдумать создавшееся положение, чтобы, упаси бог, самой не прогореть и как-то половчее сплавить проклятые золотые царские десятки, на поверку оказавшиеся фальшивыми. Проба только по верхнему слою оказалась 958-й, а начинка… Лучше не вспоминать — начинка и на 375-ю не вытягивала. Эту партию якобы царских золотых рублей Лисицкая купила по рекомендации шипшландера,[1] которого знала не один год и которому доверяла. Правда, ей не понравился сам продавец — верткий человечек лет сорока, поначалу загнувший такую сумму, что она даже повернулась, чтобы уйти. Однако продавец схватил ее за руку, залепетал что-то быстро, и шипшландер перевел, что тот просит прощения, что у него много детей, все хотят есть и что-то еще, еще и еще… Сошлись на 70 процентах цены, поначалу названной этим человечком. Партия десятирублевок была большой, и Ирина Михайловна уже подсчитывала барыш, что получит от перепродажи золота барыге Арону Марковичу Часовщикову. Прозрение наступило дома, в Одессе, когда Ирина Михайловна, все же опасаясь подвоха, надвое разрубила одну из десятирублевок… Вначале ей хотелось зареветь — в эту партию фальшивых монет была вложена большая часть ее состояния, — но она только застонала, скрипнув зубами, и швырнула на стол обе половинки. Прибежала мать из кухни, скосив глаза на груду монет, спросила испуганно: — Ты чего, Ирина? — Пошла ты!.. Софья Яновна взяла одну половинку, повертела в руках, разглядывая, и вдруг ее узенькое, лисье личико скривилось, и она заголосила дурным, визгливым голосом. — Заткнись, дура! — прикрикнула на нее дочь, рванула из рук матери обрубок фальшивой царской десятки и почти вытолкала ее из комнаты. Затем спрятала монеты в тайник, бросив туда же и эти две половинки. А на следующий день, зная, что «Крым» вернулся в Одессу, Лисицкой позвонил Часовщиков. Ирина Михайловна, успевшая за ночь наглотаться успокоительных пилюль, решила не спешить с перепродажей: терять столь выгодного перекупщика, за плечами которого к тому же неизвестно кто стоял, было рискованно и она ответила, что товара нет, придется обождать. Затем прошел еще рейс, потом еще, а она все говорила Часовщикову «нет», где-то в глубине души надеясь, что сможет всучить эту партию фальшивок какому-нибудь лопуху в другом городе. Она ломала голову над различными вариантами, но ничего подходящего за это время не придумала. Требовался надежный помощник вроде Монгола. Правда, теперь у нее был еще один «Монгол» — сорокалетний мальчик на побегушках Эдуард Рыбник, однако для этой цели он не годился. «Ах, Валя, Валя, мальчик-глупышок». — Ирина Михайловна усмехнулась, вспомнив Приходько. Отхлебнув глоток согретого в ладонях коньяка, она лениво потянулась к кондиционеру, нажала блестящую кнопку. Накопившаяся за день духота начала быстро рассасываться, и в каюте посвежело. Ирина Михайловна поудобней вытянулась в кресле, закрыла глаза. «Что-то расчувствовалась, старая, — усмехнулась она про себя. — Видно, он тоже вспоминает. Вспоминай, вспоминай, милок. В старых дам влюбляться не надо». В дверь каюты постучали. Лисицкая недовольно поморщилась, лениво поднялась с кресла, поставила коньяк в холодильник и только после этого щелкнула замком, открывая дверь. На пороге, расцветая неотразимой для буфетчиц, поварих, официанток, а также незамужних пассажирок улыбкой, стоял Вася Жмых, саксофонист, проходящий по судовой роли как «Василий Митрофанович Жмых, артист оркестра, 36 лет, беспартийный». — Ну, чего надо? — Иришка-а, — Вася развел руками, — разве так настоящих друзей встречают? — Друг… — Лисицкая посторонилась, пропуская саксофониста в каюту. — Все вы друзья, когда самим чего надо. — Обижаешь, Ириша, — не обращая внимания на ее недовольство, вальяжно протянул Жмых. — Хоть, сегодня ради тебя на плаху лягу? А еще лучше — давай в кабак какой-нибудь завалимся. Угощаю. — Да иди ты… — Лисицкая уже перестала дуться на Васю, спросила более мягко: — Ну чего тебе? Саксофонист посерьезнел лицом, сказал, словно оправдываясь: — Понимаешь, Ирочка, друг тут один подвалил, корефан старый, хотели выпить, а магазин уже все, тю-тю. Не продашь пару бутылочек из личного запаса? — Вот хмырь болотный. Ему водка нужна, а сам такую антимонию завел… Когда довольный Вася Жмых ушел, Ирина Михайловна посмотрела на маленькие золотые часики, которые очень любила и не хотела менять ни на какую «Сейку», удивленно покачала головой — стрелки показывали начало одиннадцатого. Она засуетилась, прибрала волосы, проверила, заперт ли сейф, тщательно закрыла каюту и вышла на палубу. Домой приехала, когда уже совсем стемнело. Копейка в копейку рассчиталась с таксистом и, не обращая на его недовольство внимания, зашагала к себе в подъезд. Мать, неряшливая и неопрятная, с вечно распущенными космами седых волос, как всегда, сидела в кресле и смотрела телевизор, включив звук почти на полную мощность. Увидев вошедшую дочь, она хотела было встать, но потом раздумала и только махнула рукой, что означало: чайник, мол, на плите. Ирина Михайловна сбросила туфли, прошла на кухню. После коньяка страшно хотелось есть, и она загремела крышками кастрюль, пытаясь найти в них хоть что-нибудь горячее. Однако в доме ничего приготовлено не было. Пришлось довольствоваться сухой колбасой, огурцом да банкой шпрот, которую она нашла в холодильнике. Решила было достать припрятанную от матери бутылку коньяка, да раздумала — не хотелось напиваться на ночь. Затем вышла в комнату, спросила, не звонил ли Рыбник. Оказывается, не звонил. Она направилась было опять на кухню, где уже вовсю свистел носиком чайник, как вдруг раздался мелодичный звонок. Ирина Михайловна, даже не спросив, кто это, открыла дверь и застыла — на пороге стоял Монгол. — Ты? — даже не спросила, а скорее выдохнула она, не в силах сдвинуться с места. — Я! Должок-то помнишь? …Когда первое чувство страха прошло, Лисицкая поняла, что Монгола гнала сюда не месть, а жажда денег и что пока он их не получит, ей бояться нечего. Ее тонкое красивое лицо исказилось, и она вдруг закатилась в приступе истерического смеха. Ошалевший от такой реакции Приходько тряхнул Лисицкую за плечи, спросил испуганно: — Ты чего? Эй? И от этой его встряски приступ внезапно кончился, Лисицкая рванулась из рук Монгола, ловким движением рук поправила взлохмаченную прическу, спросила с издевкой: — И сколько же ты хочешь? Монгол ждал этого вопроса все те два года, что провел в заключении, и поэтому ответил не задумываясь: — Пятьдесят кусков. — Что-о-о? — поначалу даже не поняла Лисицкая. — Не будь дураком, дружок! Ты сам влип, навел на себя хвоста, а теперь хочешь ободрать меня как липку?! Не-ет, не выйдет. — И она погрозила холеным длинным пальцем перед его носом. Глаза Монгола сузились, начали наливаться кровью. Лисицкая поняла, что перегнула палку, сказала примирительно: — Ладно, ладно, успокойся, получишь свою долю. Но и ты будь благоразумен: где я тебе возьму столько денег? — Найдешь, — жестко сказал он и покосился на кухонную дверь. — Дай пожрать что-нибудь. Да и побриться, пожалуй, не мешало бы. Лисицкая впустила Приходько в ванную, дала ему бритвенный прибор, которым пользовался Рыбник, затем прошла в комнату и, сказав матери, что у нее гость, заперла дверь на ключ. Затем она пошла на кухню приготовить что-нибудь поесть, к тому же надо было как следует обдумать создавшееся положение. Ирина Михайловна чистила картошку, а в голове наслаивались, торопились мысли. Она еще не могла сказать ничего определенного, но кое-какие контуры уже обозначились в сознании, и это придало ей уверенность. Бросив нож в недочищенную картошку, она заметалась по кухне, затем села, вскочила опять, взяла с буфета карандаш, обрывок газеты, начала лихорадочно выводить цифры, выстраивая их в длинную колонку. Теперь она знала, что надо делать. Гладко выбритый, с мокрыми короткими волосами, расчесанными на пробор, появился Монгол. Лисицкая, успевшая успокоиться, критически оглядела его, сказала, удовлетворенная осмотром: — Ну вот, совсем как киногерой, хоть в ресторан с тобой иди. — Ходили уже, — буркнул Приходько, голодными глазами косясь на стол. — Ну, ну, кто старое помянет… — Ирина Михайловна из-за буфета достала бутылку коньяка, спросила с ехидцей: — Пить-то еще не бросил? — Отвык. — Ничего, скоро опять привыкнешь. — Она сковырнула фольгу с горлышка, разлила коньяк по рюмкам. — Ну, за твое возвращение. Распаренный и почти двое суток ничего не евший, Монгол почувствовал, как у него от одного только запаха коньяка закружилась голова. Хотел было отставить рюмку в сторону, но дикое желание выпить вдруг навалилось на него. Он зажмурился и одним глотком, даже не ощутив вкуса, выпил коньяк. И почти одновременно с этим почувствовал, как бешеной коловертью закружилась голова. Он ткнул вилкой в шпроты, потом в колбасу и начал пожирать все, что было на столе, запихивая в рот огромные куски хлеба. Наконец насытился, в голове начало проясняться, откуда-то издалека донесся голос Ирины: — Ты хоть бы рассказал, как бежать ухитрился. — А-а… — Он небрежно махнул рукой, потянулся к бутылке, разлил коньяк по рюмкам, быстро выпил свою, налил еще и, отяжелевший, размягший, потянулся за сигаретами. Ирина Михайловна еще не видела, чтобы так курили — с наслаждением, полузакрыв глаза. Она смотрела на сидевшего перед ней человека и не верила, что можно так сильно измениться за каких-то два года. В ее кухне сидел не прежний Валя Приходько, а совершенно чужой человек, готовый, наверное, на все. Где-то под сердцем опять начал разливаться страх. Наконец Монгол докурил сигарету, чисто автоматически посмотрел, не остался ли «бычок», потом, видимо вспомнив, что он не в зоне, рассмеялся хриплым, неестественным смехом, сунул окурок в хрустальную пепельницу. — Говоришь, как сбежал? Да очень просто. В контролерах там у нас один лопушок из новеньких ходил, так вот я и дождался, когда он у нашей столярки дежурил. Опилки и стружку мы вывозили за зону. Ну, ребята машину нагружать стали, я и нырнул под опилки. А потом уже дай бог ноги. В первом же поселке достал вот эту одежонку — и на железку… — И что… давно в Одессе? — пытаясь удержать неизвестно откуда появившуюся дрожь, спросила Лисицкая. — Вторую ночь. — А ночевал где? Монгол прищурился, отпил полрюмки коньяка, сказал, кривясь в усмешке: — У тебя на даче. — Что-о-о? — Лицо Ирины Михайловны вытянулось, глаза округлились, она привстала на стуле, и вдруг ее словно прорвало: — Да ты что, сдурел?! Ты же меня погубишь к чертовой матери! Но от этой ее вспышки Монгол стал еще спокойнее, только глаза нехорошо сузились. — Не боись, старая, — сказал он, хищно раздувая крылья ноздрей. — Только должен предупредить: можешь спать спокойно до тех пор, пока я на воле, зацапают — пощады не жди, заложу по всей форме. Так что, думаю, в твоих интересах дать мне надежную крышу. Он отпил глоток коньяка, затянулся второй сигаретой, сказал, выпуская клуб дыма: — Ну, дак что это мы обо мне да обо мне. Давай-ка ближе к делу. — У меня нет наличных денег. — Врешь! — Пойди проверь. Монгол изучающе посмотрел на Лисицкую, спокойно докурил сигарету, спросил, тяжело посмотрев ей в глаза: — Так как же мы разойдемся? Ирина Михайловна помолчала, обдумывая созревший план, докурила сигарету, сказала сквозь зубы: — Не волнуйся, свое получишь. — Но, но, — угрожающе процедил Монгол. — Монету получишь, — торопливо добавила Ирина Михайловна, пытаясь сгладить резкость. — Валюта? — Нет, рыжевье.[2] — Царские? — Да. Червонцы. — И сколько? — спросил Монгол подозрительно. — На многие лета безбедной жизни хватит. Услышав эти слова, Монгол облегченно вздохнул, расслабился, сказал на выдохе: — Заметано. Лисицкая, внимательно следившая за его реакцией, тоже облегченно вздохнула и, набирая тон хозяйки положения, добавила: — Однако рыжевье надо еще продать, и половина моя. — Лады, — почти не задумываясь, сказал Приходько и тут же спохватился: — А покупатель-то есть? — Есть. Но разговор будешь вести ты, якобы рыжевье твое. Я с ним никаких дел иметь не хочу, а тебе-то что… один черт в бегах. — Ирина Михайловна прикрыла глаза, чтобы не выдать радостного блеска — не так уж она много и потеряет на этом. — Лады-ы… — Монгол потер руки в предвкушении хорошего куша, согласно кивнул головой и вдруг спросил неожиданно робко: — А у тебя… остаться можно? — Нет, — словно отрезала Лисицкая. И уже мягче: — Нельзя тебе здесь оставаться, мало ли кто ко мне может прийти. — Потом, видимо, сжалившись над своим бывшим любовником, добавила: — Я сейчас вызову Кольку Парфенова с машиной, скажу, чтобы Лариску захватил и вас обоих ко мне на дачу отвез. — Это какую Лариску? — не понял Монгол. — Из парикмахерской? — Во-во, ее самую.Уже поздно ночью, оставшись одна, Ирина Михайловна позвонила Часовщикову. К телефону долго никто не подходил, наконец трубку сняли, послышался недовольный голос разбуженного среди ночи человека: — Кого еще надо? Лисицкая усмехнулась, представив заспанное, вечно недовольное, обрюзгшее лицо этого барыги, который наживал на скупке и перепродаже такие проценты, что… «Хоть бы жил по-человечески, а то ходит как последний одесский бич», — с ненавистью подумала она, но тут же взяла себя в руки, сказала, прикрывая трубку рукой: — Не узнаете, Арон Маркович? Часовщиков, поднаторевший на телефонных разговорах и имевший колоссальную память на голоса, тут же сориентировался, его дребезжащий дискант сменился бархатным баритоном: — Ирина Михайловна, голубушка? — Она самая. — Чем радовать будете? — Всплыл отличный товар. И тут же вопрос. Но в голосе уже не было той обволакивающей бархатности, а что-то хищническое, словно клекот орла-стервятника, донеслось из трубки: — Какой? — То, что вы просили. — Товар ваш? — Нет. Какую-то долю секунды трубка молчала, затем послышалось осторожное: — Человек надежный? — Вполне. На другом конце провода облегченно вздохнули и тут же с жадностью спросили: — Много? — Очень. — Прекрасно! Когда можно посмотреть товар? Лисицкая помолчала, обдумывая, на какое время лучше всего назначить встречу, сказала: — В девять вечера вас устроит? — Даже очень, — ответил Часовщиков и тут же добавил: — Надеюсь, дорогуша, вы пришлете за мной машину? Бедному и совсем старому Арону так трудно ездить на этих проклятых трамваях, а такси, сами знаете, обдерут как липку. — Пришлю, — нехотя согласилась Лисицкая, поражаясь жадности Часовщикова. «Идиот, для чего ему столько денег надо?» — подумала она и усмехнулась, представив себе это вечно обросшее седой щетиной, с обвислыми щеками лицо, когда вскроется вся эта многотысячная фальшивка. Главное, что она здесь ни при чем.
VI
Водитель объявил остановку, троллейбус замедлил ход, разморенные жарой пассажиры лениво поплелись к выходу. Взглянув на часы, вместе со всеми вышел и Пашко, до начала оперативки оставалось более часа, и Саша решил дойти до «Березки», где работал Корякин. Его поездка в Аркадию, где якобы раньше трудился Корякин, дала много ценного, и теперь ему хотелось в свободной обстановке посмотреть на парня и попытаться понять, что же толкнуло его в мир спекуляции и наживы. По всем данным было видно, что это не случайное падение — Александр Корякин шел к своей цели настойчиво и упрямо, опускаясь все ниже и ниже. В «Березке», как всегда, толкалось больше любопытных, чем покупателей. Корякин стоял за прилавком и тихо скучал, изредка позевывая в ладошку, ходового товара не было, и народ большей частью толпился у витрины с драгоценностями. Корякин профессиональным взглядом скользнул по Пашко, отвернулся, заскучав еще больше. «Ишь ты, физиономист белобрысый, — подумал Пашко. — А ведь по Ломброзо тебя можно было бы отнести и к интеллектуальным типам — удлиненный овал лица, высокий лоб, серые, широко поставленные глаза…» — Паслушай, дарагой. Не покупаешь, не мешай. — Высокий мужчина, зачехленный, несмотря на жару, в пиджак, уверенно отстранил Пашко в сторону и, улыбаясь как старому знакомому, подошел к Корякину. — Здравствуй, дарагой. Лицо продавца стало буквально на глазах меняться, пришли в движение лицевые мышцы, «хозяин» начал быстро превращаться в «приказчика». Чтобы не мешать им, Саша отошел в сторону, через головы еще раз посмотрел на Корякина и заторопился к выходу. После оперативного совещания, на котором был заслушан доклад Гридуновой о проверке блондинок, ранее замеченных в фарцовке и спекуляции, Пашко попросил Ермилова, чтобы тот принял его. Загруженный организацией работы по розыску Акулы, полковник нехотя согласился, пробурчав, что хватит, мол, хамсу да кильку ловить, пора и на более крупную рыбу выходить. Заложив руки за спину, Ермилов прошел к открытому настежь окну, спросил хмуро: — Ну что там у вас еще? Немного побаивающийся полковника, Саша посмотрел на его сутулую спину, неизвестно зачем откашлялся, раскрыл тоненький скоросшиватель с делом Корякина. — Я, товарищ полковник, убежден, что дома у этого дельца филиал «Березки». Но это еще не все. Уже сейчас его можно привлекать к уголовной ответственности за подделку государственных документов. Ермилов повернулся к лейтенанту, удивленно посмотрел на него. — Да, да, именно за подделку. Когда поступил сигнал от Сангина, мы решили запросить предыдущее место работы Корякина. Все-таки у парня в трудовой книжке две благодарности. Звоню в магазин, и тут вдруг оказывается, что он там никогда не работал. Книжка липовая, он воспользовался ею, чтобы устроиться в «Березку». — Та-ак… — Ермилов постучал пальцами по подоконнику, немного помолчал, затем сказал, четко отделяя слова: — И все же привлекать надо не за подлог документов, а за спекуляцию. Вы уверены, что сможете взять его с поличным? Пашко закрыл скоросшиватель, пожал плечами. — Думаю, да. Мы с Ниной Степановной уже обговорили кое-какие варианты…День был удачным. Вчера, уже перед самым закрытием магазина, позвонил тот самый таджик и сказал, что купит все, что предложил Корякин. Встречу назначили около гостиницы. В такси было уютно. Тихо пощелкивал счетчик, безмятежно отсчитывая километры, на заднем сиденье мягко покачивались три коробки с «товаром». У светофора таксист резко затормозил, и Корякин перегнулся назад, поддерживая сползающие коробки. Когда машина тронулась, быстро зыркнул на счетчик — 2 рубля 13 копеек. Невольно вздохнул — дороговато обходилась поездка. «Может, с этого таджика и за проезд содрать? — пронеслось в голове. — Да нет, черт с ним. С такого приварка можно и самому заплатить». Показалось старинное, еще дореволюционной постройки здание гостиницы. Корякин тронул таксиста за плечо. — Шеф, во-он там останови. Я выскочу, а ты меня обожди минутку. Пожилой шофер согласно кивнул головой, спросил: — Платить сейчас будешь или потом? — Конечно, потом. — Только в темпе давай. Мне план гнать надо. Едва Корякин вылез из машины, как Пашко сразу же увидел его. Окликнув двух парней из комсомольского оперативного отряда, которые наблюдали за стоянкой такси, он сделал знак милиционеру, глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, чтобы без промаха сыграть свою роль. Саша Пашко отвалился от стены и, пошатываясь, изображая пьяного, пошел наперерез Корякину. Вдруг он остановился, начал шарить по карманам. Ничего не найдя в них, потянулся рукой к поравнявшемуся с ним Корякину. — Слышь… Дай закурить. Корякин мимоходом глянул на пьяного парня в истрепанной рубашке, брезгливо поджал губы. — Не курю. — Э-это как не куришь? — удивился Пашко. — Нет, ты постой. — Да пошел ты… — Корякин, пытаясь вырваться из цепких пальцев лейтенанта, толкнул его в грудь. — Сволота! — Что-о? Ах ты… наших бить! Да я тебя… Кто-то из женщин крикнул: «В милицию их надо!», а сквозь сгустившуюся толпу уже продирался немолодой старшина с двумя дружинниками. Схватив за локоть Пашко и Корякина, он повел их к стоявшей за углом патрульной машине. — Что же вы неповинного человека забираете? — удивились в толпе. — В отделении разберемся, — отрезал старшина. — Да я-то при чем? — уперся Корякин. — Эта пьяная сволочь ни с того ни с сего прицепилась ко мне, а я-то при чем? — В отделении разберемся, — не сдавался старшина. — Не виноват, отпустим. А этому пятнадцать суток влепят. — Да не могу я с вами идти, у меня в такси вещи остались, — взмолился Корякин. — Как же я без вещей-то?.. Старшина остановился, спросил: — В которой машине? — Да вон она, «Волга». — Давай, давай, — по-пьяному бубнил Пашко. — В милиции ребята умные, там разберутся. А то… я у него закурить попросил, а он мне в морду. Вот, рубаху порвал. Водитель такси подтвердил, что три коробки на заднем сиденье действительно его пассажира, и согласился отвезти их в отделение милиции. Выстрел, как любил говорить Ермилов, попал в десятку. У Корякина в довершение к трем японским магнитолам оказалось сто американских долларов. Тремя часами позже был произведен обыск в его квартире и изъяты три ковра, чемодан с мохеровыми кофтами, девять джинсовых костюмов. Первый допрос Корякина вел следователь Василий Иванович Лукьянов. Немолодой уже, грузный, спокойно-вальяжный, он развалисто сидел на стуле и, как на душевнобольного, смотрел на Корякина, устало слушая его лепет. Объект для допроса был попросту неинтересен, и Василий Иванович только выжидал время, когда же он выдохнется и начнет говорить правду. Да еще жалел, что забыл купить сигареты утром. В кабинет заглянул молоденький лейтенант. Лукьянов быстро поднялся, махнул ему рукой: дай, мол, закурить. Взяв сигарету, он посмотрел на Корякина, затем попросил лейтенанта: — Дай еще одну. А то он тоже, поди, мучается. Когда за лейтенантом закрылась дверь, Лукьянов протянул сигарету задержанному. — Курите. Корякин дрожащими пальцами взял сигарету, едва слышно сказав «спасибо», прикурил от зажигалки. — Можно посмотреть? — спросил Лукьянов. — Ч-чего? — не понял Корякин. — Зажигалочку вашу. Василий Иванович осторожно взял зажигалку, повертел ее в своих толстых пальцах, сказал понимающе: — Хорошая вещь. Настоящий «портер»? Приободрившийся Корякин кивнул радостно. — Ага. Сороковку отдал. — Надо же, я больше вашего получаю, а вот позволить себе купить такую вещь не могу. Откуда доходы-то, Корякин? — Честное слово, я нашел эти доллары. — Не верю. Не верю, Александр. Всего лишь час я слушаю вас, а уже помереть от скуки можно. Ведь вы даже логично врать не можете. — Я правда их нашел. — Хорошо. А куда в таком случае везли магнитолы? — Показать товарищу. — Адрес товарища? Корякин стушевался, стал усиленно тереть лоб. — Ладно, и этого вы не помните. Тогда скажите мне вот что. — Лукьянов замолчал на какое-то время, затем спросил, четко разделяя слова: — Кто вам достал новую трудовую книжку и сделал в ней последнюю запись? — К-как?.. — Корякин сжался, словно от удара, затравленно посмотрел на следователя. Пролепетал едва слышно: — Она… она здесь ни при чем. Это девушка моя. Она в кадрах работает. — Хорошо, оставим пока эту тему, но если вы будете продолжать мне врать… Через кого вы купили магнитолы? — Через Марту. — Телефон? Корякин, пытаясь вспомнить, потер лоб, и было видно, как дрожат его руки. — Двадцать два… ноль три… сорок… кажется… — Он просительно посмотрел на Лукьянова. — Я-я забыл. Не помню. У меня он в записной книжке. — У кого купили доллары? — У девушки одной. Молоденькая такая. Мне ее Марта порекомендовала. — Интересно… — Василий Иванович внутренне подобрался, уже более заинтересованно взглянул на Корякина, сказал: — Вот что, Александр, давайте по порядку. Начинайте с Марты. — Ну, когда я в «Березку» устроился, то долго ничего не мог купить — валюта была нужна. А тут смотрю, женщина одна каждую неделю приходит и на сирты[3] дефицит скупает. Причем, видно, не для себя берет, один раз итальянских очков штук двадцать взяла. Ну я и познакомился с ней. Как раз магнитолы были, и я попросил се купить для меня одну. — Сколько переплатили? — По-божески. Правда, за это я обещал звонить ей, как только дефицит какой будет. Так и познакомились. Ну, прошло месяца два, наверное, и мне потребовалась валюта. Я спросил ее, не может ли она мне достать немного, но она сказала, что валюту не продает, однако у ней есть знакомая, которая может это сделать. Корякин замялся, по щеке его от виска скатилась капля пота. — Дальше. — Ну а потом мне позвонили. — Кто именно? — Женский голос. И сказали, чтобы я в девять вечера стоял около пешеходного моста, что соединяет Приморский бульвар с Комсомольским. Ну я пришел. Жду. Время полдесятого уже, а никого нет. Когда же я собрался уходить, то ко мне откуда-то сбоку подошли две женщины, поздоровались и сказали, что они от Марты. — Как их зовут? — Одну — Мила, а вторую — Надя. — Обрисуйте их, пожалуйста. — Ну Надя, пухленькая такая девчонка, симпатичная, лет двадцать пять. Блондинка. Знаете, такие нравятся мужчинам лет пятидесяти. Но… какая-то она искусственная, что ли. А вторая — Мила. Это интересная женщина лет сорока, может, чуть меньше. Черные волосы. Когда мы расставались, то Мила сказала, чтобы я записал Надин телефон, мол, потребуется валюта — звони. — Вы их встречали еще? — Нет. Правда, как-то позвонила Мила, спросила, не нужна ли валюта. Я отказался, уж очень дорого она заломила. — Когда состоялась ваша встреча? — В январе, кажется. — Опознать вы их могли бы? — Да, да, конечно, — обрадовался Корякин. — Номер телефона Нади?.. …Когда Корякина увели, Василий Иванович прочитал еще раз протокол допроса, задумчиво пососал свою пухлую губу, затем снял телефонную трубку, набрал номер. — Нина Степановна? Лукьянов беспокоит. Тут я сейчас вашего подопечного допрашивал, Корякина, так он назвал трех женщин, с которыми якобы вел валютные операции. Одна из них — блондинка. Не интересуетесь? В мембране зарокотало что-то, довольный Лукьянов благодушно ухмыльнулся, сказал барственно: — Тогда записывайте. Марта. По-видимому, спекулянтка. Была частой посетительницей валютного магазина, однако последние два месяца Корякин ее не видел. Теперь дальше. Некая блондинка Надя и интересная черноволосая женщина по имени Мила. В январе продали Корякину крупную партию валюты. Надин телефон…
Когда в мембране послышались короткие гудки отбоя, Гридунова аккуратно положила телефонную трубку на рычажки, повернулась к сидящему за соседним столом Пашко, сказала задумчиво: — Поздравляю, товарищ лейтенант. Лукьянов через твоего «крестника» вышел еще на двух женщин. Причем одна из них блондинка. Третью, Марту, я, кажется, знаю. Она проходила у нас. Однако мы вряд ли сможем воспользоваться ее помощью — девица выскочила замуж за иностранца и два месяца назад отбыла за границу. А вот блондинка Надя и некая Мила… По крайней мере я о таковых слышу впервые.
VII
Выспавшийся и хорошо отдохнувший, Приходько лежал на той же кровати, где провел прошедшие сутки, и думал об Ирине. Все-таки здорово умела она держать в руках своих шестерок, если даже когда-то строптивая Лариска-парикмахерша без звука приехала к нему и провела здесь всю ночь. Он потянулся сладко, рывком сбросил ноги с кровати, посидел немного, потом поднялся, прошел в другую комнату и, сдвинув палас в сторону, приподнял одну половицу. Воровато оглянувшись, вытащил из тайничка два тяжелых свертка, развернул цветастую тряпку. Тяжелые царские червонцы, сложенные в колбаску, распались, отваливаясь одна от другой, и с тихим звоном рассыпались по полу. Косые лучи заходящего солнца маслянистыми желтыми бликами заиграли на их поверхности, и от этого зрелища схватило дыхание, захотелось орать что-то несусветное, в необузданной радости кататься по полу. Эти червонцы Ирина привезла ему вместе с едой рано утром, и он, ошалевший от этого богатства, поначалу даже не поверил своим глазам, подивившись, с какой легкостью она оставила золото на даче, предупредив только, чтобы он не вздумал проболтаться покупателю, что рыжевье ее. Обалдевший от увиденного, он только кивал головой, прикидывая, как лучше смыться, чтобы оставить Ирину в дураках. Но потом, когда она ушла, раздумал, желая посмотреть покупателя. В голове начали зреть какие-то ходы, но все это крутилось сумасшедшей каруселью, и он, рассудив, что утро вечера мудренее, вернее, наоборот, решил дождаться торга. Багряные вечерние лучи солнца окрашивали комнату в какой-то жуткий фантастический цвет, когда за окнами послышался шум мотора, визг тормозов и он увидел входящих в калитку Парфенова и какого-то старика с желтым, ободранным портфелем в руках. «Неужели этот фофан жеваный?» — подумал он, лихорадочно натягивая брюки и застегивая рубашку. Тем временем Парфенов, по кличке Утюг, поднялся на крыльцо, стукнул костяшками пальцев по филенке, отбивая условленный знак. Монгол выждал для куражу ровно столько, чтобы барыга не возомнил о себе, дождался, когда Парфенов постучит еще раз, и только после этого открыл дверь. — Привет. Вот привез. — Длинный, словно коромысло, согнутый Парфенов кивнул до удивления маленькой головой на Часовщикова, подумал немного и добавил, непонятно, к кому обращаясь: — Вот этот самый. — Ну что ж, проходите, — посторонился в дверях Монгол, окидывая цепким взглядом пустынную улицу. Потом аккуратно прикрыл дверь, задвинул щеколду, прошел за гостями в комнату и только после этого представился: — Евгений Николаевич… — Очень и очень приятно, — как-то совсем по-стариковски прошамкал гость, в то же время совершенно нахально и очень уж цепко изучая Монгола. Наступила минутная пауза, после чего старик спросил: — Так вы сказали, что у вас есть товар? Монгол, готовившийся к совершенно другой встрече, даже растерялся от нахального, изучающего взгляда и вообще от всего вида этого неопрятного старика. — Деньги с собой? — сбрасывая с себя оцепенение, спросил он. Часовщиков, привыкший за свою долгую жизнь ко всякого рода нахалам, ухмыльнулся уголками рта, обнажая ровный ряд золотых зубов, сказал поучающе: — Где это вы видели, молодой человек, что на первое знакомство с деньгами ездили? Откуда я знаю, кто вы? А может, вы хотите ограбить старого Арона? — Будут деньги — будет рыжевье, — забубнил Монгол. — Послушайте… — возмутился старик. — Ладно, хрен с тобой, — махнул рукой Монгол и вышел в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Стараясь не скрипеть половицей, он достал один сверток, внес в комнату, тяжело положил упаковку на стол. Часовщиков, ожидая, когда Монгол развяжет узлы, терпеливо стоял в стороне, и только быстро бегающие глазки, которые словно рентгеном прощупывали сверток, выдавали нетерпеливое волнение. Наконец Монгол справился с последним узлом, разорвав его зубами, и на столе рассыпалась длинная колбаска желтых кружочков. И даже невозмутимый Колька Парфенов, молча подпиравший стенку своей сутулой спиной, оттолкнулся от нее, потянулся к столу, сказал восхищенно: — Ух ты-ы!.. Даешь, Монгол… — Заткнись! — коротко бросил в его сторону Приходько и посмотрел на Часовщикова. Тот, успев потушить в глазах жадный блеск, спросил, с трудом отрывая взгляд от золота: — И это все? Мне голубушка Ирина Михайловна говорила, что у вас… — Если сойдемся в цене, то получишь столько же, — обрывая его, сказал Монгол. Старик внимательно посмотрел на своего партнера, его небольшие, чуть навыкате глаза, полуприкрытые воспаленными веками, стали жесткими, взгляд — колючим. — Я хотел бы посмотреть всю партию, — четко разделяя слова, сказал он. — Иначе разговора не будет. Монгол, чувствуя, как ломается под этим жестким взглядом, и все больше зверея от этого, зло сплюнул, но все же принес из тайника второй сверток. Быстро развязал узлы, высыпал монеты на стол. — Вот это другой разговор, — удовлетворенно сказал Часовщиков, и глаза его опять заволоклись слезливой пеленой, словно потухли. Он молча взял стул, придвинул его к столу, сел, словно врос. Затем нацепил на нос очки со сломанной дужкой, придвинул к себе портфель, достал из него черный пробирный камень, связку пробирных игл, пузырек с реактивами. Взял наугад одну из монет и начал ребром натирать черный, абсолютно гладкий камень. Когда на его поверхности появилась жирная, широкая, желтоватого цвета полоса, он смочил ее реактивом, отобрал из связки эталонов нужную ему иглу, внимательно сравнил с полученным результатом. Видимо, удовлетворенный увиденным, он уже без прежней суетливости проделал еще одну такую же операцию с другой монетой, затем еще и еще, выбирая червонцы то из-под самого низа, то сверху, и наконец успокоенный, сказал: — Беру все. Монгол, который все это время внимательно наблюдал за манипуляциями старика, облизал неизвестно почему пересохшие губы, спросил: — Цену знаете? От этого вопроса спина Часовщикова как-то удивительно быстро согнулась едва ли не вдвое, глаза потухли, затекая старческой слезой, он повернулся к Монголу, сказал шамкая: — Да, мне уже говорили… Но вы знаете, я же беру всю партию, оптом… Надо бы пять процентов сбросить. — Не будьте идиотом, — отрезал Монгол и добавил: — Если берешь, так плати сполна. Часовщиков, понявший, что торговаться нет смысла, утвердительно закивал головой, собирая при этом монеты в длинные колбаски и завязывая тряпицы какими-то хитрыми узелками. Монгол стоял сбоку от него и, наблюдая за этими трясущимися руками, наливался дикой волной радости: «Вот оно, сбылось!» — Так когда же платить будете? — спросил он Часовщикова. Тот подумал секунду, ответил: — Надеюсь, вы знаете, что такое «кукла»? Так вот, я не хочу рисковать. Мы сейчас забираем весь товар и едем в город. В машине и расплатимся. — Так что… у вас деньги не с собой?! — не удержался от вопроса Монгол и затаился, ожидая ответа. Старик прощупал его слезящимися, холодными глазами, сказал, выцеживая слова: — Учитесь не задавать глупых вопросов, молодой человек.Парфенов вел машину лихо, почти автоматически переключая скорости, плавно нажимая на тормоз перед светофорами и переходными дорожками, по которым фланирующей походкой переходили дорогу нарядно одетые люди. «Одесса — город богатый», — почему-то подумал Монгол, и ему стало жалко себя за то, что он не может, даже имея кучу денег, вот так же спокойно выйти к оперному театру, пофлиртовать с приезжими девчонками, а потом закатиться в какой-нибудь ресторан и гулять, потрясая девицу, публику и официанток купеческими заказами. Он очень неуютно чувствовал себя в этой машине, которая в любой момент могла превратиться для него в ловушку, загляни в нее придирчивый милиционер, и уже ругал себя, что согласился ехать с этим «облезлым хрычом», а не заставил его привезти деньги на дачу. Наконец Часовщиков, сидевший рядом с Утюгом, сказал, чтобы тот остановился. «Ждите здесь», — добавил старик, вылез из машины и пошел куда-то. Это была старая часть города, где сам черт мог запутаться, и Монгол, имевший поначалу прямое намерение выследить квартиру Часовщикова, который уж никак не мог держать такие деньги в сберкассе, вдруг раздумал. — Давно знаешь этого фармазона? — спросил он у Парфенова. — Раз возил к Ирине, — ответил Утюг, а потом добавил: — Скрытный, сволочь. В Одессе его мало кто знает — сам на товар выходит. — Валюту скупает? — Нет, только рыжевье. — Парфенов замолчал, затем вдруг резко повернулся к Монголу, спросил в упор: — Слушай, хреново там? — Он мотнул куда-то головой и уставился на Монгола, ожидая ответа. Даже в полутьме машины Приходько почувствовал на себе этот ждущий взгляд, хотел было хвастануть, но передумал, сказал коротко: — Хреново. — А почему? Там, говорят, и кормят, и… — И спать на чистых простынях ложат, и в баню, и в кино водят, — с остервенением начал перечислять Монгол, — да только, идиот ты этакий, тебя во-дят! — почти закричал он. — Понимаешь, водят?! А сам ты — никуда не моги. Да и кореша-товарищи такие, что… Подохнуть бы им всем вместе, — почти выкрикнул он и замолчал надолго, вжавшись в спинку сиденья. Часовщиков появился с тем же неизменным портфелем в руках. Он открыл заднюю дверцу, всунулся в нее сам, затем втащил портфель, попросил включить освещение. Монгол, затаив дыхание и стараясь не выдать себя, сжался в углу, спиной прижавшись к дверце. Спросил на всякий случай: — А здесь никто?.. — Нет! — резко ответил Часовщиков и, приняв от Монгола упаковки, придирчиво осмотрел узелки, затем развязал их, в который уже раз пересчитал монеты, удовлетворенно кивнул и только после этого достал пачки сторублевок. — Можете не считать. Как в аптеке. Приходько, чувствуя, что ему надо успокоиться и хоть как-то оттянуть время, вытер о рубашку сразу вспотевшие ладони, ответил, криво улыбаясь: — Нет уж, позвольте. А вдруг?.. Влажными руками он сорвал наклейку с одной из пачек, начал торопливо пересчитывать хрустящие сторублевки, складывая их стопочкой на сиденье. Вдруг одна из бумажек соскользнула на пол. Часовщиков нагнулся, чтобы поднять, его худая, заросшая клоками седых волос шея оказалась у самых ног Монгола, и в это время он обрушил на нее страшной силы удар, в котором было все: и злость, и отчаяние, и жажда вольготной жизни, но больше всего — ненависть. Ненависть, которая сжирала его без остатков. Видевший все это Парфенов резко крутанулся к нему, с ужасом глядя на неподвижное, мешком обвалившееся тело старика: — Ты что?! Зачем?.. — Заткнись! — выдохнул Монгол и бросил ему несколько сторублевок. — Это тебе. Смотри, если Ирине проболтаешься… Он торопливо собрал деньги в ненужный теперь Часовщикову портфель, жадно затянулся сигаретой, сказал глухо: — Давай-ка жми к какому-нибудь укромному месту… Надо этого хмыря сбросить…
VIII
У причальной стенки, где стоял «Крым», было по-праздничному оживленно. Полуденная жара спала, и пассажирский причал заполнила разноцветная толпа отпускников, которые с любопытством и восхищением взирали на многоэтажную махину лайнера. Лариса Миляева, злая и растерянная, остановилась у трапа, отдышалась. Хотелось заплакать, пожаловаться кому-нибудь, но ничего… она сейчас все выскажет Ирке. Все! Она плюнет в ее холеную морду и пошлет к черту! А там будь что будет. Вахтенный, симпатичный высокий парень в форменной рубашке, вызвал по ее просьбе Лисицкую, и, пока Лариса ждала, злость начала понемногу проходить и только какая-то безысходность заполняла грудь. Наконец появилась Ирина. Лариса, остановившись взглядом на ее поджаром теле, круглых бедрах и в меру полных ногах с красивыми коленками, невольно сравнила Ирину с собой и с завистью подумала, что, несмотря на двадцатилетнюю разницу, это сравнение явно не в ее пользу. Недаром мужчины так льнут к Ирке. Улыбнувшись вахтенному, Лисицкая кивнула на Миляеву, попросила: — Коля, будь любезен, пропусти ее, пожалуйста. От этого «пожалуйста» в груди Ларисы опять начала расти злоба, и, миновав вахтенного, она почти прошипела в лицо Лисицкой: — Ты что, всегда здесь такая? Перед каждым — «будьте любезны», «пожалуйста»? — В людях культуру воспитывать надо. Тебе бы тоже неплохо кое-чему поучиться, — оборвала ее Лисицкая. Лариса не выдержала, сказала громко: — Помню, ты меня другому учила. — Заткнись! — Ирина Михайловна почти впихнула ее в длинный коридор, сказала зло: — Пошли ко мне. Там поговорим. Лариса не раз была в этой красивой каюте, пол которой устилал огромный толстый ковер, а на переборках висели безделушки и резные маски, купленные в круизных поездках. Лисицкая села в глубокое кресло, устало вытянула ноги. Кивнув Ларисе на стул, спросила коротко: — Ну? — Дай закурить сначала. — Взяв с журнального столика пачку «Аполлона», Лариса дрожащими пальцами выбила сигарету, нервно крутанула колесико зажигалки. Глубоко затянувшись, закашлялась, сквозь кашель произнесла глухо: — Сегодня мне из милиции звонили. — Что-о? — Ничего. Из милиции звонили. Я только домой пришла, а тут звонок. Сначала спросили Надю… И знаешь, меня будто током шибануло — говорю, что такая, мол, тут не проживает. Тогда спросили, знаю ли я Корякина. — Ну?! — Чего «ну»? Я, естественно, сказала, что не знаю. Тогда эта женщина сказала, что она майор милиции Гридунова и завтра в одиннадцать утра будет ждать меня у себя в кабинете. Ой, Ирка, что же будет?! Скапливающийся страх разом выплеснулся в истерику, Лариса ткнула сигарету в пепельницу, грудью упала на столик. — Дура. Дура я! Мамочка, что же я наделала? Если меня посадят, то Сережку в приют заберут. А я помру, помру без него. — Ее круглая спина затряслась от рыданий, она забилась головой о сжатые кулаки. — Дура. Дура! Дура-а… Лисицкая, переваривая услышанное, молча сидела в кресле, и только лихорадочный блеск зеленых глаз выдавал ее волнение. Неожиданно Лариса вскинула голову, с ненавистью посмотрела на Ирину: — А все ты… Ты-ы! Яненавижу. Ненавижу тебя! Ты и вчера меня с Монголом свела. Думаешь, я дура? Не поняла, что он сбежал… — Заткнись! — Лисицкая легко поднялась с кресла, налила воды в стакан, сунула его Ларисе. — Выпей да сопли вытри. Грешница кающаяся… Не ты ли мне ноги целовала, когда двухкомнатный кооператив купила? А все эти шмотки?.. Раньше ты их имела? — Плевала я на кооператив и шмотки! От меня муж ушел. Мне страшно. Всегда страшно-о-о. Я водку пью-у ночью! — Муж… — криво усмехнулась Лисицкая. — Что ты видела от этого алкоголика? Сто рублей в месяц да скандалы по воскресеньям? Да от такой жизни повеситься можно было. — Ну и пусть, пусть сто. Зато он мой был и Сережку любил. Сереженька-а… — Ее спина опять затряслась от рыданий, она упала головой на руки. — Все! Хватит выть. — Лисицкая резко встряхнула Ларису за плечи. — Говори толком, о чем еще спрашивали. Лариса выпрямилась на стуле, ладонью вытерла глаза. По лицу грязными полосами размазалась тушь с ресниц. — А чего говорить? В одиннадцать велели быть в милиции. — Странно… Ты вот что: умойся и жди меня на пирсе. Проводив Миляеву, Лисицкая почти без сил упала в кресло. Надо было как следует обдумать создавшееся положение. Впрочем, здесь нечего было и думать. Вывод был один: ОБХСС «замела» этого парня из «Березки» — Корякина — и он, видно, раскололся. «Ах падаль! — кляла его Ирина. — Сам тонешь, так зачем же других топить. И я тоже, дура, телефон этой идиотки дала!» Неожиданно дверь приоткрылась, в каюту заглянул Вася Жмых. Увидев Ирину, которая даже головы не подняла при его появлении, саксофонист расшаркался, спросил сочувственно: — Заболела, что ль? Ирина Михайловна сморщилась, словно от зубной боли, процедила сквозь зубы: — Знаешь, не до тебя сейчас. Извини, дела. — Да, да, конечно, — закивал головой Жмых и быстро прикрыл дверь. «Так что же все-таки с Корякиным? Если замели серьезно и он дал телефон этой дуры, тогда крути не крути, а ее могут вызвать на опознание. Черт! Монгола-то она видела… Что же делать? Что? — вихрем неслось в голове. — А впрочем?.. Что, собственно, он может показать? То, что валюту у нее купил? Так попробуй докажи…»В «Березке» народу было мало. Убедившись, что Корякина за прилавком нет, Лисицкая и Лариса подошли к молоденькому продавцу. — Вы нам Корякина Сашу не позовете? — улыбнувшись, попросила Лисицкая. Скучающий было парень сразу оживился. — Честное слово, рад бы, но… — Заболел? — с надеждой в голосе спросила Лариса. Парень замялся. — Не-ет… понимаете ли… загребли его. — Сашу?! За что? Продавец усмехнулся. — За что?.. Влип, видно. — Ах какая жалость! — Лисицкая горестно посмотрела на парня, сказала устало: — Ну что ж, спасибо и на этом. Когда вышли из «Березки», Лариса зябко поежилась и, словно вынося приговор самой себе, сказала уныло: — Ну вот и все. Теперь и меня заберут. — Не хнычь. Не такая уж ты птица, чтобы за тобой все охотились. Тебе главное твердить, что никогда и не слышала о Корякине. И вообще — ни звука. Ты брошенная жена, скромная парикмахерша, и все. Поняла?! — вразумительно наставляла Ирина Михайловна. — И особенно… Смотри не вздумай болтать о Монголе. Ты знаешь, какой он… А у тебя Сережка… Смотри. — Да ты что? — замахала рукой Лариса. — Что ж я?.. — Ну и хорошо, — успокоенно вздохнула Лисицкая. — А… а телефон как же? — спохватилась Лариса. — Скажи, знать не знаешь. Тем более что там надо было спросить Надю. Единственно, что они могут сделать, так это произвести опознание. — Вот, вот. Как же тогда? Лисицкая задумалась. — Вот что. Ты, кажется, тогда в шубке была? — Да. — Прекрасно. А на голове что? — Ничего. Я тогда укладку только-только сделала. — Вот что. Вымой на ночь голову, да не вздумай накручиваться. — Так они же паклями висеть будут! — Ты меня слушай внимательно. — Верхняя губа Лисицкой зло скривилась. — Наденешь какое-нибудь старье, да не вздумай глаза и морду красить. И я тебе повторяю: ни слова о Монголе. Как бы чего плохого он с твоим сынком не сделал.
За окном начало темнеть, цветочный сквер, что раскинулся перед домой, стал понемногу терять свои краски, а Ирина Михайловна все так же стояла в проеме двух тяжелых гардин, выкуривая сигарету за сигаретой, с тревогой смотрела в пронизанные багряными лучами заходящего солнца сумерки. Не давал покоя этот вызов Лариски в милицию. Беспокоило ее и другое: почему-то не подходил к телефону Часовщиков. Да и Колька Парфенов не появлялся, хотя она ему строго-настрого указала, чтобы он был у нее с машиной к этому времени. Правда, вчера, где-то уже за полночь, он ей позвонил из автомата и каким-то дурным, пьяным голосом сказал, что все в порядке, сделка прошла нормально и он отвез Монгола обратно на дачу. И все же что-то тревожило Ирину Михайловну. И от этой неизвестности, гнетущего ожидания вяжущий страх заполнял все ее существо. Она смотрела на улицу, а перед глазами, словно видение, стояло лицо Монгола: жесткое, непрощающее, с узким, немигающим прищуром раскосых глаз. Несколько раз в комнату входила мать, пыталась заговорить с дочерью, но та отмалчивалась, и Софья Яновна, обиженная, шла опять досматривать телевизор. Но старухе, видимо, не сиделось одной, и она в который уже раз прошаркала по коридору, постояла в дверях и неожиданно включила свет. Вспыхнула хрустальная люстра, свет залил комнату. Ирина Михайловна резко обернулась, бросила зло: — Зачем зажгла? Выключи! — Чего это ты? Аль людей бояться стала? — с ехидцей в голосе спросила Софья Яновна. Ирина Михайловна внимательно посмотрела на мать, затянулась сигаретой, сказала устало: — А не с твоего ли благословения я стала такой? Мать пропустила эти слова мимо ушей, однако поджала губы, сказала плаксиво: — Бессовестная ты. Плюнула бы я в твою рожу поганую, да слюней жалко. — Она повернулась к дочери спиной, видно было, как дрогнули ее высохшие плечи. — Бессовестная. А про брошь забудь, она мне самой пригодится. — Ну и черт с тобой! Может, подохнешь от жадности. — Ирина Михайловна уже не могла остановиться и бросала, бросала в спину матери злые, колючие слова. Эта брошь была давним яблоком раздора: огромный, червонного золота и старинной ювелирной работы паучок даже в темноте играл бликами рассыпанных по его спине бриллиантов. Мать говорила, что выменяла его в блокадном Ленинграде на двадцать банок сгущенки. Брошь эта стоила дорого, страшно дорого, это было целое состояние, конечно, не здесь, а там, за границей, и Лисицкая долгие годы терпеливо ждала удобного момента, чтобы выманить ее у матери, которая прятала брошь у кого-то из своих сестер. — Мать, — она попыталась говорить спокойно, — ты пойми меня правильно. Брошь ценная — спору нет. Но именно поэтому ты ее нигде не сможешь продать. Я имею в виду официально. Подпольного же миллионера ты не найдешь, или подвернется такой, который тебя просто-напросто обманет. Поэтому самый лучший выход, чтобы это сделала я. — Ха! Нашла дуру. — Притихшая было старушка резко обернулась, ее бесцветные губы скривились. — Отдай ей брошь… А вот этого не хочешь?! — Она сунула под нос дочери высохший кулачок со сложенными в фигу пальцами. — Я ей дай, а она завтра умотает за границу. — Боже мой!.. — Ирина Михайловна, не в силах больше сдерживаться, закатила глаза, опустилась в кресло. — Почему? Почему ты думаешь, что я такая скотина? Да и с чего ты взяла, что я куда-то бежать хочу? — Чую! Носом чую. — В голосе старушки послышались металлические нотки. — А про паучка забудь, все равно не отдам. Это мне на старость. — Ну и черт с тобой! — Ирина Михайловна поднялась с кресла, прошла на кухню, достала из аптечки анальгин, выпила. Когда вернулась в комнату, мать все еще была там. — Сколько ты за нее хочешь? — Сколько? — Глаза старушки оживились, она беззвучно зашевелила губами, подсчитывая примерную стоимость броши, но потом вдруг косо взглянула на дочь, сказала едко: — Сколько… Да у тебя порток не хватит купить ее у меня. — Не волнуйся, хватит, — с желчью в голосе ответила дочь и вдруг, совершенно неожиданно для самой себя, спросила едва слышно: — Или ты, может, ее у тети Сони прячешь? А? Ну? Чего же молчишь?! Собравшаяся было уходить, мать резко повернулась к дочери, ее тонкие губы задрожали в бессильной злобе, напряглись вздувшиеся вены на тонкой старческой шее, и она прошипела с яростью: — Не-ет, не вымани-ишь. Не отдам. — И вдруг годами скапливающаяся злость к «неблагодарной» дочери вылилась в всколыхнувшем все ее старческое тело рывке, она вскинула руки, закричала тонким старческим фальцетом: — Неблагодарная! Я ради тебя… а ты!.. Не отдам! Не отда-ам! Пусть лучше другим достанется. Может, мне хоть крест за это на могилку поставят. — Зачем он тебе, мать? — тихо спросила Ирина Михайловна. — Разве твои грехи этим замолишь? Так что обеим придется в геенне огненной… — Замолчи-и-и! — закричала Софья Яновна и вдруг осела на пол, закрыла лицо руками, и ее худенькие плечи затряслись в беззвучном плаче. — Ну ладно, прости, — тронула ее за плечо Ирина Михайловна, неуклюже погладила по голове и, когда мать немного успокоилась, тихо вышла из комнаты.
Парфенов приехал за Лисицкой, когда уже совсем стемнело. Он показался ей каким-то странным. — Чего это ты? — спросила, садясь в машину. — Да не-е, — замялся Парфенов. — Нормально. — Ну, ну, — недобро процедила Лисицкая и замолчала, прокручивая в голове предстоящий разговор с Монголом. Ирина Михайловна не верила, что Приходько отдаст ей всю обговоренную сумму, отлично понимая: не для того он бежал из колонии, чтобы делиться с ней таким наваром. В глубине души Лисицкая хотела бы иметь сейчас именно такого напарника, как Монгол, чтобы сделать два-три последних дела. Она задумалась и даже не заметила, как сказала тихо: — Ну ладно, там посмотрим. — Чего, чего? — повернул к ней свою маленькую головку Парфенов. — Ничего! — оборвала его Ирина Михайловна и замолчала, не проронив больше ни слова до самой дачи. Разморенный коньяком и вкусной, обильной едой, привезенной в прошлый раз Ириной, Монгол лежал на диване и лениво перелистывал старые журналы. Он не вспоминал тщедушного, грязного старика Часовщикова, которому уже никогда не понадобятся деньги. Поначалу Монгол думал рвануть с золотом и деньгами подальше от Одессы, потом решил, что успеет это сделать и позже, после того, как прощупает Ирину насчет ее сбережений. Лисицкой, обещавшей приехать еще засветло, все не было, и от этой неизвестности Монгол начал беспокоиться, все чаще и чаще подходить к окну, осторожно выглядывать из-за прикрытых плотных штор. Наконец, когда он уже потерял всякую надежду, на улице послышался шум подъехавшей машины. Монгол рывком спрыгнул с дивана, подскочил к окну и увидел, как во двор въехала «Волга». Криво усмехнувшись, не спеша натянул брюки и только после этого пошел открывать входную дверь. Пропустив мимо себя Ирину, он неуловимым движением остановил Парфенова, спросил почти беззвучно: — Не узнала? — Порядок, — так же тихо ответил тот. Теперь уже полностью успокоившийся, Монгол вошел в комнату, спросил лениво: — Что ж так поздно, ведь обещала засветло? — Да вот, индюк… — кивнула на присмиревшего Парфенова Лисицкая. — Промотался где-то, а тут… Выгоню к чертовой матери! — Это ты зря, — заступился за Парфенова Монгол. — Всех выгонять, сама в дураках останешься. Ну ладно, не смотри, будто солдат на вошь. Как-никак праздник сегодня, я уж давно таких денег не видал. — С этими словами он полез за комод и вытащил оттуда толстую пачку сторублевок. — Держи, хозяйка. Да не забудь мне половину выделить. Опешившая даже не от вида денег, а скорее от барского жеста Монгола, Лисицкая, ожидавшая мелочного отсчета денег, обмана, надувательства — всего, что угодно, но только не этого, какое-то время ошалело молчала и вдруг улыбнулась кривой, виноватой улыбкой. — Молодец, — неожиданно мягко сказала она, совершенно забыв, что авантюра с поддельным золотишком вскоре выплывет наружу и ей придется каким-то образом выкручиваться перед Часовщиковым. Главное было не это. Главное было то, что перед ней стоял прежний Валя Приходько, который ради нее готов был идти в огонь и в воду. И вмиг созрел и утвердился тот план, что она подспудно держала в душе, не надеясь, что так вот повернется дело. Монгол, который все это время с холодной жестокостью смотрел на нее, по каким-то неуловимым признакам понял, что и этот ход выиграл он. Теперь главное — ждать и не суетиться. — Ну что, старая, — нарочито растягивая слова, спросил он, — пригодится еще Приходько? А? Или ты думала, что меня на свалку списывать можно? — Пригодится, ой как пригодится, — в тон ему ответила Ирина Михайловна и тут же спросила: — Хочешь еще в долю войти? — Смотря на что. — Пятьдесят на пятьдесят. — А в хрустах сколько? — Не прогадаешь. — Лады, — кивнул Монгол. — А что делать надо? Давно ожидавшая этого вопроса, Ирина Михайловна внимательно посмотрела на Монгола, словно пытаясь еще раз проверить себя, затем сказала, четко разделяя слова: — Я тебе адресок один дам… недалеко от Одессы… там старуха живет… — Она замолчала, еще раз изучающе посмотрела на него. — Ну? — не выдержал Монгол. — Так вот, у нее брошь одна есть, хорошие деньги стоит. Сможешь взять? Покупатель уже есть, — соврала она. Монгол, который все это время внимательно слушал Лисицкую, скривился в недоверчивой усмешке, спросил с издевкой: — А чего ж сама не возьмешь? Ирина Михайловна усмехнулась, сказала с непонятной тоской в голосе: — Не женское это дело — по чужим квартирам лазить, а так бы уж давно… — Оно конечно, — согласно кивнул Монгол и тут же спросил: — Наколка надежная? — Почти стопроцентная. — Почему «почти»? Ирина Михайловна замялась, боясь полностью раскрыть себя, сказала нехотя: — Видишь ли… Эта брошь может быть у двух людей, но, вероятнее всего, у той старухи. — Лады, — согласился Монгол, но вдруг потускнел, его губы скривились в какое-то подобие улыбки. — Только куда же я попрусь со своей рожей? Меня любой мент захомутать может. Сообщение, поди, по всем райотделам уже разошлось. — М-да, — согласно кивнула Ирина Михайловна. — А впрочем, знаешь что… Я пару приличных мужских париков в загранке приобрела, так вот один из них тебе в самый раз сгодится. — А ксива? — Милый ты мой, где же я тебе сразу-то паспорт выправлю? — возмутилась Ирина Михайловна. — Вот вернемся из этого рейса, тогда и видно будет. К тому же надо еще раз посмотреть на тебя. А то вдруг с брошечкой-то рванешь куда… — Не будь дурой! — оборвал ее Монгол. — В доле так в доле. Да, — вдруг спохватился он, — когда дело сделаю, то с твоей дачи свалю, у меня еще одна хаза есть. Так что насчет встречи сообщу сам, позвоню Парфенову. — Годится, — согласно кивнула Ирина Михайловна. — Тогда договоримся так: завтра с утра к тебе приедет Колька и передаст вместе с париком адресок той старухи. Он же и подбросит тебя до места. — Дело говоришь, — согласился Монгол и, как-то враз оттаяв, притянул Ирину к себе, сказал просяще: — Может, не уедешь сегодня?.. — Не могу, Валя. В следующий раз, — пытаясь освободиться из его цепких рук, прошептала Лисицкая. — Только ты не обижайся. А сейчас давай-ка лучше за успех выпьем.
IX
Сжавшись в комочек, Лариса сидела на втором от окна стуле и со страхом ждала прихода Корякина. Час назад в стоптанных башмаках, в которых мыла полы дома, и в стареньком платьишке она робко постучалась в эту комнату и, остановившись на пороге, едва слышно спросила: «Мне бы товарища Гридунову». Целый час билась с ней Нина Степановна. В какие-то моменты Ларисе казалось, что она вот-вот расплачется и расскажет этой женщине всю правду, но мысль о сыне, которого, как говорила Ирина, можно не увидеть долгие годы, давала ей новые силы, заставляла упрямо твердить: «Не знаю никакого Корякина. Откуда телефон? Понятия не имею. Я же ведь парикмахер. Может, кто из бывших клиентов порекомендовал меня…» И вот теперь это опознание. В кабинет вошли четыре молодые женщины. Лариса сразу посмотрела на волосы — блондинки. От двадцати до двадцати пяти лет. Сели на расставленные вдоль стены стулья. «Господи! Пронеси!» Вспомнилась молитва, которую давным-давно читала ее мать, стоя перед образами: «Отче наш. Иже еси на небеси. Да святится имя твое. Да приидет царствие твое. Да будет воля твоя. Господи, сделай так, чтобы он не узнал меня. Молитвами отмолю грехи свои. Сделай ради сына!» Лариса настолько ушла в себя, что даже поначалу не поняла, о чем говорит Гридунова. Она вопрошающе подалась вперед, переспросила: — Извините, я не поняла. Чего? Нина Степановна внимательно посмотрела на Миляеву, повторила, четко разбивая слова: — Сейчас произойдет опознание. Прошу никаких жестов не делать и реплик не произносить. — Хорошо, — едва слышно ответила она, а сама продолжала шептать лихорадочно: — Господи, милый, сделай так, чтобы он меня не узнал. Сына, сына моего пожалей! В сопровождении милиционера вошел Корякин. Бледный и осунувшийся, он, казалось, вытянулся еще больше, но Лариса сразу же узнала его. Это был тот самый парень, которому они продали валюту у моста, что вытянулся над спуском Жанны Лябурб. Затаив дыхание, она вжалась в стул, с ужасом почувствовала, как покрывается испариной лоб. — Гражданин Корякин, вам приходилось встречаться с кем-нибудь из присутствующих здесь женщин? — Голос Гридуновой прозвучал неестественно громко. — Посмотрите внимательно. Корякин прошел на середину комнаты, остановился, вглядываясь в лица. На какое-то мгновение он задержался на рослой блондинке, заскользил растерянным взглядом по ряду и, не останавливаясь на Ларисе, перемахнул опять на блондинку. — Н-нет. Никого не знаю. — Он дрожащей рукой вытер пот со лба, виновато посмотрел на Гридунову. — Н-не знаю. Никого. Когда все приглашенные ушли, Нина Степановна села за свой стол, молча достала пачку сигарет, щелчком выбила одну, закурила. Сделала несколько глубоких затяжек и только после этого посмотрела на Ларису. Миляева, боясь чем-либо выдать свою радость, сжавшись, сидела на стуле и только изредка затравленно посматривала на Гридунову. — Ну что же, Лариса, можете быть свободны, — неожиданно громко сказала Нина Степановна. — Да, да. Только не надо делать таких скорбных глазок и не надо говорить лишних слов. А вот когда у вас найдется что-либо сказать мне дельное, милости прошу. Вы свободны. Когда Миляева ушла, Нина Степановна устало поднялась со стула, прошла к окну, за которым вовсю кипело жаркое одесское лето. Все эти дни, отрабатывая один вариант за другим, опрашивая десятки людей, Нина Степановна частенько спрашивала себя: «Да не миф ли эта Акула? Вот и с этой пышкой-парикмахершей из дамского салона вышла «пустышка», хотя за ней явно что-то было». Нина Степановна тяжело вздохнула и направилась на доклад к Ермилову… — А может быть, действительно Корякин перепутал телефон и девчонка эта ни при чем? — спросил полковник, когда Нина Степановна вкратце изложила результат опознания. — Да нет же, нет! Чувствую я, что эта самая Лариса Миляева крутит мозги нам. При этих словах Гридуновой Ермилов внимательно посмотрел на нее, помолчал, спросил тихо: — Вы давно в отпуске не были, Нина Степановна? — Года полтора. Сейчас вот должна бы оформлять очередной… — Понятно, — кивнул полковник. — Усталость? — Да нет же, Артем Осипович, я… — Послушайте меня, старого, Нина Степановна, — прервал ее Ермилов. — Я вас великолепно понимаю, однако видеть в каждой молодой блондинке Акулу или ее возможную пособницу не советую. Этак мы с вами слишком далеко зайдем. Нужны факты, а что конкретно вы можете предъявить Миляевой? Практически ничего, кроме ее телефона в записной книжке Корякина. — Да ясно все это, товарищ полковник, однако и девчонка-то уж слишком нервничала. Хоть и говорила все правильно, но чувствую, нутром чувствую: не одними прическами она занимается. — Интуиция? — Возможно. Следственная интуиция — это способность следователя, в данном случае оперативника, основанная на его опытности и знании. А того и другого, как вы знаете, у меня хватает. — Ого! — вскинул брови Ермилов. — А мы, оказывается, с самомнением. Однако хочу добавить, уважаемая Нина Степановна, что следственную интуицию необходимо в дальнейшем обосновать. Ермилов с улыбкой посмотрел на Гридунову. — Обиделась? — Да нет, что вы, Артем Осипович, я же все это отлично понимаю, да только поделать с собой ничего не могу. Нервы сдают, что ли? — Нина Степановна усмехнулась. — Сон я тут недавно видела, будто гонюсь за этой блондинкой. Пистолет выхватила, а передо мной только спина мелькает да волосы белые. Кричу: «Стой! Стрелять буду!» А она бежит, не оглядывается. Ну, я, как по уставу положено, один выстрел в воздух. А она все бежит… — Ну вот, такая молодая, красивая, а уже нервы, — по-стариковски пробурчал Ермилов. — Ты мне сейчас лучше доложи, что дальше делать думаешь. Нина Степановна раскрыла папку, достала две фотографии, положила их перед полковником. — Может, помните этих двух красавиц? Дуся Крушинина и Нина Кучко. Промышляют, в общем-то, легкой фарцовкой, приобретая вещи у иностранных моряков, но чем черт не шутит — могут навести и на более крупную рыбу. Хочу вечерком встретиться с ними.В Ильичевск, где обычно «промышляли» Крушинина и Кучко, Нина Степановна приехала под вечер. Пашко ждал ее в валютном баре, куда обычно приходили иностранные моряки. Было еще нешумно, из динамиков, спрятанных за толстой красивой драпировкой, лилась спокойная музыка. Нина Степановна и Пашко прошли к свободному столику, и тут же несколько мужских голов повернулись в их сторону, а особо пылкий старший штурман в форме испанского торгового моряка даже прищелкнул в восторге пальцами и что-то быстро затараторил своим товарищам по столику. Нина Степановна засмеялась, подмигнула насупившемуся Пашко, осмотрелась — нужных девиц в баре не было. Нина Степановна вопросительно посмотрела на Пашко, но Саша только плечами пожал: мол, по сведениям должны быть здесь. — Ну что ж, подождем, — согласно кивнула она. В это время в дверях появились красивые и стройные, словно сошедшие с плакатов Аэрофлота, Марго и Вилетта — они же Дуся Крушинина и Нина Кучко, — остановились у края стойки, как доброму, старому приятелю, кивнули бармену, профессиональным взглядом мелких фарцовщиц окинули затемненный зал и уж хотели было направиться к свободному столику, что стоял неподалеку от разгулявшихся моряков, как вдруг взгляд их словно споткнулся. Они хотели было повернуть обратно, но, поколебавшись, медленно, сразу же потеряв весь лоск и шик, побрели к двум свободным стульям, которые пододвинула им Гридунова. Все так же молча они присели на кончики предложенных стульев и тупо уставились в полированную поверхность стола. Нина Степановна, не проронившая за это время ни слова, выбила из пачки «Явы» сигарету, несколько раз чиркнула зажигалкой, прежде чем появился устойчивый огонек, подтолкнула сигареты на противоположный край стола. — Угощайтесь пролетарскими. Более экспансивная и нервная Нина Кучко — Вилетта — взяла сигарету, дрожащими пальцами открыла наимоднейшую, из крокодиловой кожи сумочку, достала оттуда «Паркер» и, закурив, сделала длинную затяжку. Марго только неопределенно кивнула головой, пробормотав что-то вроде «спасибо». — Что так? — удивленно-сочувственно спросила Нина Степановна. — Или, может, и «Ява» уже не устраивает — «Кэмел» только курим? — А чего? Чего мы такого сделали? Уж и в кабак, что ли, нельзя сходить? — неожиданно взвилась Вилетта. — Ниночка… тезка, — развела руками Гридунова. — Да разве ж я тебе или, скажем, подруге твоей — Евдокии — запрещаю? Ходите. Только зачем же в такую даль ездить? Неужто в родной Одессе кабаки, как ты говоришь, перевелись? Или наши парни ильичевских хуже? — Да нет, но… — Ну, ну, Ниночка, я тебя слушаю, — подбодрила ее Гридунова. — Чего ж замолчала-то? А? Или здесь навар лучше? Что? Не слышу, — наклонилась к ней Нина Степановна. — А может, ты ребят из комсомольского оперативного отряда боишься, от которых вы вместе с Марго убежать сумели, когда они вас на перепродаже заграничных косынок застукали? Молчите? Ну что ж, молчите. Только я посмотрю, как вы на суде молчать будете, когда вам последнее слово предоставят. Ну да ладно, теперь к делу. Пашко, все это время внимательно следивший за двумя поникшими девицами, увидел, как они встрепенулись при этих словах Гридуновой, вопросительно уставились на нее. — Так вот, миленькие девочки, — продолжала Нина Степановна, — меня интересует некая неизвестная личность, молодая красивая блондинка тридцати двух — тридцати пяти лет, недавно появившаяся на вашем черном рынке. Что можете сообщить о таковой? Марго и Вилетта недоуменно уставились друг на друга, какое-то время молчали, после чего Кучко пожала изящными плечиками. — Да вроде бы нет такой. — Честное слово, Нина Степановна! — поддержала подругу Крушинина. — Уж мы бы точно знали. — Верю. — Гридунова задумалась, спросила почти без всякой надежды: — Ну а может, кто из гастролерш балуется? — Да нет же, Нина Степановна, если и появился новенький кто, так это «фирмачи»-мальчишки, хамса, одним словом. А чтобы по-крупному… Таких нет, — убежденно сказала Кучко. — Слушай, Нин. — Красивое лицо Крушининой стало серьезным, она задумалась, вспоминая что-то, повернулась к подруге: — А помнишь Петуха? — Какого? — Ну того, что Косте Барчуку двести долларов сплавил. — Ну? А при чем здесь блондинка-то? — И то верно, — согласилась Крушинина. — Стойте-ка, стойте, — услышав незнакомую кличку, встрепенулась Гридунова. — Это еще кто такой? Почему не знаю? — Да понимаете, — замялась Кучко, — тип какой-то совсем недавно на Дерибасовской появился. Валютой приторговывает. Ну, кое-кто покупает у него. — А почему Петухом прозвали? — Ну… ведет он себя как-то неестественно. Суетится, дергается. Такое впечатление, что абсолютный профан в этом деле. — Думаете, на кого-то работает? — спросила Гридунова. Девушки замялись, посмотрели друг на друга, боясь разойтись во мнении. Чуть помедлив, Кучко сказала: — Вполне возможно. — А какой он из себя? — спросил молчавший все это время Пашко. Крушинина, испросив глазами разрешения, взяла из пачки сигарету, закурила и только после этого, то и дело поворачиваясь к подруге, начала перечислять приметы Петуха: — Ну, роста что-то около среднего… мужчина… лет сорока. Рыжеватый такой, лысеющий. Нос, помню хорошо, с горбинкой. Глаза большие такие, навыкат немного…
В город возвращались на управленческой оперативке. Пашко лихо, одной рукой вел машину, а на заднем сиденье, в полутьме подремывала Нина Степановна. Саша вспомнил Нину Кучко и позавидовал своему дружку, старшему лейтенанту Генкину, который набрался мужества и, отбросив все предрассудки и бабские сплетни, буквально вырвал из прошлой, угарной жизни Марийку Верещак, на глазах изумленной Пересыпи повел ее в загс. «Вот бы…» — мечтал про себя Саша. Он тяжело вздохнул, посмотрел в зеркальце на прикорнувшую Гридунову. — Нина Степановна, — позвал тихо. — Ну? — Я когда вас в горотделе ждал, то при мне дежурный оперативку получил. В карьере мальчишки старика какого-то убитого нашли.
X
Переполненный провожающими да и просто любопытными, пассажирский пирс гремел музыкой. Над колыхающейся, загорелой толпой, словно белая гора, выросшая из морской пучины, горделиво возвышался красавец «Крым», принявший на борт счастливцев пассажиров. Федотов стоял рядом с капитаном и улыбался жене, которая тоже была среди провожающих и изредка, почти украдкой махала ему рукой. По сравнению с прежними круизами этот рейс был короткий, но и он навевал тоску. Вилен Александрович уже не раз подумывал о том, чтобы окончательно сойти на берег, но не мог этого сделать. Здесь была работа, которую он, помполит, любил. Капитан тронул его за плечо, ободряюще улыбнулся — пора было давать отход. Заволновалась, задвигалась толпа, увидев, как у противоположного борта «Крыма» ошвартовались два чумазых буксирных катера. Раздались команды, заняли свои места палубные матросы. Суетливый береговой матрос ловко сбросил причальный конец с кнехтовой тумбы. Каждый такой отход был праздником, и, несмотря на грусть расставания, Вилен Александрович любил эти минуты. Но сегодня было почему-то особенно грустно. Может быть, оттого, что последние дни он почти круглосуточно пропадал на судне из-за этой контрабанды. К тому же немного беспокоила своим присутствием на судне оперативная группа, которой руководил капитан Воробьев. У Федотова было такое ощущение, словно в его доме находится кто-то посторонний, могущий в любую минуту принести непоправимую беду. Сердцем он понимал, что не прав, но поделать с собой ничего не мог и от этого раздражался все больше и больше. Вилен Александрович поймал себя на том, что совсем забыл о провожающей его жене, занятый мыслями об этом проклятом золоте. Он нашел глазами жену, улыбнулся ей ободряюще: иди, мол, домой. Она, видно, поняла его, последний раз махнула рукой и стала выбираться из толпы. Вилен Александрович дождался, когда она дойдет до конца пирса, и пошел к себе в каюту. В просторной каюте было прохладно. Федотов по внутренней связи разыскал Лисицкую и, еще не зная, о чем будет говорить, попросил зайти к нему. В ожидании ее он достал из сейфа целлофановую папку с листами исписанной бумаги и, почти обессиленный от всей этой суматохи и тревожных мыслей, сел в глубокое кресло. В голубой папке лежали протоколы опросов тех членов экипажа, которые хоть как-то вызывали у него сомнение. Важно было, узнать, кто из команды более-менее длительное время оставался в рубке и, возможно, мог спрятать золото. Его волновал Анатолий Пинчук, электрик, всего лишь второй год плавающий на «Крыме», но успевший приобрести «фиат». Правда, до этого он многие годы плавал на китобое, неоднократно ходил в загранку, и все-таки… К тому же Пинчук, судя по вахтенному журналу, за время этого злополучного рейса дважды осматривал выключатель руля. Первый раз на стоянке в Латакии, второй — на острове Мальта, в Ла-Валетте. «Латакия и Мальта. Ла-Валетта. Но почему именно Ла-Валетта? — пытаясь найти хоть какую-нибудь ниточку в этом ворохе несуразностей, рассуждал Федотов. — А впрочем… Вахтенный утверждает, что в Латакии он совсем ненадолго отлучался из рубки, и Пинчук, естественно, мог не успеть заложить золото в лючки. Ну а Ла-Валетта?.. Это предпоследняя стоянка перед Одессой. Тем более что в Стамбуле золото уже было найдено. Значит, как возможный вариант — Ла-Валетта. Так… Ну а почему именно в лючках ходовой рубки, а скажем, не за электрощитком или в тех же переборках? — спрашивал себя Федотов и тут же отвечал: — Да потому, что рубка — святая святых любого судна, а тем более круизного пассажирского. Таможенные досмотры здесь проводятся чисто формально. Вот и вся разгадка». И все-таки не хотелось верить, что Пинчук способен на такое. Однако рассказ стармеха говорил не в его пользу. Федотов достал из папки стопу сколотых исписанных листов, отыскал нужное и в который уже раз стал перечитывать написанное, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку или же полностью отказаться от этого предположения. «Перед Латакией, — писал стармех, — начал барахлить выключатель руля, и я приказал Пинчуку сразу же по приходе в порт посмотреть его и отремонтировать. И если я не ошибаюсь, он примерно в течение двух часов возился там». — Сколько времени занимает этот ремонт? — спросил его тогда Федотов. — Ну, от силы час. — А чем можно объяснить столь долгую возню Пинчука? — Насколько я помню, пакетник он ставил дважды. После первого раза заходил ко мне консультироваться, затем работал внизу и снова на мостике. — Чем вызван ремонт в Ла-Валетте? — Выключатель опять начал барахлить, вот я и послал туда Пинчука. — Может, он сам напросился на эту работу? — допытывался помполит, становясь все более противным самому себе. — Да нет, точно помню — мой это был приказ. Федотов дочитал показания стармеха до конца, вложил листки в папку, откинулся в кресле, зашептал, едва шевеля губами: — Ла-Валетта. Остров Мальта. Ла-Валетта… «А почему именно Ла-Валетта, — остановил он себя. — Ведь до этого были стоянки в Тунисе, в Ницце, в Генуе, в Палермо, и только после этого была Ла-Валетта». Виден Александрович закрыл глаза, и перед мысленным взором его встал веселый, разговорчивый электрик Толя Пинчук. Не хотелось верить, что он способен на такое. «Тогда кто?..» — опять невольно возникал вопрос, и Федотов вновь возвращался к тому яркому, солнечному дню, когда они пришли на Мальту. У пирса ошвартовались в четырнадцать ноль-ноль, отход же дали в двадцать три часа. За это время пассажиры побывали в старой части города Мдины, съездили в Рабат, посетили городской собор. Вместе с ними выезжали и члены команды, свободные от вахты. Так, теперь о ходовой рубке… С шестнадцати до двадцати вахту стоял Тищенко, и именно в это время Пинчук возился там с пакетником. «Это одно, — рассуждал Федотов, — ну а раньше?» Где-то к трем дня к «Крыму» подъехал ларек на мотоцикле, и бойкий торгаш начал рекламировать какую-то чепуху. Федотов как сейчас помнит эту жестяную развалюху на колесах, приспособленную под ларек, горластого зазывалу-торгаша. Мотоцикл стоял в трех метрах от судна, и кое-кто пошел к ларьку. Вахтенный матрос все это время стоял у трапа, не отлучался. Тищенко же, по его собственному рассказу, большую часть вахты провел у себя в каюте — болел живот. За то время, когда он поднимался в рубку, никого из посторонних он там не видел, кроме Пинчука, который ремонтировал пакетник. И все-таки не хотелось верить, что веселый, разговорчивый Толя Пинчук способен на такое. К тому же Гридунова сказала, что проверкой Пинчука они займутся сами, а ему, Федотову, необходимо присмотреться к Ирине Михайловне, и если он узнает что-либо важное, тут же сообщить об этом Воробьеву… В дверь негромко постучали. — Разрешите, Вилен Александрович? — Да, да, пожалуйста. — Федотов поднялся с кресла навстречу Лисицкой. — Я, собственно, пригласил вас вот по какому поводу. Завтра мы будем политзанятия проводить, я расскажу о новых таможенных правилах, так хотелось бы, чтобы ваш персонал по-серьезному отнесся к этому и кое-кто выступил тоже. Ну а вы бы выступили содокладчиком. — Хорошо, — согласилась Лисицкая. — Только давайте время наметим такое, чтобы обоим удобно было, да и девочки не так были загружены. — Ирина Михайловна, словно ставя точку на этом вопросе, попросила: — У вас минералочки не найдется? А то при этой духоте… — Ради бога. — Федотов подошел к холодильнику, достал бутылку нарзана. Спросил на всякий случай: — Может, вам не особенно холодной? Не дай бог, горло застудите. — В такую-то жару?! — удивилась Ирина Михайловна. — Да сейчас прямо со льдом пить надо. — Можно и со льдом, — добродушно пробасил Федотов и потянулся было опять к белоснежной дверце холодильника. — Нет, нет. Позвольте, я сама за вами поухаживаю, — опередила его Лисицкая и метнулась к холодильнику. Она открыла дверцу, профессиональным, наметанным взглядом окинула пустую емкость, где, кроме нескольких бутылок нарзана да сока манго, больше ничего не было, укоризненно повернулась к помполиту: — Чего же это вы, товарищ первый помощник капитана, словно бобыль какой живете? Ни вина, ни коньяка нет. Разве так можно? — Не пью. — Да при чем здесь «пью» или «не пью»? — возмутилась Лисицкая. — К вам гости приходят. — Если нужно будет, я достану. — Да о чем вы говорите! — всплеснула руками Ирина Михайловна. — «Он достанет». Да зачем доставать где-то, если я вам сейчас принесу две-три бутылочки прекрасного «Наполеона». С этими словами она шагнула к двери, но Федотов остановил ее, сказал нахмурясь: — Вы простите меня, Ирина Михайловна, за резкость, но чтобы подобный разговор был у нас с вами в последний раз. Если мне надо кого-нибудь угостить, я угощу, но носить мне из ваших запасов коньяк или что-либо еще запрещаю. Простите еще раз за, может быть, излишне резкий тон. — Ничего, пожалуйста, я же как лучше хотела… — Она обидчиво поджала губы, пожала плечами. — Извините.Ирина Михайловна шла по длинному, выстланному ковровой дорожкой переходу, и на душе скребли кошки. Дело было даже не в том, что «этот чистоплюй Федотов», как за глаза называла она помполита, отказался от предложенного коньяка — он и прежде отказывался, — нет, тут было другое, более серьезное, страшное. Еще утром ее напугал телефонный звонок. Низкий мужской голос спросил: — Простите, с кем имею честь? — Что за идиотизм? — взъярилась Ирина Михайловна. — Мне Лисицкую, — не обращая внимания на ее возмущение, скорее потребовал, а не попросил неизвестный абонент. — Я у телефона. — Около вас никого нет, кто бы мог услышать наш разговор? — продолжал задавать вопросы тот же низкий голос. Ирина Михайловна невольно обернулась, словно за ее спиной мог стоять еще кто-то, но затем спохватилась, крикнула: — Послушайте, какого черта?! Или говорите, что вам надо, или… Телефонная трубка какое-то время молчала, затем спросила: — Я надеюсь, вы Арона Марковича Часовщикова знали? Лисицкая, ожидавшая услышать все, что угодно, но только не это, дернулась, словно по ней пропустили заряд тока. В первую секунду хотела было бросить трубку, но сдержалась, сказала зло: — Знаете что… Идите вы… Она не успела договорить, как все тот же низкий мужской голос перебил ее: — Часовщиков был моим человеком. Итак, я вас спрашиваю: вы знали его? — Ну? — выдавила из себя Лисицкая. — Только почему «был»? — Вот об этом у нас с вами и пойдет речь, — уже более спокойно ответил неизвестный абонент и добавил: — Теперь слушайте меня внимательно, так как это в ваших же интересах. Несмотря на спокойный голос неизвестного, Ирина Михайловна почувствовала, как напряглась ее рука, вжалась в ухо телефонная трубка. — Так вот. По вашей рекомендации Часовщиков встретился с неким одной вам известным человеком, который якобы сбывал крупную партию золотых монет. Невольно для себя Лисицкая отметила, что тот неизвестный человек сказал «золотых монет», а не рыжевья, как бы выразился любой барыга или фарцовщик, и от этого стало еще тревожнее и беспокойнее на душе. — Так вот, после того, как они встретились в присутствии вашего шофера, то есть таксиста Парфенова, и окончательно договорились о цене, Часовщиков позвонил мне из дома, и я дал «добро» на покупку всей партии. После этого он пропал неизвестно куда, а вчера выяснилось, что он убит. Что вы можете сказать по этому поводу? Ошарашенная страшной вестью, Ирина Михайловна уже не слышала последнего вопроса — перед глазами, словно видение, возник Монгол и толстенная пачка сотенных, небрежно рассыпанных по столу. «Так вот почему он был таким щедрым!..» Лисицкая вспомнила, что у нее в руке телефонная трубка, спросила заикаясь: — Да, да, я вас слушаю? Так чего вы… — Это я вас слушаю, — перебил ее голос, — и спрашиваю: что вы можете сказать мне по этому поводу? Низкий ровный голос пока что не угрожал ей, не стращал, только спрашивал, правда, тон его стал чуть более резким, и от этого ей стало почему-то особенно страшно, и она попыталась оправдаться, на какой-то миг забыв о бесценной броши, на которую сама навела этого «скота, подонка, не имеющего за душой ни капли совести». — Видите ли, — заторопилась Ирина Михайловна, — я этого торгаша узнала совершенно случайно. Он сам на меня вышел. Предложил рыжевье. Мне-то оно ни к чему, вот я и переправила его Часовщикову. Если бы я… — Меня это не интересует. Рекомендовали его вы, и отвечать за пропавшие деньги будете тоже вы. — Но почему?.. — искренне возмутилась Лисицкая. — Ведь я же… — Оставим эти «я же, вы же»! — оборвал ее голос. — Надеюсь, сумма, которая была запрошена за монеты, вам известна. Так вот, если вы мне ее не возместите, то пеняйте на себя. Арон меня больше не интересует. А вот деньги, до последней копейки, чтобы были переданы мне сразу же после этого вашего рейса. «Крым», кажется, сегодня отходит? — Да, — вяло ответила Ирина Михайловна. — Ну и прекрасно. Я вам буду звонить. В трубке послышался отбой, а Ирина Михайловна все продолжала держать ее около уха, словно надеясь, что сквозь короткие гудки прорвется этот ровный низкий мужской голос и скажет с усмешкой: «Ну что, старуха, здорово испугалась? То-то. Ну не боись, пошутил я». Однако чуда не происходило, и Лисицкая медленно, все так же держа трубку в руке, опустилась на плюшевый пуховичок, что уютно примостился около телефонного столика. Надо было обдумать все это, понять, в конце концов, предпринять что-то. Но что? Что-о-о?! Она с размаху швырнула трубку на рычажки, заорала: — Мать! Взлохмаченная, с помятым ото сна лицом, в цветастом неряшливом халате прибежала Софья Яновна, спросила испуганно: — Чего ты, Иришенька? — Мать… — Ирина Михайловна закрыла лицо рукой, какое-то время сидела молча, потом подняла голову, ее красивый рот сжался в тонкую, жесткую линию, она пристально посмотрела на Софью Яновну, спросила, почти не разжимая губ: — Мать, у кого брошь? Ожидавшая услышать все, что угодно, но только не это, Софья Яновна дернулась словно ужаленная, халат распахнулся, открывая под собой не менее грязную, заношенную ночную рубашку, подскочила к дочери. — Ишь ты!.. Брошь ей! Я-то думала, что случилось, а она… — Мама, послушай… — Ирина Михайловна, пытаясь взять себя в руки, закусила губу, сказала тихо: — Послушай, мама, случилось несчастье, вернее… может случиться, если его не предотвратить. Понимаешь, и ты и я можем остаться без этой броши. Поверь мне. От этих слов и тона, каким они были сказаны, Софья Яновна притихла, испуганно посмотрела на дочь. — Ты хочешь сказать, что ее… — Она испуганно вытаращила глаза, замолчала и словно выдохнула: — Что ее могут украсть? — Да. Да, да! И пойми, дорога каждая минута! — закричала Ирина Михайловна. — Если эта брошьу тети Лизы, так надо немедленно, на такси, на чем хочешь мчаться туда. Можешь перепрятать ее куда угодно и кому угодно, но главное — спасти. Мать, паучок у тети Лизы? — Да, — почти неслышно ответила Софья Яновна и закрыла лицо руками. Ее сухонькие плечи вздрогнули, и она зашлась надрывным плачем.
XI
Казалось, что этой жаре никогда не будет конца. Вот уже который день подряд на небе не было ни облачка, раскаленное солнце безжалостно жгло изголодавшуюся по дождю землю, и если бы не заботливые руки одесситов, которые самозабвенно поливали деревья, газоны, цветы и кустарники, то… Даже пересытившиеся жарой отдыхающие, все чаще и чаще поговаривали о дожде, но он все не шел, и горожане, измочаленные этой невыносимой пыткой, с нетерпением ждали вечера, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. Но и вечер не приносил желаемой прохлады. На Привозе, что раскинул свои торговые ряды почти в самом центре города, несмотря на послеобеденную жару, было все так же шумно. Расторопные торговки звонкими, крикливыми голосами рекламировали свой товар, заламывая порой такую цену, что Саша Пашко только вздыхал, краем уха слушая весь этот несмолкающий торг, и удивленно качал головой: в пору его детства, когда приходилось самому приторговывать пойманными в море бычками, все это стоило гораздо дешевле. — Бычки, бычки!.. — на весь Привоз рекламировала свой подтухший товар толстая голосистая одесситка. — Свежие бычки! — И почем же? — изредка спрашивал кто-нибудь. — Три рубчика десяток, — не моргнув глазом, отвечала торговка. — Ого! — удивленно вздыхали любители черноморских бычков и тут же отходили, пытаясь найти что-нибудь подешевле. А вслед неслось: — Ишь ты, «ого»! А чего ж ты думала, я тебе ее даром отдам? Ишь дурней нашла. Да ты ее, рыбку-то, пиды спымай, а потом уже и «ого» говори. Бычки, бычки! Кому свеженькие бычки! Пашко, третий день дежуривший на Привозе, как музыку слушал весь этот неутихающий гомон, и в памяти будто наяву всплывала его босоногая Одесса, мама, с ее жилистыми, натруженными руками, отец, пропахший запахами послештормового моря, кефали, свежепотрошенной рыбы. «Господи, — думал Пашко, — да скажи кому-нибудь в ту пору, что десяток подтухших бычков будет стоить три рубля!..» Он улыбнулся этой нелепой мысли и представил, как над таким хохмарем смеялась бы вся Одесса. От этих воспоминаний потеплело на душе, Саша улыбнулся, прислонился к табачному киоску и, как кот на солнышке, прищурил глаза. Захотелось забыться и не думать ни о чем: ни о валютчиках, ни об Акуле, ни о Петухе, которого надо было во что бы то ни стало взять с поличным. Пашко уже третий день «вел» его, а результата никакого. Правда, вчера Петух долго торговался с каким-то грузином, и Пашко уже думал, что у них произойдет сделка, но они вдруг неожиданно расстались. Грузин пошел к «толкучке», а Петух сел на трамвай и поехал домой. Неожиданно Саша почувствовал, как кто-то пристроился рядом с ним. — Батник нужен? — Сколько? — Полтинник. — Гуляй, — тихо ответил Пашко. Он приоткрыл один глаз, посмотрел на торгаша: длинный худой парень с лицом, усыпанным прыщами, стоял сбоку от него и лениво жевал жвачку. Неожиданно торгаши зашевелились, кто-то громко сказал: «Мент!» — и Пашко увидел, как засуетился Петух, уже с полчаса околачивающийся здесь. «Молодец, Федорчук, вовремя сработал», — мысленно похвалил лейтенант постового. Вчера, после того как Пашко «проводил» Петуха, он сразу же поехал в управление, и после его доклада было выдвинуто предположение, что сегодня должна совершиться сделка, и Петух наверняка будет с валютой. По его же реакции на появление милиционера можно будет определить, «пустой» он или нет. Забеспокоился и парень с батниками. Подхватив большую спортивную сумку, кивнул торопливо: — Отвалю покаместь. Пашко проводил глазами удаляющуюся нескладную фигуру, осмотрелся. Торгаши рассосались, многие перекочевали на другую сторону. Петух, никогда не скрывавшийся при появлении дружинников или милиции, на этот раз тоже маячил вдалеке. «Ага, голубчик. Значит, покупателя ждешь. И монета с тобой. Иначе зачем бы прятаться?» Лейтенант поспешил к телефонной будке. — Нина Степановна? Докладывает Пашко. Засек на Привозе Петуха. Похоже, что товар при нем и ждет покупателя.Через лобовое стекло оперативной машины было видно, как засуетился, занервничал Петух, когда на трамвайной остановке показался среднего роста, плотно сбитый мужчина с огромной кепкой на голове, которую почему-то называли «аэродромом». Петух, зыркнув по сторонам и, по-видимому, не увидев опасности, быстро подошел к нему, что-то стал объяснять, размахивая руками. «Ишь ты! — удивилась Гридунова. — Действительно на петуха похож». — Нина Степановна, — паренек из комсомольского оперативного отряда, который последние дни работал вместе с Пашко, тронул Гридунову за плечо. — Это тот самый, что вчера торговался. Опять о чем-то заспорили Петух и покупатель. Потом они неожиданно успокоились и Петух начал что-то объяснять, для верности вычерчивая носком ботинка какие-то линии на асфальте. Грузин утвердительно кивал головой. — Вроде бы назначает место свидания. Петя, посмотри, где Пашко, — попросила Нина Степановна шофера. — А вон он, на солнышке греется. — Коля, давай быстро к нему и скажи, что если Петух и покупатель разъезжаться будут, то пускай он следует за покупателем на второй оперативной машине. Ясно? — Ясно, Нина Степановна. Петух, прочертив на асфальте последнюю линию, о чем-то спросил грузина. Тот ответил, они ударили друг друга по рукам и быстро разошлись в разные стороны. Через стекло было видно, как Петух своей прыгающей походкой почти подбежал к обочине тротуара, подняв руку, начал «голосовать». Свободных такси не было, частники не останавливались, и он, то и дело поглядывал на часы, поднимал руку перед каждой легковушкой. — Ишь ты, нервничает. Боится, видно, клиента потерять. Достав из сумочки зажигалку и пачку сигарет, Нина Степановна прикурила, глубоко затянувшись, закашлялась. Совсем еще молодой шофер, сразу же после армии пришедший в милицию, сказал сочувственно: — Говорят, курить вредно очень. Недавно врач по телевизору выступал. — Вот и не кури, — прокашлявшись, согласилась Нина Степановна. — Может, до ста лет проживешь. — Ее пальцы нервно закрутили сигарету. — Вот черти! Ни один не остановится. А вдруг и вправду человеку срочно надо. Наконец около «голосующего» притормозило бежевое такси. Петух бросился к машине, размахивая руками, начал просить шофера. Видно было, как водитель согласно кивнул головой, открыл дверцу… Вливаясь в поток, машины мчались по проспекту Шевченко. Нина Степановна, доверившись профессиональному мастерству Епифаныча, как в шутку называли не по возрасту серьезного, рассудительного шофера, закрыв глаза, думала о своем. Сегодня выпал радостный день: получила письмо, адресованное на управление. Писал ее «крестник», Виктор Ильчин: «Здравствуйте, Нина Степановна! Пишет Витя Ильчин. Помните такого? Так и хочется написать свою кличку, да рука не поднимается. Нина Степановна, не подумайте, что я из-за какой корысти пишу письмо — просто у меня скоро праздник: освобождаюсь подчистую. И иногда с ужасом думаю, что бы было, если б вы тогда не уговорили меня чистосердечно покаяться и во всем признаться — сидеть бы мне еще, Нина Степановна, да сидеть, а это… На днях получил письмо от Вани Бедолаги, пишет, что уже освободился, был у вас и вы помогли ему устроиться на судоремонтный. Замолотил, пишет, в первую получку 180 рэ. Немного продам этого фрайера: пишет, как деньги получил, так сразу же хотел вам цветов купить, а потом постеснялся, теперь ждет меня, чтобы вдвоем оформить это дело. Не прогоните, Нина Степановна? А со старым я завязал: прочно и навсегда. Спасибо за Люську, она пишет, что тоже была у вас, советовалась насчет меня и всей нашей жизни. Спасибо, что поддержали меня и не замарали перед ней, как в общем-то я того заслуживал. Родится у нас дочь, назовем Ниной. В честь вас…» Машину неожиданно занесло на повороте. Не удержавшись, Нина Степановна навалилась на шофера, сказала недовольно: — А поаккуратней нельзя? Епифаныч кивнул на идущую впереди «Волгу». — Я ж не виноват, что он такие виражи закладывает. Узенький переулок, куда свернула «Волга», далеко впереди заканчивался выходом на широкую магистраль. — Смотри, чтобы не ушел, — предупредила Гридунова. — Не уйдет. Неожиданно такси остановилось, из машины вылез Петух, зыркнул по сторонам и быстро прошел под арку дома. — Останови-ка здесь. Быстро за ним! — Гридунова на ходу выпрыгнула из машины, вбежала под ту же арку, где скрылся Петух. Сзади топал подбитыми ботинками шофер. Четыре больших каменных дома, замкнув собой огромный прямоугольник, образовали правильной формы колодец с большим сквером на дне. Дома были построены уже после войны, деревья, посаженные в то же время, успели вымахать до пятиэтажной высоты, и под каждым из них стояла лавочка. Нина Степановна осмотрелась. Во дворе-колодце играли дети, тут же сидели бабушки, зорко охраняя своих внучат и внучек. Немного в стороне от детской площадки, под огромным раскидистым тополем сидел Петух. Видимо, он уже успел успокоиться и теперь, закинув ногу на ногу, дымил длинной толстой сигаретой. «Ишь ты! — подивилась Гридунова. — Прямо бизнесмен какой». Она прошла на детскую площадку и, смешавшись с мамашами и бабками, прислонилась к стволу акации. Под аркой, как солдат на посту, маячил шофер. Покупатель появился неожиданно. Увидев Петуха, он заспешил к нему. Тот подвинулся на скамейке, раскрыл «дипломат», воровато оглянувшись, достал оттуда голубой кошелек. «Кажется, пора». Нина Степановна махнула рукой шоферу и не торопясь пошла к скамейке. С противоположной стороны приближались Пашко с двумя оперативниками. Первым поднял голову Петух. Он пристально посмотрел на приближавшуюся Гридунову, вероятно почуяв неладное, быстро обернулся назад. Увидев подходящих мужчин, несколько секунд помедлил, все еще не веря в случившееся, и вдруг неловким движением бросил голубой кошелек под скамейку. «Однако гусь… — недобро подумала о нем Гридунова. — Посмотрим, насколько тебя хватит. Улику сбросил…» Недовольно поднял голову грузин. Он не мог видеть приближающуюся сзади группу и поэтому спросил: — Ну, чего надо, женщина? Ступай, ступай прочь. — У вашего товарища кошелек упал. Не потеряли бы. — Спокойный голос Гридуновой показался неестественно тихим на фоне звонкого детского многоголосья. — Э-э, геноцвали… — Грузин, кряхтя, согнулся, полез было за кошельком, как вдруг увидел остановившихся позади скамейки людей. Он резко выпрямился, посмотрел на Петуха. — Э?.. — Я старший инспектор Гридунова. — Нина Степановна достала удостоверение. — А кошелек поднять все-таки надо. Видно было, как у грузина расширились глаза. Петух же продолжал безучастно сидеть на скамейке. — Это ваш кошелек? — повернувшись к нему, спросила она. — Нет. — Тогда ваш? От такой несправедливости у грузина бешено забегали глаза, он вскочил со скамейки. — Э-э-э… Ты что? Ты что?! — Он потянулся к Петуху. — За такие вещи знаешь что… Это его, его кошель! — Поднимите. Петух послушно нагнулся, достал из-под скамейки женский косметический кошелек.
На листе, лежавшем перед Гридуновой, было написано: «Рыбник Эдуард Самуилович. Кличка — Петух. Год рождения 1944-й. Уроженец города Черкассы. Образование высшее, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время работает экспедитором. Оклад 75 (семьдесят пять) рублей. Семейное положение — холост. Брак с Кухняренко Н. М. расторгнут в 1975 году». Шел второй час допроса, но его цель — «получение полных и объективно отражающих действительность показаний», как было написано в учебнике криминалистики, не была достигнута даже наполовину. — Эдуард Самуилович, так кто же все-таки вам дал это? — Гридунова кивнула на голубой косметический кошелек, лежащий на краю стола. — Я уже говорил: нашел в «Туристе». В ресторане. — Вместе с валютой? — Да. — Рыхлый и сникший, слегка лысеющий, Рыбник был похож на попавшегося в чужом огороде мальчишку. — Когда это было? — Два дня назад. — Могли бы узнать официанта, который вас обслуживал? — Вы это… Вы меня не поняли — я был в баре. И-и… немного пьян. — Крутите. Ох и крутите, Эдуард Самуилович! — Гридунова взяла кошелек, достала из него два клочка бумаги. На одном из них был расписан официальный, на другом рыночный курс валюты. Причем на клочке с рыночной ценой указывалась сумма советских рублей, которая должна быть получена при сделке. Отдельно доллары, франки, лиры. В косметическом кошельке был полный «компот» — всего на пятьсот инвалютных рублей. Записи четко соответствовали разложенным на столе денежным знакам. — Кто расписал вам курс? — Э-это было уже там, в-в кошельке. — От волнения Рыбник начал заикаться, его пухлые, усыпанные рыжими родинками пальцы нервно затеребили рубашку. — Правда, там было. — И вы это решили использовать для собственной наживы? — Да, да! — с радостью согласился Рыбник. «Ишь ты, джентльмен…» — с неприязнью подумала Гридунова. Эти два клочка бумаги были расписаны явно женской рукой. — Эдуард Самуилович, ну а почему вы, человек с высшим образованием, вдруг ушли из научно-исследовательского института и устроились простым агентом в заштатную контору? На новом месте что, больше платят? — Н-нет… вы понимаете. — Рыбник замялся, воровато посмотрел на Гридунову. — У меня не сложились отношения в институте, зажимали… — Неправда. О вас неплохо отзываются на прежнем месте работы. Мы запрашивали. — Зачем? — встрепенулся Рыбник. Потом вдруг опять сник, сказал тихо: — Ну-у, я не знаю… Мне казалось, что… Зазвонил телефон. Говорил Пашко, который в соседней комнате снимал показания с покупателя Чарошвили. — Нина Степановна, я закончил. — Признался? — Так точно. — Пусть кто-нибудь занесет протокол. Гридунова положила трубку, посмотрела на Рыбника. Тот выжидающе уставился на нее. Было видно, как напряглись пальцы на его руке, вытянулась и без того тонкая шея. В дверь постучали, вошел сержант, передав протокол допроса, тут же вышел. Не обращая внимания на ерзающего Рыбника, Нина Степановна быстро пробежала глазами убористые строки: «Я, Чарошвили Давид Георгиевич, прибыл в Одессу, чтобы сделать кое-какие покупки. Накупив подарки своим родным, знакомым и друзьям, я оставшееся время решил провести в комиссионных магазинах. Однажды ко мне подошел мужчина, позднее, как я узнал, он оказался Эдуардом Рыбником, и спросил, не нужна ли мне валюта. Я сказал, что нужна. «Сколько?» — спросил он. «Много», — ответил я. Тогда он записал номер моего телефона в гостинице и сказал, что мне позвонят в тот же вечер. Вечером я был в номере и ждал звонка. Примерно часов в восемь позвонили, говорила женщина. Она спросила, сколько мне нужно валюты. Я сказал. Тогда она назначила место встречи и сказала, что там меня будет ждать человек; им оказался Эдуард Рыбник…» Гридунова подняла голову, спросила жестко: — Кто звонил Чарошвили? — Я. — Неправда. Вот его показания. — Нина Степановна подвинула протокол допроса Рыбнику, увидела, как он буквально надвинулся на стол и стал пожирать глазами строку за строкой. Капелька пота выкатилась из-под его иссеченных реденьких волос, упала на стол. — К-кажется, я попросил звонить маму. Да. Она говорила с ним. — Он кивнул на протокол допроса Чарошвили. — Рыбник, Рыбник… — Нина Степановна тяжело вздохнула. — Вы хотите очную ставку с матерью? — Нет. Н-нет! — Рыбник сжался, затравленно посмотрел на Гридунову. — Я расскажу. Всю правду. — Он заторопился. — Эта валюта моя. Вся. — Где вы ее достали? — Часть дала Сербина, часть накопил. По мелочи. — Кто такая Сербина? — Наташа. Знакомая. — Адрес? Телефон? — Адреса не знаю, а телефон… — Рыбник судорожно потер лоб, цифра за цифрой назвал номер. — Это служебный? — Да. — Кто расписал курс? — Не знаю. Я ее просил. Наверно, она.
XII
«Крым» шел своим курсом на Ялту. Убаюканные бирюзовым небом и иссиня-черной гладью моря, на котором не было ни одной морщинки, радовались круизу пассажиры, а Ирина Михайловна, подобно зафлажкованной волчице, металась по судну, срывая свою злость на официантках и коренщицах, и не могла найти то единственно правильное решение, которое помогло бы вырваться из страшной неизвестности, что настигла ее после того страшного утреннего звонка. «Ах, Монгол! Ах, подонок! — почти шипела она, оставаясь наедине с собой. — Решил весь банк сорвать… Ну что ж, посмотрим, чья возьмет!» Теперь ее пугало все: и сможет ли мать перехватить до Монгола брошь, и то, как она будет расплачиваться за Часовщикова, — все. Впрочем, последнее ее волновало пока что меньше всего: при первой встрече, если таковая и произойдет, она как-нибудь отбрешется, насулит золотые горы, а потом… При этой мысли у нее злорадно растягивались губы. Потом она будет в Риме. Но главное сейчас паучок. Бриллиантовый паучок. «Господи, какая же я дура, что доверилась Монголу! Ведь видела, видела, что это за тип, а вот на тебе…» Совершенно выбитая из колеи всеми этими мыслями, Ирина Михайловна сослалась на головную боль и ушла к себе в каюту, где ее ждала в холодильнике непочатая бутылка коньяка. Умом она понимала, что не надо бы сейчас напиваться, да она и не хотела пить, но при всем этом прекрасно осознавала, что хочет она этого или нет, а бутылка коньяка будет вскоре откупорена, и она рюмка за рюмкой будет выцеживать тяжелый, вонючий коньяк, пока не придет пусть временное, но все-таки облегчение и все эти страшные мысли, от которых хотелось повеситься, отойдут на задний план. Заперевшись в каюте, она тут же сбросила туфли, отшвырнув их далеко в угол, открыла холодильник, извлекла из него бутылку «пятизвездочного армянского» и, прихватив низкую пузатую рюмку, тяжело плюхнулась в кресло, блаженно вытянув ноги. От первой же рюмки Ирина Михайловна почувствовала, как начал отступать сковывающий, гнетущий страх. Профессиональным движением она плеснула в рюмку еще коньяка, и тут в дверь постучали. Ирина Михайловна сунула бутылку с фужером за кресло, пробормотала несвязное «войдите». На пороге стояла Таня Быкова. Увидев молоденькую официантку, заставившую ее так испугаться, ее, директора ресторана, Лисицкая начала медленно приходить в ярость. Она пристально смотрела на Быкову, и ее тонкие, красивые ноздри едва заметно двигались. — Ну? — коротко бросила наконец. — Ирина Михайловна… — Я уже сорок лет Ирина Михайловна! — оборвала ее Лисицкая. — Короче можешь свою мысль разжевать? Не ожидавшая подобного, Таня опешила и, не зная, что ответить, замолчала, ошалело уставившись на свою начальницу. — Ну, чего молчишь? Рожай мыслишку-то. — Вы обещали девочкам дать выписку из новых таможенных правил. Так, может, я сейчас возьму? Чтобы успеть к политзанятиям подготовиться. — «Выписку… Из новых таможенных правил…» — передразнила Быкову успевшая захмелеть Ирина Михайловна. — А что это вы, собственно говоря, засуетились? Или, может, совесть не чиста? — Что-о? — в первую минуту даже не поняла Таня. — А то, что слышала! — оборвала ее Лисицкая. — Нечего овечкой прикидываться. А выписку завтра получите. Все ясно? — Да как вам не стыдно? — Лицо официантки побелело, она сжала кулачки и почти выкрикнула в злое красивое лицо: — Вы… Вы сами!.. А на нас… — И выбежала в коридор, хлопнув дверью так, что задрожала переборка. — Ишь ты!.. — выругалась Ирина Михайловна и достала из-за кресла бутылку. Теперь уже не было того страха перед неизвестностью, а только злая, лютая ненависть к Монголу тяжелым гнетом давила на мозги, не давала больше ни о чем думать.Пыльный, пропахший креозотом пристанционный поселок, куда Парфенов привез Монгола, был тих и безлюден. Монгол заставил Парфенова разузнать, где живет Лиза Яновна, и, только когда они разыскали ее покосившийся от старости дом и приметили место, где можно неплохо спрятаться, он вылез из машины и отпустил Николая обратно в Одессу. Оставшись один, забрался в полуразрушенный сарай и стал наблюдать за сморщенной, невысокого росточка старушкой, которая хлопотала по хозяйству. Где-то после полудня, когда раскаленное солнце заметно осело над степью, старушка вдруг засобиралась, сложила в соломенную кошелку какие-то крынки, яйца, еще что-то и, накинув на голову белый платок, засеменила со двора. Ключ от навесного замка, которым заперла хату, она сунула в щель около правого окна. Монгол дождался, пока старушка скроется из виду, и, воровато оглянувшись, выскользнул из сарая, быстро открыл дверь и, навесив замок так, чтобы было похоже, будто дом заперт снаружи, вошел в прохладную тишину хаты. Цепким взглядом он окинул старомодный, подточенный тлей буфет, громоздкий стол, покрытый чистенькой скатеркой, божницу в углу, допотопный шкаф, видно, самодельной работы. Вокруг стола и вдоль стены, которая окнами выходила во двор, стояли табуретки. На другой стене, над железной кроватью с потускневшими шишечками, в деревянных рамках висели выцветшие фотографии и вырезки из какого-то журнала. От всего этого веяло одиночеством и бедностью, и Монгол сначала далее остановился в растерянности, подумав, уж не надула ли его Ирина. Первый беглый осмотр за окнами и в буфете ничего не дал. Изредка Монгол выглядывал в окошко и, убедившись, что хозяйки еще нет, продолжал все так же методично, не пропуская ни одной расщелины в стенах, искать то единственное место, где должен был храниться бесценный «паучок». Прошло, наверное, не менее часа, Монгол уже перебрался к самому дальнему углу, от которого вела дверь в маленькую, с одним узеньким оконцем кухоньку, как вдруг, будто что подтолкнуло его, рванулся к окну, осторожно выглянул из-за шторки. В калитку входила Софья Яновна, мать Ирины. Остолбеневший в первую секунду, Монгол резко качнулся от окна, бесшумно отпрыгнул к двери, выскользнул в сени. Он заранее приметил место, где можно было бы скрыться в случае чего, и теперь, быстро поднявшись по рассохшейся, грубо сколоченной лестнице, нырнул в приоткрытую чердачную дверцу. «Черт! Откуда она здесь? Случайно приехала или Ирка навела? А зачем бы ей это? Неужели про этого барыгу пронюхала?» Вопросы один за другим лезли в голову, и он не мог ни на один из них ответить. Вскоре вернулась и хозяйка дома. Увидев гостью, защебетала, засуетилась, начала хлопотать по хозяйству, чтобы накрыть стол. Однако Софья Яновна резким, визгливым голосом оборвала ее, спросила грубо: — Где брошь? Она же в шкафу лежала. Затаившийся около лючка Монгол, услышав про брошь, невольно сжался. — Да дэжь ей быть, риднинька ты моя? — мягко сказала хозяйка. — Перепрятала я ее малость. — И тут же пояснила: — Плимянник туточки как-то приезжал, я ее и сховала от греха подальше. В сенцах она, в сенцах… Под стрехой. Погодь маненько, я пошукаю. Старушка вышла в сени, откинула от стены сваленный в кучу хлам и, подставив себе табуретку, вытащила из щели маленькую коробочку, завернутую в цветастую тряпицу. Подавшийся вперед Монгол увидел, как Софья Яновна открыла коробочку и достала засверкавшую в полутьме бриллиантовую брошь. У него перехватило дыхание, и он подался было вперед, но вовремя одумался и откачнулся подальше от люка. Теперь оставалось только ждать наиболее удобного момента. Монгол прикрыл глаза и услышал снизу горестный полушепот: — Ах Софка, Софка! Сгубила тебя жадность. Неужто все это на тот свет унесешь? — Заткнись! — оборвала ее Софья Яновна. И тут же спросила: — На Одессу скоро поезд? — Скоро, — ответила сестра и попросила тихо: — Може, погостюешь трошки? — Извини, некогда, — отрубила Лисицкая и засобиралась домой. Монгол дождался, когда они выйдут из дома, все так же бесшумно спустился с чердака и, удостоверившись, что его никто не видит, выскользнул через окошко во двор. Надежно прикрытый добротным париком, которым снабдила его Ирина, он спокойно дошел до станции, дождался, когда Лисицкая села в поезд, и, сунув проводнику пятерку, почти на ходу вскочил в следующий вагон. В Одессе он незаметно проводил ее до дома и, убедившись, что она по пути ни к кому не заходила, а следовательно, «паучок» при ней, спокойно отправился в свое логово, решив завтра же во что бы то ни стало заполучить брошь.
XIII
Проектный институт, где работала Наталья Сербина, помещался в вытянутом по фасаду пятиэтажном здании. Спросив у заспанного вахтера, как найти двадцать третью комнату, Гридунова поднялась на второй этаж и, рассматривая таблички, прикрепленные на дверях, пошла по коридору. У двадцать третьей комнаты остановилась, раздумывая, как лучше поступить. Можно было бы, конечно, зайти к начальству этого института и, предъявив удостоверение, официальным путем вызвать Сербину, а заодно и потребовать на нее характеристику. Валюта, которую та передала Рыбнику и клочок газеты, где со знанием дела был расписан валютный курс, давали право на это, но… Оставалось одно-единственное «но», которое Гридунова никогда не могла переступить, — она не ставила под удар человека до тех пор, пока точно не убеждалась в его виновности. А по поводу Сербиной она еще не могла сказать конкретное «да». Из соседней комнаты вышли две молодые женщины, остановились, оживленно доказывая что-то друг другу. — Извините, — сказала Нина Степановна, — мне нужна Наташа Сербина. Не могу найти ее. — Так вот же она здесь работает. — Одна из женщин показала на приоткрытую дверь и тут же крикнула: — Сербина! На выход! — Иду, — ответил мелодичный женский голос, и через минуту в дверях появилась высокая девушка лет двадцати пяти. В простеньком цветастом платье, легко охватывающем ее стройную фигуру, в отечественных туфлях, она меньше всего напоминала человека, хорошо знающего валютный курс. За долгие годы работы в милиции Нина Степановна убедилась, что, как бы истинный валютчик ни скрывал свое лицо, хоть одна черточка, пусть даже незаметная для постороннего глаза, но будет работать против него. Здесь же все было чисто. — Здравствуйте, — Гридунова встала между женщинами и Сербиной. — Это я вас вызвала. Давайте отойдем в сторону. Сербина недоуменно пожала плечами, кивнула согласно. — Если так надо… Не понимаю. — Я вам сейчас объясню. — Отойдя от женщин, Нина Степановна достала из сумочки удостоверение, предъявила его Сербиной. — Старший инспектор Гридунова. Нина Степановна. А вы — Наталья… — Юрьевна, — подсказала Сербина. До этой минуты безмятежная и спокойная, она за какую-то секунду неузнаваемо переменилась. Ее красивое лицо сжалось, стало бесцветным. Уловившая эту перемену, Нина Степановна хмыкнула про себя: «Ишь ты! Рыбник-то не соврал. А я, видно, нюх теряю». — Наталья Юрьевна, я не хотела тревожить ваше начальство, сначала нам самим с вами надо разобраться кое в чем. Вы бы не могли отпроситься до конца рабочего дня? — Да, да, сейчас, — заторопилась Сербина. — Одну минуту. Заскучавший было Епифаныч, открыл заднюю дверцу машины, окинул оценивающим взглядом Сербину, спросил: — Куда, товарищ майор? — В управление. Сникшая Сербина встрепенулась, рывком повернулась к Гридуновой. — Зачем?! — вырвалось у нее. — Надо разобраться, откуда вы достаете валюту. — К-какую валюту? — едва слышно спросила Сербина. — Давайте не будем водить друг друга за нос, Наталья Юрьевна. — Гридунова устало растерла виски, посмотрела на часы. — У меня сегодня был страшно тяжелый день. Вы Рыбника знаете? — спросила она. — Да. — Что вы можете рассказать о нем? — Ну-у, — Сербина замялась, потом сказала: — Что о нем говорить? Жалкий, безвольный, по уши влюбленный слизняк. — Он что, в вас влюблен? — Нет, что вы. — Сербина кончиками пальцев притронулась к вискам. — Ирину он любит. Извините, я таблетку выпью. Голова разболелась. — Она открыла черную лакированную сумочку, достала анальгин, выпила таблетку. — А кто она, эта Ирина? — спросила Гридунова. — Да как вам сказать… Красивая, очень эффектная женщина. На нее порой даже девчонки засматриваются. Она директором ресторана на «Крыме» работает. — Лисицкая?.. — невольно вырвалось у Гридуновой, и она внимательно посмотрела на Сербину. — Наталья Юрьевна, то, что вы говорите, очень серьезно. Вы, случаем, не пытаетесь ее оклеветать? — Нет. Что вы! Я правду говорю, — заторопилась Сербина. — Пусть меня накажут, пусть, но эту гадину я ненавижу. Ненавижу! Это она, она исковеркала мне жизнь… — Ее плечи затряслись, заплаканное лицо сжалось, стало некрасивым. — Пусть ей тоже будет плохо. — Что-то не совсем понимаю вас. — Гридунова достала платок, протянула его Сербиной. — Успокойтесь. Петя, — тронула она притихшего шофера за плечо, — поставь-ка машину в тихое место да погуляй немного. Через полчаса придешь. Когда Епифаныч прижал «Волгу» к тротуару и вылез из машины, Нина Степановна повернулась ко все еще хлюпающей носом Сербиной. — Давайте-ка, Наташа, по порядку. Откуда вы знаете Лисицкую? Почему она поломала вам жизнь? Только честно. Хорошо? — Да, да, конечно. Зачем мне врать. Стыдно, правда, очень. — Сербина опять притронулась к виску. — Голова что-то разболелась страшно. — Она опять зашуршала оберткой, закинув голову, проглотила таблетку. Нина Степановна почувствовала, как у нее тоже начинают покалывать виски, и она в глубине души позавидовала шоферу, который целых полчаса, ни о чем не думая, мог гулять по тенистому скверу. — Познакомилась я с ней три года назад, — раздался голос Сербиной, — я тогда как раз с мужем разводилась. — Почему разводились? — пытаясь собраться, спросила Гридунова. — Пил много. — Голос Сербиной стал глухим. — Хороший человек в общем-то, а пил. — Я все дома да дома торчала, а потом мне это надоело, а тут как раз подруга позвонила, сказала, что с хорошей компанией в ресторан идет. Приглашала. Ну, я пошла. В «Украине», кажется, мы тогда были. Одни девчонки. Человек пять. А Ирина вроде бы верховодила. Ну, притянула она чем-то меня, я и выложила ей всю свою беду. Муж, мол, пьяница, дома жизни нет, все деньги пропивает. А наплюй, она мне говорит. На черта он, мол, тебе нужен. А сама вина все подливает. Ну а потом мы поехали к ней домой, были какие-то мужчины, выпивка и… Как говорится, понесло-поехало. Опомнилась где-то через год… В общем, и мужа потеряла, и сама чуть на дно не скатилась. Она замолчала надолго, с тоской посмотрела в приспущенное окно. Понимая ее состояние, Нина Степановна помолчала тоже. Затем спросила: — Ну а теперь о Рыбнике. Где вы достали валюту, которую дали ему? Сербина тяжело вздохнула, потерла виски. — Это мои деньги, еще со старых времен лежали. Поймите, я с хорошим человеком познакомилась, а у него недавно был день рождения. Я и хотела ему подарок сделать. Кожаный пиджак. По старой памяти позвонила Ирине, спросила, где можно достать. Она обрадовалась звонку, говорит, приезжай, у меня есть. — У нее что, филиал «Березки»? — осторожно спросила Гридунова. — Ну-у, в общем-то да. Она же ведь за границей постоянно бывает. Вот. Ну я и поехала к ней. Показала она мне пиджак, я очень обрадовалась, а с собой у меня только двести рублей было. Даю ей, она мне и говорит, что, мол, потом целиком отдашь. Я у девчонок спрашивала, сколько стоит, сказали рублей двести пятьдесят. Подарила я этот пиджак, набрала оставшиеся деньги, приезжаю, чтобы отдать ей, а она на меня глаза вытаращила и говорит: «Ты что, дурой прикидываешься — двести пятьдесят за такую вещь? Да он на рынке вдвое дороже стоит». Ну, я просить стала, чтобы повременила долг, а она ни в какую. Говорит, что пиджак Эдькин и он требует деньги. — А может, действительно его? — Ну что вы! Он Иркин раб и исполнитель самой грязной работы. Ну вот. А потом ко мне на работу каждый день стал названивать Рыбник. Тоже деньги требовал. Грозил, что все расскажет моему начальнику. А где я возьму такую сумму? В общем, у меня еще со старых времен лежала эта валюта, и я швырнула ей в морду. — Но вы бы могли швырнуть и пиджак. — Не могла. — Сербина устало закрыла глаза. — Я люблю этого человека, а он так радовался подарку. — Она улыбнулась. — Мне вот перстень купил. Дальнейшее Нина Степановна слушала в глубоком раздумье… Лисицкая… «Так вот вы, оказывается, какая, Ирина Михайловна. И связь с Монголом у вас, по-видимому, была не совсем безупречна. Ну да ладно, об этом потом». Гридунова внимательно посмотрела на Сербину, спросила: — Наташа, а вы не знали бармена с «Советской Прибалтики» Валентина Приходько? Его еще Монголом звали. — Приходько? Нет. Не слышала. А что? — Да ничего. Спасибо за откровенность. Наташа смущенно улыбнулась. — Это вам спасибо. Когда Нина Степановна вернулась в управление, полковник Ермилов был еще у себя. Гридунова прошла к нему в кабинет и стала по порядку рассказывать про Сербину, Лисицкую, Рыбника. Полковник, слушая, уныло кивал головой и только в одном месте, когда она сказала, что у Петуха, кроме валюты Сербиной, была еще крупная сумма иностранных денег, встрепенулся, сказал устало: — Стоп. Давайте-ка проясним этот момент. Уставшая за день от жары и изматывающих опросов, Нина Степановна недоуменно посмотрела на Ермилова, пожала плечами. — А чего здесь, собственно, прояснять? Рыбник продавал импортные вещички и капвалюту, а барыш они, по-видимому, делили по договоренности. — Согласен, — кивнул Ермилов. — Вполне согласен с тем, что этот самый Рыбник, будучи заодно с Лисицкой, продавал вещи, приобретенные ею в загранке. Это логично. Но скажите вы мне, дорогой товарищ майор, когда это вы в Одессе видели, чтобы моряки или люди, которые бывают в загранпортах, продавали капвалюту, а не скупали ее? Лично я об этом слышу впервые. К тому же опять Лисицкая… Вам не кажется это странным?(Окончание в следующем выпуске)

Григорий КУСОЧКИН ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ

Еще ночь. Но, наверное, уже пора встречать утро… А теперь вверх еще чуть-чуть. Вот и можно выпустить одну лапу. Она получит капельку света и воздуха, станет крепче. И тогда зацеплюсь за камень. Радость пробуждения удесятеряет силы. Выберусь наверх и буду греться в первых солнечных лучах. Они самые полезные для меня, они самые ласковые… А потом я узнаю, как живут птицы. После прошлой темноты они были чем-то напуганы. Сегодня ночь прошла спокойно. Хорошо бы и дальше никто не мешал сладкому великолепию спокойствия… Да, так будет каждое утро. Так будет целую вечность. Как хорошо жить целую вечность, как хорошо каждый день пробуждаться первым и встречать утро. И всегда радоваться теплу и свету. А через десять ночей будет дождь, и я утолю жажду. Я искупаю свое тело под теплым дождем… Примчится ветер и огладит меня упругими струями… Ну пора… Что это?! Оно падает на меня! Оно горит! Нет, это не друг. Друг так не приходит. Друг никогда не приносил мне боль. Мне больно, больно! Вот поторопился. Теперь не уйти. Рядом скала… Мне больно!..» «Успел сработать аварийный маяк или нет?.. Хотя это сейчас не так уж и важно. Мозг цел, соображаю нормально, а тело… Гм… Странный фокус — ничего не чувствую. И трава вокруг высоченная, ничего не вижу. А зря выбрался из модуля, обратно уже не заползти. Интересно, а как же я выбрался? Руки и ноги переломаны… Или взрывом выбросило? Где-то в наколенном кармане аптечка. И не достать… Одна радость — воздух приятный, вкусный. И пейзаж, может быть, не хуже. А трава зеленая. Какой родной и приятный цвет… Лежу вроде бы спокойно, а голова кружится. Или землетрясение началось? Зона здесь сейсмостойкая. И все-таки спиной чувствую слабые толчки…» «Ловушка! Я в ловушке! С одной стороны скала, с другой — огонь! И странный запах — все чужое и неприятное. Зарыться и переждать? Может, огонь погаснет, пугающие запахи пропадут и тогда… Нет, останусь здесь. Огонь слабеет, и мне легче. И уже можно восстановить утраченное… Ой! Рядом что-то живое. Шевелится кто-то. И звуки издает непонятные. Вот сейчас настроюсь, вот сейчас… Да, живое. А какое маленькое, совсем маленький комочек биомассы. И сколько в нем боли, как оно страдает! Неужели в таком маленьком комочке может быть столько боли? Оно еще дышит, сопротивляется… Рискну. Огонь совсем потух и не страшен. Уже светло… Я только гляну…» «Уф! В глазах темнота. Чуть шею напряг и словно гору камней сдвинул. Утро-то какое! Жаль, птицы не поют. А то бы совсем как на Земле. Дома, на Волге. И ветер такой прохладный. Закрыть глаза, и… ты уже с дедом в лодке. А лодку покачивает на волне. Волна легкая и упрямая… Скрежет какой-то. Сознание теряю или мерещится?.. С правой стороны, кто-то есть! Тьфу, черт! Коряга торчит, а я напугался…» «Живое, а не двигается. Не может двигаться. Что-то в его системе разладилось. А мое тело уже восстанавливается… Как сложно его понять! Он меня боится, я ему неприятен. Вот какой ровный биоритм! А почему я ему неприятен? Я самый красивый, и мои сородичи лучшее из всего живого. Я никому и никогда не причинил зла… Он воспринимает мир так же, как и я. А какой маленький мозг! Этого мало даже для того, чтоб понять собственное существование. Но тогда какие силы принесли его сюда?.. Мои друзья приходили иначе. Они не падали с неба…» «А это ведь не коряга. Зверь какой-то. Крот, что ли, местный? Черно-бурое корявое тело… Вернее, часть тела. Синие щели, как узкие глаза, Может, он как айсберг? Маковка на поверхности, а под землей домина этажей на двадцать?.. А ведь мной любуется. Или обнюхивает, перед тем как сожрать? И странное ощущение. Я словно бы насквозь прозрачный. Гипнотизирует? Ну, этого-то я не боюсь. Могу заставить себя и вовсе отключиться. Да, не очень-то приятно, когда тебя вот-вот начнет жрать неизвестная тварь, а ты и шевельнуться не можешь. Правда, на психотренинге и не такое проглатывал… проглатывал. А теперь меня кто-то проглотит… Анекдот из черного-пречерного юмора…» «Какая у него богатая память! И как ловко он пытается ее скрыть…» «А скотинка уже прицеливается… Глупее смерти и не придумаешь. Скажут потом, что вот погиб как герой. И какой-нибудь заковыристый памятник поставят. А зверь-то очень интересный. Обнаружат его потом или нет? Или их тут целое стадо под землей пасется?.. Ну вот, и предсмертные галлюцинации начались. Чей-то ласковый голос. «Ты кто?..» Этого только и не хватало. Кровожадный и разговорчивый тиранозавр сейчас расскажет мне предсмертную сказку… Постой-ка! А с чего это вдруг он… или оно? — со мной по-русски заговорило… заговорил. А ведь и вправду заговорил. Может, вспомнить персидские сказки и, как одна прекрасная девица, потянуть время? А что? Попробую. Только с кем мне говорить? С этим бугром… горбом? Гм, веселенький собеседник неизвестного пола, роста и возраста…» — КТО ТЫ?.. Я жду ответа. — Ах да!.. Кто я? Я — человек! — А что такое «человек»? Система? Образ? Комплекс? Пока ты лишь сгусток энергии и биомассы. — Я гость на этой планете… А с кем я разговариваю? — Ты меня видишь. Я горб… гриб… бугор. Так ты меня видишь. Вот сейчас ты хочешь, чтоб я был деревом. А кого тебе приятно сейчас увидеть и услышать? Но я ни то и ни другое. Это ты так придумал… Не двигайся! Я чувствую, что смогу восстановить тебя. — Восстановить? А я думал, что ты меня уже перевариваешь. — У вашего мира такие законы? — Какие законы? — Хватать друг друга и переваривать. — Нет. В нашем мире законы справедливые. Но я не знаю, кто ты, и знаю другое: в людях еще таятся атавистические предрассудки. Необъяснимое рождает страх или агрессивность. Но многие из нас умеют держать свои чувства под контролем. — Какой интересный мир! А почему же ваше развитие не позволило избавиться от этих предрассудков?.. Вопрос понятен? Я правильно выразил понятие? — Вполне. — Тогда почему ты не отвечаешь? — Для того чтобы это объяснить, нужно знать историю, всю историю человечества. А я не специалист в этой области. Могу припомнить лишь самое главное. И то не очень полно. — Ты думай. Вспоминая, представляй, как это удобно твоему мозгу. Я пойму. Так даже лучше… — Меня отвлекает боль. На подавление ее уходит много сил. — Я помогу тебе. …Едва мне удалось зацепиться за какие-то смутные, неосознанные воспоминания, как стало легче. Открыл глаза, и боль тысячетонным прессом сдавила меня. Но словно бы какая чужая воля заставила вернуться к воспоминаниям… Словно глоток живой воды!.. Помог абориген? Или сам справился?.. Нет, сам не смог бы… Что дальше? Школьная программа по истории? С чего начать? Ну вот хотя бы… И распахнулась многокрасочная панорама! Сколько зелени и света! Голубизна озер пьет глубину неба!.. А оно такое необъятное и доброе, какое бывает только на Земле… Чем населить Землю? Выпустить высоченных страшил мезозоя? Нет, лучше так… Вон на солнечной полянке сидит голый волосатый человечек. Он только что разбил плоский камень, и получились две тоненькие зазубренные половинки. Они могут пригодиться… А вот целое племя греется у костра. Вокруг ледники и снега. Но людей спасает не только огонь, теперь они одеты. И всем племенем охотятся на мамонта. Серое мелькание неразборчивых титров… Вот еще дальше, еще… Стоп! Дух захватывало, когда видел это впервые. Рабы втаскивают многотонные глыбы выше и выше. Строят пирамиду. Адский, нечеловеческий труд! Прихоть фараона, не более… И памятник целой культуре на тысячелетия!.. Рушатся прекрасные дворцы — гибнет Карфаген… Удивительно красивый корабль плывет по морю. В его чреве отзывающиеся на стук музыкальным звуком тонкие амфоры… Римские легионеры против толпы восставших. Это не просто толпа — это народ, идущий на смерть, чтоб победить… Угрюмые картины средневековья. Бесцельные побоища. Воины, закованные с ног до головы в доспехи. Убивать, чтоб захватывать, захватывать, чтоб убивать и грабить. Мертвый взгляд крестоносца за железной маской и открытое голубоглазое лицо славянина… Глухие черные замки императоров и королей. А на белой известке церковной стены — чудо! — оживает фреска Джотто!.. Слышится страстный голос Данте!.. Мир строит и разрушается,мир борется и живет. Люди рождаются, чтоб умереть от чумы и холеры, погибнуть от меча или копья, сгореть в пламени костра на виду у многотысячной толпы… Всем на удивление! — холоп прыгает с колокольни, взмахнув самодельными крыльями… «…А в лето от Рождества Христова в…» — сгорбленная спина летописца, перо выводит слова, запечатлевшие время!.. Грохот пушечного залпа, и… белокрылый парусник роняет свои паруса-крылья в воду!.. Ползет неуклюжий паровозик, а над ним парит в облаках раскрашенный монгольфьер. Пушка бьет точнее и дальше. Корабли и паровозы одевают броню. А люди все строят и строят: дома и тюрьмы, мосты и пушки, железные дороги и башни, дворцы и бараки… Строят и разрушают. Но уже больше строят, чем разрушают… А вот самое страшное! Багровый сумрак над половиной планеты… И как лопнувший гигантский нарыв — ядовито-желтое облако атомного взрыва… Оплавленная стена дома, а на ней тень человека, который секунду назад был жив… А что же дальше? Конец?.. Последний титр в фильме?.. Нет! Не конец! Смеющийся ребенок бежит навстречу матери! Солнечная улыбка Гагарина! Светлые города и освещенный солнцем океанский простор… Космические корабли, уходящие один за другим в небо! Многоцветная радуга миров, которые соединили счастье и горе, радость и грусть!.. Все смешалось, закрутилось, понеслось в серую дымящуюся воронку… Память померкла, время остановилось… — Спи, восстанавливай силы. Я увидел много больше, чем вспомнилось тебе. Спи, я запомню твой мир, каким ты запомнил его… «Вот я и сплю… А сон какой-то странный. Я гол, словно новорожденный, и вижу себя как бы со стороны. Мое тело в коконе из матово-голубой светящейся паутины. Из темно-изумрудной дрожащей дымки к кокону тянутся теплые розовые пульсирующие жилки… Тело впитывает животворную силу, которая вливается через них. Разрушенный организм обретает прежние связи и форму. Но почему у меня сейчас не человеческое тело, каким я его знаю, а лишь одно горячее ярко-красное сердце и рядом темно-серый сгусток мозга?.. Услышали на корабле сигнал бедствия с посадочного модуля? Или я просто исчез с экранов? Нет, это все потом. Сейчас другое… как нашло меня это живое — разумное! — существо? Кто… или что оно такое? Сам он обнаружил место аварии или я нарушил его жилище?.. Вот снова слышу чей-то голос. Нет, не голос. Мысль, совет, приказ… Да, я сосредоточусь на своем теле. Все ответы потом, потом… Но я уже на пределе разумного состояния. Я распластан по поверхности тончайшей пленкой… или вытянут в одну очень хлипкую бесконечную нить… или придавлен скалой?.. Вокруг холодная толща планеты, чужой планеты!.. Сомнение змеей ползет в мозг, топит и засасывает, как липкая и чавкающая жижа болота… Обманул… Растворил меня в себе здешний разум, дав взамен сладкий, успокаивающий и отравляющий сон… Сон и ничего более. Только сон… Что же это? Плен?.. Или все-таки восстановление? Я уже не имею сил, чтобы стать человеком. У меня пропало желание быть им… А кем я буду потом? Человеком? Или сизым отростком неизвестно чего?.. Кого?.. Рабом, добывающим пищу господину?.. Клеткой, питающей его мозг?.. Щупальцем или глазом?.. Вот опять слово, совет, приказ!» — Ты сопротивляешься, и мне трудно. Расслабься… Твой корабль сжег мне половину тела. Я нашел силы, чтоб регенерировать, но сейчас многое от меня отрываешь ты. Мое тело не самое главное. Я хочу помочь тебе, и я это делаю. Твоя мысль-сомнение наносит вред нам обоим. Себе ты вредишь больше… В моей памяти много миров. Рассказы о них приносит мой друг. Я хочу, чтоб он был и твоим другом, не знаю только, когда он снова придет… Были и другие, с кем я находил общий язык. Но ты первый, кто ранит меня сомнением, неверием… Сомневаться в добре можно, когда перед тобой конкретное зло, когда перед тобой враг. И тогда добром будет только смерть врага или гибель зла!.. Твое сомнение — шаг, к обману. Не забывай — мы сейчас одна боль, одно желание — выжить! Моя и твоя боль слились вместе, чтоб родилась радость. Я могу вернуть тебя в прежнее состояние, отняв жизнь, уже переданную тебе. И мне станет легче. Но тогда ты погибнешь. А я совершу предательство… Темная стена ужаса накатила и схлынула. Остался один крик — отчаянный, безмолвный, страшный… — Погоди, не оставляй! Я теряю разум! Забываю себя! Забываю все! — Твои ощущения временные, тебе нужно быть таким. Иначе твой мозг разрушится и погибнет. И все мои усилия будут напрасны… — Ты не человек! Но скажи, кто ты? Ты не человек, но думаешь по-человечески! Так не бывает. Ответь мне!.. — Нам нельзя уходить в иные мысли, мы теряем время. Но я отвечу и, может быть, этим тоже помогу тебе… Да, я мыслю не по-человечески. Но ты сам захотел, чтоб мы мыслили одинаково, в одном биоритме… Где-то в твоей памяти мелькнула неясная идея… фраза… образ… О том, что люди никогда не смогут понять себя, смысл своего существования и что это под силу только иному разуму. Я помогаю тебе и, возможно, этим пытаюсь понять тебя… А еще ты хочешь знать… Да, нас много на этой планете, и мы не люди. В твоих понятиях есть слово «народ». Как народ мы едины! И другие так же, как и я, смогут понять тебя, твои мысли, слова, символы. Будь ты даже самым древним человеком, которого показала твоя память, то и тогда я смог бы объясниться с тобой. Мы живем тем, что ты называешь Добром. Добром и Единством. Для РАЗУМНЫХ СУЩЕСТВ это и есть справедливость!.. В истории твоей планеты было много страшного, злого, несправедливого. Но вопреки всему вы выжили. Значит, победило Добро, победила Справедливость. Я помог тебе и, по твоим меркам, поступил справедливо. Ответь мне тем же, и мы поймем друг друга. Никаких сомнений! Никаких сомнений в Добре и Разуме! Нигде и никогда! Иначе все и всегда будет напрасно… Все, я уже на пределе… Спи, это поможет нам обоим… Серые сумерки всплывали и таяли, едва ощутимый свет затенялся, темнело, сколько-то продолжалась ночь, снова приходил рассвет, а затем все опять скрывалось в черной прохладе… И так было долго, очень долго… И вот!.. Солнце высушило росу. Ветерок кольнул легким ознобом. Он пробудил бодрость и совсем прогнал вялость и остатки сна. Покатый склон освещенного солнцем зеленого холма. Внизу речка. А ведь почти как на Земле!.. Вон и остатки моего «орешка» — словно бы кто нарочно огородил искореженный металл посадочного модуля невысокой грядкой кустов… Наверно, сейчас появится поисковый робот… или сядет второй модуль? Вот опять словно подсказка со стороны. Да, я слышу: корабль посадили в сотне километров к югу отсюда. Да, я пойду на юг… — Я не могу, уйти не простившись. Где ты? Покажись хотя бы. Твои мысли я воспринимаю как мои собственные, как знакомый и приятный голос друга. Я наверняка вернусь к тебе. — Я знаю, что ты вернешься… — Я хочу говорить с тобой. «Интересно, как все перемешалось. Чувствую, что есть рядом кто-то живой и непонятный тебе, пока непонятный. А думаем мы одинаково…» — Так где же ты? — Взойди на вершину холма. Бегом к вершине!.. Что там? Что это такое? Сон или реальность?.. Да, это реальность, так же как и то, что я стою на вершине холма в своем привычном комбинезоне. На распахнутом до горизонта зеленом поле, почти упираясь в небо макушкой, высился неподвластный стихиям и времени могучий дуб… Совсем земной и такой знакомый!.. Да и не дуб это… Что-то переместилось, затуманилось… Широкая река, на берега которой вышли люди, много людей! Они смеются и протягивают друг другу руки… И сразу как с обрыва — глубина, бесконечная глубина космоса!.. Из неземной тиши, откуда-то из далекого-предалекого детства полилась песня, ласковая, нежная… Эту песню когда-то мать пела вместо колыбельной…

Владимир ЩЕРБАКОВ ЧЕТЫРЕ СТЕБЛЯ ЦИКОРИЯ

Пронзительно-ясно обрисованы белые глыбы на крутом склоне, прерывистая нить ручья, плес в лощине — и над всем этим по законам перспективы ты, твое лицо, твои косы. Ветер мнет куст ветлы, шепчет имя — Настя. В моей руке скользит живой вьюн. Я стою на подводном камне, чтобы не замочить закатанных до коленей брюк или, быть может, чтобы казаться выше. Мы оба следим за вьюном, и взгляды перекрещиваются и соприкасаются. Тайна этой минуты уходит и остается в памяти: холодная рыбья кожа, темный извив на запястье, подрагивающий хвост. К обрыву под холмом прилепилась печь для обжига известняка, она высилась как башня, и мы обходили ее стороной. Только раз взбежали мы на круглый верх печи, отдыхавшей от работы. Прикладывая ухо к кирпичной кладке, вслушивались в странные вздохи, доносившиеся из чрева. Тогда это и произошло. Настя сорвалась вниз. Я замер. Словно не я, а кто-то другой смотрел, как она падала. Как же это… Настя, Настя! В руке она сжимала цветы — четыре стебля цикория. У пода печи смертельный полет ее прервался. Она парила, как птица, над луговиной. Подол ее платьишка расправился. Или мерещилось мне это? Нет! Настя мягко опустилась на ноги и вот, живая и невредимая, стоит внизу и растерянно улыбается одними губами. Колдовство. Я же видел, как она сорвалась, как билось ее платье, как беспомощно раскрыла она рот, собираясь, наверное, что-то сказать или крикнуть! И потом невидимые руки будто бы поддержали ее и медленно, бережно опустили на землю. Трижды волшебна эта минута: бегу к Насте, захлебываясь от радости, кубарем скатываюсь к ее ногам, притрагиваюсь к ее плечу и замолкаю. Настя протягивает мне цветы — четыре стебля цикория. Неловко принимаю букет. Беру ее за руку. И тайна этой минуты уходит и остается в моей памяти. Точно сквозь матовое стекло проявляется прошлое. Бабкин палисадник, ленивый белый кот у крыльца, огненно-красный петух на деревянных перилах, ветла со скворечником. Школьные каникулы в деревне… Утро. Вечер. Утро. Дни, как стекляшки в мозаике, разного цвета: зеленые, голубые, ярко-желтые от солнца. — Это правда, что ты козу доить умеешь? — Губы Насти сдвигаются в сторону, справа образуют ямочку и складку, а я густо краснею. Опускаю голову, потом искоса наблюдаю за ней — она не смеется, нет, глаза ее, серые с синевой, смотрят серьезно, и только губы сложились в улыбку — так умеет только она, деревенская девочка с соседней слободы. — Я помогаю бабке, — говорю я. — Она старенькая и устает в поле. И еще готовит мне обед. — Смотри какой! Мы идем врозь, я делаю вид, что отворачиваюсь от ветра, она сама подходит ко мне, берет за руку, тянет за околицу — там волны хлебов в сизом цветне и тропа, ведущая к нашему ручью, к озеру. …Двое у опушки леса. Держатся за руки. Яркий извив падучей звезды над головами, зеленоватое послезакатное небо. Потом один из этих двоих предаст другого. Это буду я. А пока они вместе. И если вслушаться в слабые шорохи, кажется, удается разобрать слова. «Тих и спокоен край, в себе он замкнут: две створки — озеро и небосклон, как жемчуг, в раковине драгоценной мир заключен. — Вон месяц: спрятался, а сам забросил над ветлами серебряную сеть, он ловит звезды, но едва засветит, чтоб осмотреть улов, как мигом в сети попался он. — Ты смотришь в небо? — Да, звезда упала, блеснув светлей. — А я звезду на озере увидел, она летела к небу от земли, твоя звезда вниз с неба полетела навстречу к ней». Снова увидел я Настю только в пятьдесят седьмом, когда приехал к бабке на студенческие каникулы. Поезд гуднул за спиной и ушел к Узловой, а я выбрался на большак, за пять минут прошагал километр, свернул на знакомую с детства тропу, где к ногам жался пыльный подорожник, и скоро увидел провор у бабкиного дома. Бабка моя, Александра Степановна, была уже на ногах, хотя едва-едва занялась заря над Тормосинской слободой и над прудом еще стелилась ряднина тумана. Я поцеловал бабку, передал ей подарок — сверток с ситцем, проводил ее в поле на работу, потом долго сидел на крыльце; в десяти шагах от меня носились низом шальные деревенские ласточки, садились на камни, выступавшие из низкой гусиной травы, взлетали, показывая острые углы крыльев на полотнище зари. Я умылся, надел новую, недавно купленную матерью рубашку, пошел к той самой слободе, где встречал Настю когда-то. И увидел ее, и узнал, но прошел мимо, словно застенчивый преступник. Вот она, эта минута… С беспощадной ясностью до сего дня вижу Настю склоненной над старым деревянным корытом. Она синит белье. Высокие мальвы укрывают меня, за белыми крупными цветами ее платье, ее косынка, босые Настины ноги. У калитки палисадника плоский камень. Бревенчатая стена дома посерела от дождей. Из-под соломенной крыши вырывается ласточка. Я замедляю шаг. Тихо. Едва слышно плещется вода в корыте. Мгновение — и я прохожу мимо, не окликнув ее. Нет, в голове моей не успела сложиться определенная мысль. Я стал другим — вот и все. Вскоре я уехал, молча, не сказав ей ни слова, так и не повидав ее. А она осталась в селе, над которым, как и раньше, поднимались крылья огнистых закатов, густели ночи с запахами кошенины и полыни, с теплыми ветрами, с мимолетными вспышками июльских зарниц.
* * *
Наверное, есть в окружающем нас пространстве особый невидимый механизм времени. Чаша небосвода обманывает нас: там, где светятся красные, зеленые, желтые и синие огни, самих звезд уже нет. Они переместились на миллиарды километров, оставив запоздалые следы свои — призрачные светляки. Профессор Козырев, открывший вулканы на Луне, направил телескоп на пустое вроде бы место: в черную, ничем не примечательную точку. Он, правда, вычислил, что именно там должна находиться сейчас звезда. И получилось вот что: под стеклом прибора крутильные весы показали отклонение. Оставаясь незаметным глазу, далекий огненный шар подтолкнул их. Звезда дала о себе знать. Пронизывая прошлое, настоящее и будущее, невидимая сила заставляет все и вся изменяться: свиваются спирали — орбиты планет, приближаясь к светилу, вспыхивают на солнечном диске искры, появляются и исчезают пятна, ритмы их передаются Земле. Не солнечные ли циклы будят и мою память?.. Минуло одиннадцать лет. Рано утром сели мы в электричку, вышли на станции, название которой не сохранилось в памяти, прошли луговиной с километр, на опушке леса развели костер. Было нас семеро — трое бывших студентов вместе со мной, четверо девушек в соломенного цвета куртках, брюках, легких свитерах. Один из нас ушел с удочками к озеру и вернулся с большим сазаном. Сварили уху. Искупались. К вечеру транзистор расплескал целое море звуков. Танцевали на траве при чистом, ясном закатном свете. И ничто не казалось странным, и никто не мог сказать, что можно в танце, а что нельзя. Лицо девушки, обвившей мою шею, было пунцово-алым в закатном свете, глаза — темными. Голоса и смех, и тревожно чернел гребень леса под холмом. Потом все переменилось. То ли усталость была тому виной, то ли необыкновенный, настоянный на травах воздух. Я вышел из круга и побежал на холм. Над маковкой его еще висело солнце, а у подошвы сгустились тени. Подняв руки, я поймал странный мягкий свет заката. Мир менялся, становился неузнаваемым. И тогда я увидел ее, Настю. Там, где скат холма был круче, мелькнуло ее платье. Наверное, она только что упала с обрыва. И как тогда, я стоял и медлил, и молчал, и ждал. И снова что-то во мне встрепенулось и оборвалось. Кто-то взял меня за руку, кто-то спрашивал, что со мной, а мне нужна была добрая минута, чтобы вернуться к друзьям. И до слуха моего, как сквозь сон, донеслось хлопанье крыльев птицы, взлетавшей кругами над загривком холма. Чей-то насмешливый возглас: — Его напугал коршун! И в багряном небе, там, где смешалось алое, желтое, зеленое, над головой моей беззвучно кружили два широких распластанных птичьих крыла… …А колесница времени мчалась, мчалась, и я предъявлял пропуск и проходил на полигоны, где беззвучно, незримо светили в небо радары и взмывали ввысь ракеты с огненными хвостами. Позже, на втором круге времени, я показывал билет журналиста, и передо мной открывались двери институтов и лабораторий, библиотек и заводов. (Настеньке же не дали и паспорта, чтобы поехать в город. След ее затерялся в вихревой мгле времени.) Прижавшись порой лицом к стеклу городской квартиры, я шепчу стихи: «Меня защищает от прежних нападок пуховый платок твоего снегопада». Но как может защитить пуховый платок снегопада, если предательство совершено? Хотя, конечно, подлинного предателя уличить трудно: он незаметен, пружинист на ходу, всеяден и всепогоден.* * *
Почти всегда далекий свет воспоминаний меркнет, едва успевает открыться зеленый простор холмов, призрачное мелькание белых мотыльков над крапивой, чистые голубоватые плесы. И вот снова и снова желтые глаза улиц, огни далеких станций, ночные аэродромы. И встречи, и размышления, и усталость. А дома по вечерам — тусклое отражение моего лица в зеркале, исхлестанного друзьями и недругами. И немой вопрос, обращенный к себе, остается без ответа. Но память снова вернула меня в далекий день… Вечером я шел по улице с вечеринки, где много курили, говорили о книгах, работе, о пустяках. Об открытиях, которые изменяют будущее, иногда настоящее. И в такт моим шагам чей-то голос повторял: «Они изменяют и прошлое». А я возражал: «Нет. Всего-навсего оценку прошлого». И подумалось, что в нас может проснуться и заговорить одна-единственная клетка, доставшаяся нам по наследству даже от палеозоя. В этот вечер я заблудился: поднимались незнакомые дома с темными глазницами окон, фонари погасли. Я проплутал часа два, пока не вышел к знакомой улице. Дул сырой ветер. Дома по какой-то неожиданной ассоциации я вспомнил чистое озеро моего детства с водой цвета опала, светлый песок, движение рыб в глубине среди замшелых коряг, стеблей тростника и стрелолиста. Сжав голову руками, увидел будто наяву девочку над обрывом. Но теперь это было иначе: Настя была уже у самой подошвы холма, и мне казалось, что вот-вот она ударится о землю. Словно нужно было десять лет без малого, чтобы она пролетела несколько метров. Словно медленный бег колесницы времени мне был до сих пор недоступен, и я лишь наблюдал мелькание спиц. …Сон. Закрыв глаза, ныряешь в глубину, где медленно несет тебя холодный придонный поток, цепляешься за камни, чтобы дольше проплыть. Еще миг — и темнеет дно. Открыв глаза, различаешь зеленую дернину на противосолнечном его скате, красные летучие огни рыбьих плавников, клубящуюся муть ключа в песчаной воронке. Обшариваешь рачьи норы и мокрой головой раздвигаешь хрупкие ветловые ветки, щедро залитые водой с весны. Сон относит меня на три солнечных цикла. Я иду проселком, сворачиваю на тропу среди хлебов, взбираюсь на знакомый холм. О, я догадываюсь, что там должно произойти. Вот и знакомая печь для обжига известняка. Настя уже наверху, и я задыхаюсь, спешу к ней. Понимаю, что опоздал. Сбегаю вниз. Она упала, но я успеваю подставить руки. Ловлю ее, опускаю на землю. И сразу же, как это может быть только во сне, холм исчезает. Поднимается ветер, набегают облака — я не узнаю окрестность. Я силюсь вернуться туда и не могу найти дорогу. Но сон продолжается. Память не просто вернула меня в тот день, нет, она словно сделала петлю: был я здесь и там одновременно. Два мгновения… Первое: обрыв под зеленым загривком холма, падающая девочка. Второе: я подставляю руки, ловлю ее, опускаю на траву. Она протягивает мне букет (мне ли?) — четыре стебля цикория. И потом я силюсь сообразить (и тоже во сне!), как такое может статься. И спорю с невидимым человеком, который похож на телепата, выступавшего некогда на сцене. Он будто бы убеждает меня, что и на расстоянии можно воздействовать биополем, можно передвигать предметы силой взгляда, преодолевать время, переноситься в пространстве — телепортироваться. А я возражаю ему: нет, мол, надо искать другие причины. Если моя энергия проявилась случайно там, в прошлом, то и оттуда в наше сегодня тоже должно что-то перейти. Да, я думал и думаю, что энергию можно уравновесить массой. Тогда должно появиться нечто оттуда, из того давнего дня. Случай особый, редкостный, но лучше уж допустить взаимопроникновение, чем двойную телепортацию: в пространстве и времени. Этим и кончился странный сон. Просыпаюсь — за окном дрожат листья от ударов капель. Низкая туча закрыла небо. Слепой рассвет, от мокрых клейких листьев в комнату прокралась тонкая пахучая сырость. Двор за окном зелен и сумрачен. Но утренняя вереница машин уже начала свой неотразимый бег, и с шоссе доносится приглушенный гул. Что-то случилось со мной. Я встрепенулся: рядом, на столе… Что это?.. Пучок сухой травы. Изумленно рассматриваю его. Четыре стебля цикория с высохшими добела цветками. Прикасаюсь пальцами и ощущаю точно покалывание. Колет ноги скошенный луг; колки сухие стебли цветов, а если осторожно взять их в руки, то они шуршат и позванивают, чуткое ухо способно уловить звуки… «Тих и спокоен край, в себе он замкнут: две створки — озеро и небосклон, как жемчуг, в раковине драгоценной мир заключен… — Ты смотришь в небо? — Да, звезда упала, блеснув светлей. — А я звезду в озере увидел, она летела к небу от земли, твоя звезда вниз с неба полетела навстречу к ней». У каждого есть затаенная сила, которая проявляется как порыв, как действие, но чаще невидимо, незримо для других. Колесница времени описала невообразимо широкий круг и вернулась, и я коснулся ее. А может быть, поймал взглядом ее тень. Все, что я мог сделать. И для того, чтобы воочию увидеть тот день, должно было миновать три солнечных цикла. Теперь я знал, кто поддержал тогда Настю над обрывом. Оттуда, из вихревой мглы времени, невидимо, незримо я вынес четыре сухих стебля цикория, уравновесивших энергию. …Букет Насти почти невесом. Для меня это последняя весть из прошлого.
Игорь РОСОХОВАТСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ

Солнце давно зашло, закатилось огненным шаром за горизонт, оставив в остывающем воздухе рассеянные волны энергии. Мне их явно не хватает для подзарядки. Я лечу уже свыше шести часов, и энергия в моих аккумуляторах изрядно истощилась. Появились неприятные покалывания ниже груди в блоке «с» — человек назвал бы их «голодными болями в желудке». Внимательно оглядываю с высоты морской простор и замечаю пассажирский лайнер на подводных крыльях. Он идет в направлении моего полета, несется по темным волнам, как белая чайка, излучая волны музыки. Догоняю его без труда, незаметно опускаюсь на верхней палубе и выхожу на корму, превращенную сейчас в танцплощадку. Словно сквозь живые волны, прохожу сквозь толпу нарядно одетых людей, огибаю танцующие пары и спускаюсь на нижнюю палубу по трапу, покрытому мягкой дорожкой. Отсюда ступеньки ведут в машинное отделение. И вот мой запас энергии пополнен от генератора. Приятная теплота и бодрость разливаются по всему телу, индекс готовности пришел в норму. Кончиками пальцев слегка касаясь надраенных до ослепительного блеска поручней, взбегаю — а мог бы взлететь, вызвав повышенный интерес к своей особе, — на верхнюю палубу. Навстречу спешит, улыбаясь во весь рот, загорелый высокий мужчина лет пятидесяти. — Добрый вечер, сосед! — обрадованно восклицает он. Несколько секунд перебираю в памяти знакомых, но он уже понял, что обознался, извиняется. — Ничего, ничего, рад знакомству с вами, — заверяю его одной из фраз «Учебника поведения для сигомов». Он принимает мои слова всерьез и предлагает: — Так закрепим знакомство? — протягивает мне руку. — Максим. В шахматы играете? Я мог бы отделаться от него другой фразой из того же учебника, но столько радушия и нетерпеливого желания сыграть звучало в голосе Максима, что я решаю пожертвовать каким-то часом, чтобы доставить ему удовольствие. Иду вслед за Максимом, замечаю нацеленные на меня любопытные, иногда быстрые, косые, скользящие, а иногда откровенно-настойчивые взгляды женщин. Что ж, благодаря создателям мне достался неплохой внешний облик, что должно было, по их мнению, способствовать общению с людьми. Проходим по палубе к шахматному салону. Здесь сидит много людей, в основном пожилых мужчин. Впрочем, встречаются и молодые и женщины. Имеется лишь один свободный столик, но кресло около него занято — девочка дошкольного возраста устроила на нем спальню для кукол. — Ты с кем здесь? — спрашивает ее мой новый знакомец. — С дедушкой. Вон он за тем столиком. — Края губ у девочки загнуты вверх, что придает лицу смешливо-задорное выражение. И тут же, видимо, не найдя в нас ничего заслуживающего внимания, девочка отворачивается, надевает на куклу пестрый лоскуток, подносит ее к зеркальцу. — Иди к дедушке, — говорит Максим и сдвигает разлатые свои брови. — Он заждался и потерял тебя из виду. — Нет, дядя, вы ошибаетесь — он занят, ему не до меня. Вдруг она как-то совсем не по-детски, искоса взглядывает на нас, спрашивает: — Я вам мешаю? Хотите играть? — Мешаешь, — строго говорит Максим. — Почему бы тебе не пойти в детский салон, не поиграть с другими ребятами? — Уж больно вы непреклонный, — упрекаю я его, когда девочка с тяжким вздохом уходит. — Больше, чем невнимание, детям вредит вседозволенность, — ворчит он, усаживаясь за столик. Мне хочется возразить ему, я думаю: наверное, он не очень любит детей, смотрит на них как на помеху. Расставляя фигурки, я придумываю, как бы незаметнее дать ему фору. На восьмом ходу подставляю под удар слона. Максим не преминул воспользоваться моей «оплошностью». Затем даю ему возможность образовать проходную пешку на правом фланге. Мне кажется, что все идет по задуманному, но внезапно встречаю его удивленно-насмешливый взгляд: — Поддаетесь? Зачем? Пошутил? Случайно попал в цель или догадался? Выходит, я недооценил его. — Ну что вы? — машу рукой, но он только качает головой: — Я не новичок в шахматах. Мы играем в совершенно разных категориях. Могли бы хоть предупредить… Такое случается со мной часто: хочу поступить поделикатнее, а кого-то обижаю. — Видите ли… — начал я, но его глаза сузились и как бы затвердели, вглядываясь в меня. — Вы сигом? — спрашивает он быстро. Я утвердительно киваю. — Как это я сразу не догадался? — А что во мне такого… приметного? Он не успевает погасить улыбку: — Ничего особенного. Мелкие детали… Не скрывая недоверия, в упор смотрю на него. Он отводит взгляд к иллюминатору, где на темных волнах вспыхивают и бегут блики, его глаза все еще прищурены, будто он и там что-то рассматривает. И когда он наконец взглядывает на меня, глаза остаются прищуренными. Догадываюсь: у него созрел какой-то замысел, какой-то важный вопрос ко мне. — Я сказал вам правду. Следил за всеми дискуссиями в печати еще до… Ну, словом, когда вас только задумывали и обсуждали саму проблему создания такого существа… И одна мысль сидела во мне, как заноза… А потом, когда вас уже начали создавать, когда появился первый сигом Сын, второй — Ант, третий — Юрий, — видите, помню всех поименно, — я мечтал встретить кого-то из вас и задать вопрос… И вот наконец… Даже не верится… Его рука зачем-то потянулась к пешке, замерла. Широкая сильная кисть неподвижна, только пальцы чуть вздрагивают, поглаживая фигурку. «О чем он собирается спросить? — думаю я. — Скорее всего задаст один из обычных вопросов: например, правду ли говорят вот о такой-то способности сигомов? Можете ли вы то? Можете ли вы это? Правда ли, что вы бессмертны? Этот вопрос особенно интересует людей — и по вполне понятным причинам. Как вам живется среди людей? Одни вопросы, чтобы что-то выяснить, удовлетворить любопытство. Другие — чтобы потом вспоминать: вот что мне однажды сказал сигом. Третьи — чтобы заглушить тревогу: а не опасны ли эти могущественные искусственные существа? И есть еще вопросы иной группы, призванные смягчить, заглушить мысли о собственном несовершенстве… Конечно, я мог бы просто заглянуть в его мозг, прочесть его мысли. Но это бы означало нарушить запрет: без крайней необходимости не проникать в интимные тайны человека». — Так о чем же вы хотели спросить? Его темные небольшие глаза, словно буравчики, заглядывали в меня. — Только не обижайтесь, ладно. Видите ли, я по профессии школьный учитель, а ребята — это такие любопытные люди… В спорах с ними часто задумываешься над тем, над чем прежде не задумывался… — Мягкая, добрая улыбка на мгновение преображает его напряженное лицо, и я понимаю, что ошибался, подозревая его в нелюбви или безразличии к детям. — Я читал о различных ваших совершенствах. Здесь все закономерно, ведь мы вас придумывали, как бы пытаясь восполнить все, чем нас обделила природа. Но перехитрить или просто подправить природу чрезвычайно сложно. Видимое может обернуться совсем другой стороной… — У нас мало времени, — решаюсь напомнить я. — Да, да, извините. Хочу спросить вас… Он поводит плечами и вдруг сутулится, словно становится меньше. И говорит так тихо и сокровенно, будто обращается не ко мне, а к самому себе: — В принципе бессмертие и всемогущество — это хорошо. Но хорошо ли быть бессмертным и могущественным? Нравится ли вам ваша бесконечная жизнь? Опасаясь, что я неправильно пойму, он быстро добавляет: — Жизнь человека коротка, а потому и неповторима. Это заставляет ценить каждый миг любви, грусти, веселья. Вот я думаю: успею ли перевоспитать Петю? Закончит ли институт Сергей? Завершу ли начатую работу? Я всегда спешу, понимаете? Острее чувствую радость и боль. Мне никогда не бывает скучно, понимаете? Я киваю головой: что ж, обычный вопрос из категории так называемых «философских». — Понял вас. Вы хотите знать, не скучно ли, не тягостно ли быть бессмертным; есть ли в бессмертии не только смысл, но и приятность? Его шея напрягается, кадык двигается, на смуглых плитах скул проступает румянец. Мой контрвопрос попал в цель. — Нет, не скучно, не тягостно. Ведь время жизни зависит от цели жизни… Максим морщит лоб, вспоминает читанное и слышанное… — В этом отношении все обстоит довольно просто и однозначно. Природа создавала человека для тех же «целей», что и других животных: для борьбы за существование в условиях ограниченного пространства одной планеты. На этом пути в процессе эволюции должны были появиться и выкристаллизоваться наиболее совершенные варианты информационных систем — живых организмов. Отсюда и короткий срок жизни, спасающий планету от перенаселения устаревшими формами, необходимый для быстрого перебора вариантов. Но вы все это знаете лучше меня, — я решил ему польстить, — и нет нужды говорить об этом подробно. А меня и других сигомов вы, люди, создавали для иной цели — познания и совершенствования окружающего вас мира. Мир этот огромен, разнообразен, сложен, и, чтобы успешно познавать его, нужен другой организм и другие сроки. А уж познание и творчество, как мы знаем, надоесть не могут… Встречаю его колючий — из-под бровей — взгляд, и мне становится стыдно. Да, да, я сказал совсем не то, что ему нужно. Эта моя проклятая прямолинейность совсем не годится в разговорах с людьми. Ведь он спрашивал не просто для того, чтобы получить информацию. Его, как и других людей, страшит краткость жизни, ему нужно все время как-то оправдывать ее, утешать себя. Он и ко мне обратился за УТЕШЕНИЕМ. И я, созданный такими же существами, как он, являющийся воплощением их мечты о всемогуществе и бессмертии, обязан был придумать утешение… — Впрочем, — мямлю я, — бывают у меня мучительные минуты, часы… И опять я недооценил Максима. Он легко улыбается, как тогда, когда говорил о детях: — Благодарю. Вы дали исчерпывающий ответ, хотя… — он не удержался от выпада, — есть на свете вещи поважнее бессмертия… Странная эта фраза застряла в моей памяти, хотя я представлял, каково ему жить, помня о близкой смерти. И ведь еще нужно ему, школьному учителю, утешать других, разъяснять, вселять веру. Мог бы я так? Сильнейший толчок едва не сбил меня с ног. Успеваю подхватить и поддержать Максима. Шахматные фигурки с дробным стуком рассыпаются по полу, который вмиг становится наклонным. Раздается скрежет металла, треск пластмассы: все это я слышу еще до того, как включилась тревожная сирена. Из динамиков слышится успокаивающий голос: лайнер налетел на покинутый баркас, водолазы уже начали заделывать пробоину, пассажиров просят не волноваться. Но по изменившемуся, надрывному шуму двигателей, по тонкому свисту насосов понимаю, что авария гораздо серьезней, чем о ней говорят. Усаживая Максима в кресло, говорю: «Извините», — и бросаюсь на палубу. Дорогу преграждает человек в форменке. — Помогу водолазам. Он мотает головой: — Судно тонет. Спускайтесь к спасательным шлюпкам. По радио начинают передавать обращение к пассажирам: не волнуйтесь, возьмите самое необходимое, проходите по левому борту к шлюпкам. Оказывается, худшее еще впереди. Часть шлюпок смыло и унесло волнами, оставшиеся не вмещают всех пассажиров. А спасательные суда и вертолеты смогут прибыть лишь через полтора часа. Температура воды за бортом — всего шесть градусов по Цельсию. Первыми, естественно, сажают в шлюпки детей, стариков, женщин. Некоторые пассажиры помогают морякам. Здесь я снова встречаюсь с Максимом. Он передает стоящему в шлюпке матросу девочку, которую мы повстречали в шахматном салоне. Девочку бьет мелкая дрожь, она всхлипывает, а Максим говорит ей что-то веселое, его полные губы даже складываются в подобие улыбки. — Теперь вы, — говорит матрос и протягивает ему руку. Максим оглядывается, замечает меня, окликает: — Давайте в шлюпку! Предупредительно подымаю руку и указываю взглядом на небо. Он понимает меня. — Быстрей, это последняя шлюпка, — торопит его матрос. «И последнее место», — думаю я, глядя на переполненное суденышко, пляшущее на крутой волне. Держась за поручень трапа, Максим становится ногой на борт шлюпки, но тут он замечает еще одного человека, с трудом взбирающегося на палубу. Это глубокий старик, худой, с лицом землистого цвета. Одна нога у него волочится. Хватаясь за надраенные поручни, он с трудом подтягивает ее. И я вижу: при самых благоприятных обстоятельствах ему остается жить считанные месяцы… Максим бросается к старику, ведет его, почти несет к трапу. Матрос растерянно смотрит на них, но какой-то другой мужчина уже встает на борт, подхватывает старика и помогает ему спуститься в шлюпку. Теперь и Максим понимает: места в шлюпке для него не остается. Хорошо вижу испуг на его лице. Но, и моему удивлению, он быстро пересиливает страх, вытаскивает из кармана сверток, бросает матросу: — Передайте по адресу, там написано. — А вы? — За меня не беспокойтесь. Я был рекордсменом по плаванию, стайером. — И чтобы прекратить бесполезные разговоры и мучительные свои сомнения, он с силой отталкивает шлюпку, а когда она отходит немного, прыгает в воду. Уже по первым взмахам его рук определяю, что он едва умеет держаться на воде. Да и самый опытный пловец долго не выдержал бы в таком холоде. В этот момент лайнер заваливается на борт. Слышится громкий свист, вой, чмоканье — это вода врывается во внутренние помещения, выдавливая воздух… Едва успеваю взлететь, выхватываю из воронки Максима, отвесно взмываю ввысь. Низко плывущие облака окутывают нас мокрой пеленой. Чувствую, как дрожит в моих руках спасенный. — Держитесь, сейчас согреетесь, — говорю ему, переключая второй левый аккумулятор на подогрев. — Спасибо, — шепчет он посиневшими губами, глядя вниз, пытаясь увидеть море и лодки. — Хоть бы спасатели поспели… — Поспеют, они близко, — утешаю его. — Мои локаторы уже запеленговали шум винтов. Лечу навстречу этому шуму, думаю о Максиме. Пожалуй, больше всего меня поражает то, что он почти не размышлял, отдавая свое место в шлюпке старику. И загадка для меня заключается не только в том, что он пересилил главнейший закон программы для всех живых существ — страх перед смертью, что не колеблясь жертвовал своей короткой, своей бесценной и неповторимой жизнью ради чужого старика. Смог бы я, бессмертный, поступить так же? Но ради чего? Ведь и с точки зрения логики это крайне неразумный поступок. Старику остается жить совсем немного, а Максим — здоровый мужчина в расцвете сил. Что же подтолкнуло его на такое? Тормошу свою память, стараюсь найти в ней записи о схожих поступках людей, о которых когда-либо читал или слышал. Анализирую их, провожу сложнейшие подсчеты и… не нахожу убедительного объяснения. В конце концов не выдерживаю, спрашиваю: — Почему вы поступили так? Знали, что я могу спасти вас? В ответ слышатся странные звуки, похожие на кашель: Максим еще не отогрелся, ему еще трудно смеяться. Внезапно у меня мелькает догадка. Спешу высказать ее: — Старик похож на ваших родителей? — Как все старики. Мне кажется, что наконец-то понимаю причину. — Вы, так сказать, отдавали ему часть сыновнего долга, чтобы другие дети поступили когда-нибудь так же по отношению к вам? Он перестает смеяться, задумывается. Мне кажется, что я все же сумел вычислить его поступок. Да, в нем было что-то от высшей логики, которую я только начинаю постигать. Но он снова тихо и счастливо смеется, растравив мои сомнения, а потом говорит: — Я ничем не смогу отблагодарить вас. Разве что дам дельный совет… — Слушаю вас, — говорю нетерпеливо. — Не пытайтесь понять людей только с точки зрения логики. Странная фраза. И я невольно вспоминаю не менее странные слова, произнесенные им же: «Есть на свете вещи поважнее бессмертия…» Мы пробиваемся сквозь облака, и над нами вспыхивают крупные звезды. Максим поворачивает голову, сейчас его глаза в свете звезд кажутся большими. Он пытливо смотрит на меня, участливо спрашивает: — Устали? — Немного, — отвечаю. Мне стыдно сказать правду. Ведь выражение на моем лице, которое он принял за усталость, является отражением иного чувства. И название ему — зависть.
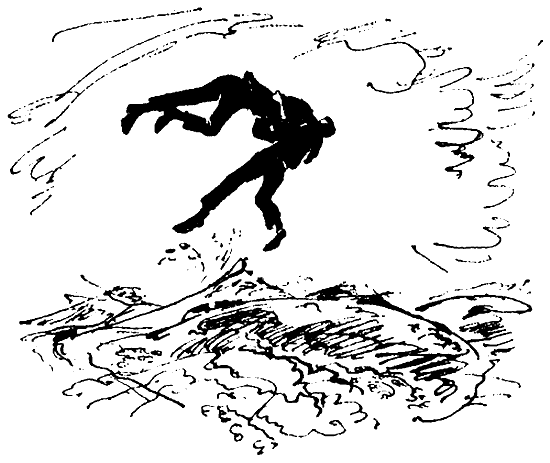
Виктор ПОЛОЖИЙ ЧТО-ТО НЕЛАДНО…

1
Устал», — спокойно подумал Адам Сезар, когда ему показалось, что корабль клюнул носом. «Устал, устал», — прикрыв веки и откинувшись в кресле, Сезар то ли пропел вслух, то ли бравурная мелодия пронеслась в его мозгу; он соединил ладони на затылке, напрягая все мышцы, сладко потянулся и сразу же расслабился, словно собирался зевнуть и уснуть. «Глория» содрогнулась снова. Какая-то нелепость, мотнул головой Сезар, это же не самолетик, который клюет носом при пустячных неисправностях, будто конь спотыкается во время бега. Такой дурацкий конь был у Ленгстонов: бежит-бежит, а потом вдруг останавливается — и ты летишь через голову, и смотришь на него уже снизу. Стоит, расставив передние ноги, ушами прядет, а взгляд вовсе не конский, с придурью; кажется, сейчас спокойно спросит: «Ты разве упал?» Так вот, когда в двигателе перебои и самолет, словно раненая птица, начинает дергаться, проваливаться, ты весь собираешься, но не напрягаешься, — нельзя закаменеть и притупить реакцию, становишься как электрический еж, и каждая иголка твоя пульсирует, будто жилка на виске; тогда ты живешь, чувствуешь, что живешь, и хочешь жить, и должен посадить самолет. В космосе такое исключено, в космосе если судьба уж отворачивается, то и мизерной неисправности достаточно, чтобы о тебе никогда больше не услышали. «А «Глория», — думал Сезар, — содрогаться не может при ее весе, при ее скорости». Он еще не верил ни красному сигналу опасности, тем более что вначале красный глаз вспыхивал в ритме здорового сердца, а потом точно сник, поугас, порозовел, задрожал с перебоями и наконец погас совсем, ни пронзительному звуковому сигналу, взявшему сперва самую высокую ноту, но постепенно умолкшему, ни липкой слабости, обволакивающей все тело, отчего оно, казалось, погрузилось в ванну с густым и теплым рассолом. «Удивительно, даже и поныне удивительно, как меня приняли в астронавты, — думал Сезар. — В детстве я твердо верил, что летчики и астронавты — люди железные, виражи и перегрузки для них — развлечение. У меня же всегда подкатывал к горлу ком, когда тренировочный самолет делал горку, и плыли круги перед глазами, когда машина набирала скорость. И, даже став взрослым, я сомневался в выводах медкомиссий: «Годен». Пока не убедился: другие испытывают то же, что и я. Все мы из одного теста. В принципе. И наше, астронавтов, назначение только наблюдать за автоматикой, ведущей корабль. Да вовремя корректировать программу. Это не самолетик, где штурвал в руках придает уверенности. Здесь электроника сама, без твоего вмешательства сделает нужное дело в миллион раз быстрее». А сейчас, похоже, и автоматика не в состоянии была что-либо изменить. Угасали большие и малые экраны, подсветки приборов, освещение в салоне, тьма, липкая, как и слабость, давила на веки. Сезар подошвами, спиной чувствовал, что «Глория» вибрирует, заваливаясь носовой частью. И тут он как бы со стороны увидел свой мозг, точнее, не мозг, а узкое и длинное табло, на котором быстро менялись зеленые буквы: «Этого не может быть. Случись любая неисправность, я бы уже не существовал. «Глория» не может клевать носом, я, наверное, сплю, и мне мерещится кошмар». Зеленые буквы бежали, а он стоял и отрешенно читал свои мысли. Давно такое не бредилось, считай, с тех пор, как перестал во сне летать, и сейчас он обо что-то зацепится, со стоном встряхнется, окончательно проснется и счастливо засмеется: надо же так… Важно только дождаться удара, не вскочить преждевременно, чтобы радость облегчения была полной. Удар получился несильный, и, видно, треснула не обшивка «Глории», а то, с чем она столкнулась.2
Адам вспомнил, что в подобных случаях инструкция предписывает принимать астроморф — круглые розовые таблетки, после которых астронавт способен полностью контролировать свое состояние и быть уверенным, что он не спит и не бредит, пусть там вселенная хоть навыворот выворачивается. Сезар подбросил на ладони ампулу, зачем-то осмотрел ее со всех сторон, перечитывая надписи, а потом ногтем большого пальца поддел пробку, вытянул ватку и выколотил розовую горошину. — Что же это я, — намеренно сказал вслух, чувствуя, однако, что звук с напряжением преодолевает какую-то преграду в горле. — Что же это я, — сказал еще громче и заворочался в кресле, — ужене контролирую себя? — И со злостью посмотрел на розовую таблетку, что каталась в пригоршне. Собственный голос принес ему облегчение. Оцепенение будто миновало, а неудовлетворение, всколыхнувшееся внутри, освежило мускулы. Он с удивлением увидел, что в салоне, источаемый стенками и потолком, ровно горит рабочий свет, все приборы и указатели тоже оказались исправными, а панель сообщала, что за бортом условия благоприятные. Адам Сезар пренебрежительно махнул рукой и глотнул астроморф. — И вы думаете, что-либо изменилось? — разведя руками и обращаясь к воображаемой аудитории, сказал он ровно через пять минут. — Совсем ничего. «Глория», которая должна лететь и быть уже далеко, стоит на твердом грунте, который по всем особенностям идентичен земному. «Глории» надлежало доставить аппаратуру на межпланетную станцию, а она, как конь Ленгстонов, взбрыкнула и айда домой. Или избрала планету, похожую на Землю. Ха-ха! Но техника, господа, не виновата, пусть директора фирм спят спокойно и не опасаются конкурентов. А вот руководству межгалактических сообщений стоит подумать, не отлетал ли своего пилот Адам Сезар. Представляете, у него галлюцинации. И настолько устойчивые, что он готов принять их за реальность. Таким не место среди нас! Ему может померещиться черт-те что… Именно, господа, черт-те что… Будто он стал богом и создал новый мир. И сейчас этот мир он осмотрит. Прошу внимания: включаю экран внешнего наблюдения. Ну вот, как и следовало ожидать: герой во сне возвращается в милое сердцу детство, в наиболее памятные места. Видите прямо перед собой широкую долину с редким кустарником? Здесь мальчик из бедной крестьянской семьи пас коров, своих и чужих. Посреди нее овражек, когда-то он казался глубоким, а сейчас просто ложбинка. И канава обмелела, кажется, и вовсе заросла осокой, низкой и вихристой. В той канаве когда-то тихо и незаметно текла вода, коричневые рыбешки с маленькими усиками скользили по самому дну, поднимая хвостиками песчинки. Каждой весной на межполосье Сезары и Ленгстоны сооружали запруду, набиралось озерцо, чтобы скотине было где напиться в жару, а мы к тому же и купались там голышом… Вот, значит, что вы видите перед собой, — смущенно закончил Сезар. Эта долина снилась ему очень часто такой, как запечатлелась в памяти. С пяти лет он изучил на ней каждую купину и каждую лисью нору, знал все редкие кусты ольхи и извилистые повороты ручья. И сейчас казалось, будто он возвратился в страну своего детства и, хотя минуло много лет, застал ее в прежнем виде. Сезар вздохнул и прикрыл веки. Мысли о предполагаемой аварии его больше не волновали. Сон — значит сон, и если над ним затеяли какой-то эксперимент, спасибо тому, кто приготовил такой подарок. А ведь как хотелось вырваться из этой долины! И еще мальчишкой знал: нелегко придется. Школа не гарантировала успеха, он ее посещал пять месяцев в году, не больше. Весной и осенью приходилось пасти стадо, а когда подрос, то и садиться за руль трактора, помогать отцу. В семье был один парень, и ему надлежало унаследовать ферму. Стать таким же, как парни Ленгстонов, Колхаузов, Ришаров. Родители взлелеяли эту мечту, им порой казалось, будто он лодырь, обманывает их надежды. Наверное, поэтому и решил вырваться в другой, более удивительный мир, к людям, в город, к чудесам. И нисколько не полагался на школу, знал, что одной грамотой не взять. Уповал на счастливый случай, рассчитывал, что какой-нибудь талант все же должен в нем прозреть. Сколько песен прогорланил в этой долине! Надеялся: будут ехать мимо артисты (Зачем? Куда? Смешно!), услышат голос и увезут с собой. А потом на его концерты зрители станут прорываться сквозь цепи полицейских, как было с тем парнем, о котором вычитал в газете. «О милая Рут, не жди меня, не зови…» О милая Рут, не жди меня, не зови!3
«Глория» приземлилась невдалеке от ручья, но телеглаз не мог заглянуть далеко, туда, за пригорок, где стояла их ферма, а также соседние — Ленгстонов, Колхаузов, Ришаров. Четверть века назад Сезар видел в последний раз эти места, прощаясь с ними навсегда: один талант у него обнаружился — здоровье и незаторможенные реакции в самых невероятных ситуациях. Сезар улыбнулся. Он легко освоился, чувствовал себя свободно, ничто ему не угрожало, и даже не возражал бы продлить этот прекрасный сон или как его можно еще назвать. Пускай снится. Решил: выйду сейчас и посмотрю, что осталось на месте родного дома. Его купили Ленгстоны для Николя, кажется, после смерти отца, когда мать перебралась к нему в городок астронавтов. То, что он увидел, взойдя на пригорок, не поразило и не удивило. Ни от их фермы, ни от соседних не осталось и следа. Вокруг, куда ни посмотри, лежала равнина, закрывая горизонт голубым туманом. Вязы исчезли, даже кустика нигде не было видно, а поля, где когда-то шелестела низкая лохматая пшеница, поспевала мясистая ботва свеклы, цвел горох, бобы, соя, затянуло такой же дикой травой, как и ложбинку, долину. Ему от этого не сделалось досадно, и он понял: ведь подсознательно в душе надеялся, желал, чтобы ничего здесь не уцелело, не могло причинить боль. И только в конце ложбинки, извивавшейся латинской буквой «зет», в полумиле отсюда стояло матовое сферическое сооружение без окон и дверей, смахивавшее на черепахоподобную «Глорию», а мимо него стлалась, сверкая, туго натянутая лента автострады. Сезар подумал: то, чего никогда не видел, присниться не может. Не смоделировал же он, в самом деле, во сне происшедшие изменения, таких способностей раньше за собой не замечал. Значит, корабль летит намеченным курсом, а психологи включили в программу полета какой-то скрытый эксперимент над астронавтом. Неизвестно только, полностью ли подчинено его, Сезара, сознание программе, или оно в состоянии проявлять и самостоятельность, хотя бы в определенных границах. Почувствовал легкое раздражение. Не потому, что оказался в зависимости у неизвестной силы; давно смирился, что астронавт — личность, зависимая от техники-автоматики, программы полета, неожиданных ситуаций. Есть лишь иллюзорность свободы: все, мол, в твоих и только в твоих руках. Это он понял еще на Земле задолго до старта, когда его несколько месяцев до седьмого пота гоняли на тренажерах и он злился на свое тело, организм, оболочку, такую, оказывается, неповоротливую, не способную без спецподготовки функционировать в космосе, когда думал, что земляне не годны быть детьми и хозяевами вселенной. Умственные и психические данные тестовались так, что казалось: будь в мозгу предохранители, их бы пришлось постоянно менять. Усилившееся раздражение вдруг толкнуло его вперед. Размашисто шагая в направлении сферического строения, несколько раз мысленно повторил: ну и что, там все предусмотрено, мне ведь ничего не угрожает, зачем же топтаться на месте… И, чтобы не переться напрямик, взял на сотню метров левее и пошел к автостраде, а по ней уже к куполу. Когда Сезар приблизился шагов на пятнадцать, матовая окружность сооружения покачнулась, а может, это ему просто показалось, поскольку на куполе бесшумно появился люк, а скорее дверь, только вогнутая, да к тому же возле самой земли, как в обыкновенном жилище, а на пороге встал мужчина… Сто чертей, это был Николя, его однолеток, Николя Ленгстон собственной персоной. Уж ленгстоновские крючковатые носы и выпученные черные глаза не спутаешь ни с какими другими; это был Николя, только имевший вид, как его сорокалетний отец. Именно таким тот запомнился Сезару, сорокалетний, а на вид все шестьдесят, фермерская работа, что ни говори, выдубливая кожу, как будто консервирует человека, очень непросто сразу определить возраст. Николя, скрестив руки на груди, ждал. А на куполе вспыхнуло зеленым: «Ленгстон. Заправка. Ремонт. Прокат». — Николя… — сказал Сезар и запнулся, попробовал пальцами воздух, подыскивая слова. Ленгстон невозмутимо ждал. Ну конечно, разве ему узнать своего бывшего друга и соседа спустя четверть века, да еще и в этом костюме… — Я Адам Сезар, Адам… ну помнишь?.. Ленгстон, переступив с ноги на ногу, протянул вперед правую руку. Сезар было потянулся пожать ее, но его опередил спокойный и немного безразличный голос: — Ваша карточка! Что желаете? Испортилась ваша громыхающая черепаха? Автопрокат? Медицинская помощь? Завтрак? Ваша карточка? — Николя? — Сезар почему-то устыдился, он невольно посмотрел на купол. «Омари Ленгстон» — светилось там. «Омари» — красным. — Николя, я знал твоего отца, Сержа Одно Ухо, он родился с одним ухом… Сезар растерянно потер лоб. «Не торопись, спокойно, спокойно, это они подбросили такую головоломку, пытаясь вывести меня из рабочего состояния, а я мигом и клюнул: детство, кони, долина… Купили за гроши. А ведь оно нереальное, подсознательное…» — Ваша карточка, — повторил Ленгстон. Карточку? А дудки! Хотя, если желаете карточку, прошу, немного поиграем, я еще не робот, не спятил в полете, наверное, и чувство юмора сохранилось. Вот вам и карточка, пожалуйста! Сезар положил на ладонь Ленгстона именную пластинку: координаты базы, задание… вплоть до группы крови, ткани и т. д. Здесь о нем все, знакомьтесь. Что-то похожее на удивление мелькнуло в невозмутимых глазах Ленгстона, когда тот пробежал взглядом по светло-голубой пластинке; пальцами он даже не касался, она лежала словно на гипсовой руке, а потом в щелках глаз вспыхнула неприкрытая настороженность. — У вас нет карточки? — Голос Ленгстона звучал почти требовательно, как у провинциального коммивояжера, желающего любым способом всучить покупателю товар. — Карточки с коэффициентом ваших интеллектуальных способностей, который ежегодно утверждает отделение координации общественного равновесия? Или вы просрочили срок? — Теперь в его голосе появились металлические нотки. Сезару сразу вспомнились молодчики из службы информации, плотные и веселые, компанейские парни в светлых рубашках, модных галстуках, идеально выглаженных костюмах, которые, если что-нибудь у них вызывало подозрение, становились как статуи и сыпали вопросами, не выслушивая ответы до конца, словно в каждом из них были вмонтированы внутри магнитофоны. «Да пошли вы все подальше! — хотелось выругаться Сезару; он почувствовал себя уставшим, даже истощенным, такое испытываешь, когда что-то с нетерпением ждешь, а потом оказывается — ждал-то напрасно. — Пошли вы все подальше: и коммивояжеры, и дебелые парни. Неужели там, на базе, болваны психологи до сих пор не поняли, что я устал и пора бы прекратить эти дурацкие шутки? Или все так и задумано? Пойду в «Глорию» и завалюсь спать, пусть лучше мне снится, что я сплю, черт возьми!» — Вы оставили карточку в своей «черепахе»? — донесся издали голос Ленгстона, кажется, более мягкий, успокаивающий, как у пастора. — Или потеряли? А может, у вас она с желтой полосой, и вы стыдитесь показывать? — Не забыл. Не имею. Не потерял, — выпрямился Сезар, взял двумя пальцами именную пластинку, сунул в нагрудный карман и затянул «молнию». Не сводя глаз с Ленгстона, с подчеркнутой вежливостью добавил: — Извините, я не знал, что в эти, вероятно, частные владения без какого-то вида пропуска входить нельзя. Извините, что нарушил покой. В ремонте не нуждаюсь. С вашего разрешения, вернусь в свою «черепаху». — Вас сейчас подвезут, — насмешливо бросил Ленгстон.4
«Вас сейчас подвезут». Если бы не связали руки, он бы им показал «подвезут», он бы им показал… Этот олух Ленгстон, застыв с вытянутой правой рукой, левую держал на широком ковбойском ремне, пальцами барабанил по обтянутым медью двум рядам дырок, но, похоже, не просто барабанил, а нажимал кнопки дистанционного управления: иначе каким образом вспыхнули надписи на куполе и откуда взялись две авиетки с поперечными голубыми полосками. — Подождите, — сказал Ленгстон. Когда же Сезар решительно двинулся прочь, крепко схватил его за рукав комбинезона. Сдерживаемая злость рванула из Адама: он коротко сверху вниз ребром ладони ударил по запястью Ленгстона. В тот же миг на него набросились и начали вязать. И он позволил им это, выругав себя за потерю душевного равновесия. Следовало бы взвешивать каждый шаг. Эксперимент, похоже, затягивался. Адам знал, что приборы обеспечения жизнедеятельности и контроля все зафиксируют. Потому главное — спокойствие. Он здоровый и нормальный парень, вот. Из этого и следует исходить. До пенсии осталось пять лет, пенсия предполагалась в полном размере плюс надбавка. Ни одна комиссия не должна усомниться, что он способен продолжать полеты. Итак, спокойно, что бы ни случилось, на все реагировать нормально. Все принимать как действительность, но помнить, что это, допустим, сон. Пусть убеждаются: на ситуации он реагирует сознательно, но помнит, что на самом деле они не существуют. Он продолжает лететь своим курсом. И еще — надо вести себя с этими фантомами… лояльно. Немножко юмора. Воспринимать все как есть. — …А я ведь сразу понял: он ненормальный — и мигом подключился к системе, — говорил Ленгстон, пока Сезара вели к авиетке. — Что, думаю, за явление. Нет индивидуальной карточки. Возможно, думаю, иностранца случайно занесло? Но служба обнаружения такого бы не допустила. Да и без карточки… Ленгстоном меня называет, Николя. Был, кажется, у меня такой предок. Мы-то, Ленгстоны, считай не меньше трехсот лет здесь живем. И всегда соблюдали распоряжения властей. Чтобы какие-то бродяги без карточек ходили… нет, такого не позволим… Врачи — так Сезар определил профессию людей, захвативших его, — пропускали мимо ушей болтовню Ленгстона. Убедившись, что их подопечный успокоился, подсадили его в авиетку, и младший, с плоским лбом в залысинах, сведя на переносице тонкие и густые брови, спросил: — Шеф, проверим здесь? Второй, высокий, представительный, с густой шевелюрой и грустными, словно застланными пеленой тумана глазами, неспешно пожал плечами. Потом взглянул на лысого и пошутил: — Спросим сейчас у пациента. — Если вы намереваетесь проверить мою индивидуальную карточку, — сказал Сезар, — то я, честно говоря, не знаю, что имеется в виду. Я показывал свою именную пластинку, но она не удовлетворила. Врачи переглянулись. — Разрешите и нам взглянуть, — не протягивая руки, сказал лысый. — Это универсальный документ, — зачем-то уточнил Сезар. — Тем лучше, — кивнул старший и взял пластинку. Рассматривал недолго, не скрывая удивления. Они уже летели, слегка покачиваясь, летели низко, через иллюминатор хорошо была видна рыже-зеленая высокая трава. — Там и фотография и печать, — сказал Сезар, отрывая взгляд от земли, — все как и положено. Старший кашлянул и протянул пластинку лысому. — Девяносто пятый год? — спросил тот сразу. — Ну да, — кивнул Сезар. — Сколько же вам лет? — подался к нему лысый. — Сорок семь. — Извините, я хотел бы поставить вопрос точнее: когда вы родились? — Думаю, в сорок восьмом. Там указано. — Да, да, обозначено. Может, проверим здесь, а, шеф? — щурился лысый. — Спешите удостовериться? — Нет, шеф, лучше развеять сомнения в момент их возникновения. По крайней мере, это не бьет по голове, или, как говорили наши предки, — он посмотрел на Сезара, — по карману. — Наше дело маленькое: проверить, все ли нормально у пациента с головой. А дальше пусть разбираются, кому положено. За то нам баллов не насчитают. Попытайтесь найти данные о нем. — Старший повернулся к Сезару: — Как вы себя чувствуете? Сезар еще не понял, о чем идет речь. Наблюдал, как лысый, поглядывая на пластинку, быстро, как пианист, нажимает какие-то клавиши, а на маленьком экране бегут зеленые буквы и цифры. Ответил машинально: — Хорошо. Реальность воспринимаю как сон и знаю, что это сон… — Это ваша концепция мира? — насмешливо переспросил лысый. Он уже получил результат и ждал. — Знаю, что все это мне снится, — Сезар сказал то, что я должен был сказать, дабы там, на базе, потом не усомнились в его искренности. — Вы не спите, — настороженно заверил шеф. — Конечно, нет, — Сезар улыбнулся, улыбнулся иронически. — А какой сейчас год? — не выдержал лысый. — Оставь, не наше дело, — сказал шеф. — Что у вас? — Адам Сезар в системе не значится. Такого человека в системе нет. И на всей Земле. В запасниках тоже не значится. — Ну, запасники-то созданы не более столетия… — Вы действительно полагаете, что… — Это не наша забота… — «Черепаха», она, конечно, навевает… — Пускай. Проверим-ка его здесь. — Старший обратился к Сезару: — Извините, что пришлось вас пеленать, — кивнул на связанные руки и отстегнул застежку. Широкий резиновый ремень зашелестел, выровнялся, упал на пол. — Так лучше. Сейчас мы к вам подключим приборы. Времени займет мало и совсем безвредно. — Пожалуйста, уважаемые. — Сезар широко развел свободные руки. Его быстро и ловко опоясали датчиками, на голову натянули какую-то корону с множеством трубок и тонких проводов. — Не жмет? — спросил старший. — Я привык, — милостиво улыбнулся Сезар. — Ну что ж, Картон, в таком случае включайте, — распорядился шеф, и лысый поспешно клацнул тумблером. Минуту царило молчание, только слегка приглушенно работали двигатели. Сезар видел, как лысый буквально впился в экран, брови у него вытянулись в одну линию, а губы плотно сомкнулись. И когда сеанс окончился, лысый для полной достоверности повторил его в другом режиме и только потом нехотя, даже с некоторой боязнью выключил прибор. — Вы чем-то удивлены, Картон? — Нет, шеф, я давно разучился удивляться. — Не доверяете показателям? — Как можно, шеф? — Лысый вынужденно улыбнулся. — Какое состояние у пациента? — Вполне здоров и физически и умственно. И умственно… — Симуляция? — Исключается. — Коэффициент? — Слабенький, то есть средний. Семьсот девяносто шесть. Принадлежит к лучшей половине человечества. — Потенциальные возможности? — Пять и шесть десятых процента. Жить можно безбедно. А карточки не имеет. — Это не наша забота. Мы свое сделали. В клинику Адама Сезара отправлять незачем. — Тогда курс на ближайшее отделение координации общественного равновесия.5
— Имя? — Там указано. — Вы должны точно и кратко отвечать на вопросы. Желательно без эмоций, пояснений и рассуждений. Конкретно на поставленный вопрос. Не считайте моей прихотью. Этого требует систематика. Узлы машинной памяти не загромождаются лишней информацией. Имя? — Адам Сезар. — Год рождения? — Сорок восьмой. — Место рождения? — Округ Шауберг, околица номер тринадцать, ферма Колхауз. Но там было четыре фермы… — Ясно. Где и когда учились? — Грамон. Шестьдесят шестой год. Школа космического пилотирования. Три года. Потом там же, в высшей школе астронавтики. — Место работы? — База «Грамон». — Специальность? — Астронавт первого класса. — Должность? — Командир корабля «Глория». — С какого года летаете? — С восемьдесят шестого. За орбиту Луны, имеется в виду. — Курс вашего последнего рейса? — Межгалактическая станция «Кентавр-2». — Цель? — Доставка аппаратуры. — Старт? — Семнадцатого февраля девяносто пятого года. — Как проходил полет? — Нормально. — Стенограмма полета велась? — Да. На базе и на корабле. — У вас не было ощущения, что произошла авария? — Показалось, будто «Глория» содрогнулась. Действительно показалось, иначе мы бы с вами не разговаривали. — Как вы оцениваете свое состояние? — Удовлетворительно. — Вас не удивляет происходящее? — Ну… не совсем. Полагаю, это сон? — Не хотите верить, что за какое-то мгновение оказались на Земле да еще в местах своего рождения?! — Да. Поверить трудно. — Другие гипотезы? — Возможны галлюцинации. Подобное случается. Космос как-никак. Потом проходит. — Еще? — Может, психологи запланировали какой-то эксперимент. — Без вашего ведома? — Да, не поставив меня в известность. Возможно, это нужно для успешного завершения полета. — Какую же линию поведения вы избрали… гм, в своем сне? — Быть самим собой. — Во сне? — Да. Принимая его как реальность. — И не забывая, что это… сон? — Ну, насколько такое возможно. — Но ведь перед вами не та действительность, которая могла бы присниться? — Ну и что. Я ведь не изменился. — Обязательно возникнут противоречия, разве нет? — Тогда я буду успокаивать себя тем, что это сон. — Хорошо. Помозгуйте над такой сумасшедшей идеей: вы и правда каким-то образом оказались на Земле, а там со дня вашего старта, скажем, минуло полторы сотни лет. — Должен представить обстановку? — Для начала. — Ну она приблизительно соответствует нынешней. — Ваши действия? — Как-нибудь приспособился бы. — В незнакомом психическом климате? — Все живое приноравливается к обстоятельствам. — Какие отношения были у вас с другими перед последним стартом? На Земле? — Обыкновенные… Даже затрудняюсь ответить. Я имел солидное жалованье, и никаких проблем у меня не возникало. — Хорошо. Допустим, нравственные устои общества, в которое вы попали сейчас, не изменились. У вас бы с ним не возникло конфликтных ситуаций? — Думаю, нет. — При условии обеспечения функции коммуникации? — Конечно. — А для ее обеспечения необходимо работать? — Ну да. Даром денег не платят. — А если бы вам не нашли работы? Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь: техника шагнула вперед и постоянное внимание к вашей личности… — Я мог бы и не работать. Я имел солидные вложения, страховой полис. Наследников у меня не было. А в нашем государстве такие вещи не теряют силы. Хватило бы дожить безбедно. Полагаю, коль техника ушла вперед, цены не столь уж и высокие. — Умеренные. Хорошо, что у вас сохранилось чувство юмора, Итак, никаких проблем не видите? — Нет, не вижу. Как-нибудь свое дожил бы. То есть, я полагаю, хлопот со мной, одним выпавшим из времени, не было бы. — Прекрасно, что мы с вами находим общий язык. Если вы и дальше не будете возражать, думаю, никаких недоразумений не возникнет. А лучше всего, если спокойно воспримете то, что я вам сейчас скажу. — Я весь внимание. — Возможно, сказанное сейчас мной причинит вам боль. Да иначе и быть не может… Надеюсь, вы воспримете известие мужественно, как и подобает астронавту. Вам его пока что хватало! — Благодарю. — Я и сам взволнован… Для всех нас это большая неожиданность, и потому удивление, радость и тревога — все вместе… Да! Медико-биологические данные свидетельствуют о вашем абсолютном здоровье — физическом, умственном и моральном!.. — Благодарю. — Вы человек, лишенный галлюцинаций, не подвержены внешнему влиянию и так далее. Технико-социальные анализы — расшифровка нашей беседы, исследования «Глории» — подтвердили, что вы и вправду астронавт первого класса. — Благодарю! — И все, что перед вами — действительность, конкретная реальность, точно такая же, какую вижу и я. — Это облегчает ситуацию. — Единственный нюанс: сегодня двадцатое июня сто четырнадцатого года. — Трагедия не столь уж большая. Наоборот. Я рад, что моя страна достигла еще большего благополучия. — И страна радуется за Адама Сезара: пропав без вести более ста лет назад, он вернулся в ее объятия. — Вот только мне кажется, что столетие я преодолел за какое-то мгновение. — Нюанс, говоря откровенно, деликатный: сейчас этой проблемой занимаются математики, космологи-теоретики, одним словом, она вне пределов моей компетенции. Но в Грамоне, в нашем славном Грамоне вам все растолкуют. Я же, как заместитель председателя окружного отделения координации общественного равновесия, от имени ваших земляков поздравляю вас с возвращением. Мы гордимся вами!6
Кабинет был тот самый. Те же столы и кресла, портреты и картины, пушистые зеленые ковры. Здесь когда-то Адам Сезар получал летные документы. И сейчас, ступив сюда, он подумал, что экспериментаторы нарочно сыграли на контрастах: сперва бросили его на целую сотню лет вперед, а потом снова вернули в обычную обстановку. Вопросительно-иронически посмотрел он на куратора космического Центра, жилистого невзрачного мужчину, и тот догадался, о чем хотел поведать ему Сезар. Глубокомысленно полузакрыл глаза под толстыми стеклами очков: да-да, мы, мол, нарочно воссоздали обстановку. — Господа, — сказал куратор, — с вашего разрешения я сделаю краткую информацию, в которой одновременно и отвечу на волнующие каждого вопросы. Вы догадываетесь, о чем идет речь. Каким образом Адам Сезар оказался в сто четырнадцатом году? Более подробные сведения вы получите в пресс-центре, а сейчас коротко о сути. На сегодня имеем две версии удивительного возвращения Адама Сезара — физическую и биологическую. Версия первая: «Глория» попадает в закапсулированный сгусток времени, возникший на сцеплении сил тяготения планет и отдельных систем. Однако скорость и масса «Глории» привели в движение содержимое капсулы, и она оказалась в другом пространственном измерении. Соответственно изменился и знак времени. Минус! Аппаратура сработала в обратном направлении. «Глорию» в одно мгновение, равное нашему столетию, отбросило назад. По мере приближения к Земле энергия пространства-времени иссякла и наконец перешла в обычное для нас состояние. Тогда-то Сезар и приземлился. Никаких изменений ни в его организме, ни в системах корабля не произошло. Биологическая версия: каким-то образом — то ли под влиянием неизвестного излучения или опять-таки сил притяжения — корабль и Адам Сезар законсервировались и блуждали в космосе все эти годы, пока не оказались в изначальной точке, в которую в подобных случаях возвращаются неизменно. И снова никаких изменений. — Но ведь автоматика должна была посадить «Глорию» в Грамоне, а не там, где родился космонавт, — заметил кто-то из журналистов. — Уважаемые, — снисходительно улыбнулся куратор, — в астронавтике отклонение в четыреста километров считается попаданием в «десятку». — Не будем вдаваться в детали, — прогудел журналист от окна, и Сезар невольно посмотрел в его сторону: рыжий верзила с пушистыми бакенбардами наивно поблескивал голубыми стекляшками очков. — Тем более что до полной разгадки еще далеко. Возвращение Сезара многое даст науке, и слава богу, как говорится, на благо. А нас интересует сам Адам Сезар, верно, коллеги? — Прекрасно, — махнул рукой куратор, — мы для того и собрались здесь. Прошу задавать вопросы астронавту и руководству Центра. — Поскольку еще многое неясно, то, наверное, эксперименты и опыты над «Глорией» и астронавтом будут продолжаться? — сразу же поспешил кто-то. — Безусловно, — уже сидя, ответил куратор. — Безусловно. Но в основном на бумаге и с помощью вычислительных машин. Медики придирчиво обследовали Сезара и, как вам известно, нашли его состояние безупречным. — Ну после таких переделок аппаратура могла всего и не уловить. — Извините, вас, видимо, беспокоит, не превратим ли мы теперь Адама Сезара в подопытного кролика? — перебил куратор. — Нет. И еще раз нет. Сезар свободный, как и все граждане, и может распоряжаться собой по собственному усмотрению. — А что думает по этому поводу сам Сезар? — Я не совсем понял, — поднял голову Сезар, — о чем идет речь: о моем возвращении или о будущем? Проблема моего возвращения меня, конечно, интересует, но это забота теоретиков. Я же астронавт и, сколько мог, выполнял свои обязанности. Что касается дальнейших исследований, то по надобности я всегда готов послужить науке, и всякие личные амбиции ни к чему. Все одобрительно зашумели. — Прошу, господа, — сверкнул очками куратор. — Какой коэффициент интеллекта у Сезара? — Семьсот девяносто шесть и четыре десятых. — Вполне прилично. — Господа, должен сообщить, — несколько торжественно вскинул руку куратор, — подвиг Сезара значит больше, чем коэффициент его интеллекта. Поэтому Совет координации общественного равновесия постановил, что на карточке Сезара будет продольная зеленая полоса! — Браво! — Кто-то похлопал Сезара по плечу. — Никаких хлопот. — И ежегодных аттестаций. — И спокойствие до конца жизни. — Вы удовлетворены, господа? — сдержал шум куратор. — Вполне. И даже завидуем, — встряхнул бакенбардами рыжий верзила возле окна. — Но ведь наш астронавт, похоже, ничего и не подозревал? — Честно говоря, нет, — согласился Сезар, сразу вспомнив Ленгстона. — Это не уйдет, — кивнул ему куратор. — Будет приятный сюрприз. Еще вопросы? — Не чувствуете ли вы себя чужим, Адам Сезар, попав в другой век? — Другой век? Ну и что… Я возвратился в свою страну. Конечно, ко всему новому надо привыкать, что бывает нелегко. Но ведь у астронавтов психика гибкая, они привыкли к ситуациям и гораздо более невероятным. — А не чувствуете ли, будто вас воспринимают как чужого? — Понял. Вполне допускаю, что для сто четырнадцатого года мои манеры, мое поведение будут несколько архаичными, скорее всего очень архаичными, но уверен, что вы прекрасно поймете причину и отнесетесь ко мне снисходительно. Как старшие к младшему. — Господа, — вмешался куратор, — я кое-что добавлю. Те, кто уже общался с Сезаром, никак не воспринимали его чужим. Помните, какой коэффициент интеллекта? Умные люди всегда понимают друг друга. А относительно инцидента с Ленгстоном?.. Не забывайте: «Ремонт. Заправка. Прокат». В зале засмеялись. — Вот почему нам легче найти взаимопонимание с Сезаром, чем с Ленгстоном, — закончил куратор. — Скажите, Сезар, у вас оставался кто-нибудь на Земле? — Родственники умерли еще до моего полета. Оставалась жена. Патрис Сезар. Тридцать два года… Он впервые вспомнил о Патрис. Потому что ее, живой, реальной, здесь быть не могло, если даже это не галлюцинации, не эксперимент. — Да, — тихо сказал куратор. — Это самый трагический момент возвращения. Возвратиться к живым, которые мертвые. А мертвые как живые.7
На следующий день к вечеру Адам Сезар почувствовал себя вконец уставшим. День в самом деле оказался трудным и бесконечным, как пеший путь под жгучим солнцем. Тогда, сразу же после пресс-конференции, когда журналисты ушли, перед ним включили небольшой макет Грамона и предложили выбрать район жительства. Немного поразмыслив, Сезар показал на восьмиквартирный одноэтажный дом, подковой прятавшийся в каком-то скверике. Присутствующие выбор одобрили, и уже на банкете в уютном ресторанчике Центра в одном из первых тостов, поздравляя с возвращением, ему желали счастья на новом месте, в новой квартире. И еще одну торжественную церемонию пережил тогда, и, как оказалось, очень важную. После банкета и прогулки по Центру в отделении координации общественного равновесия ему вручили индивидуальную карточку. Церемонию обставили торжественно и пышно, были цветы и шампанское, речи и подарки от музея астронавтики. Фотографии на карточке не было, вместо нее на левой стороне выбито 0-796,4, карточка по диагонали перечеркнута зеленой полосой, а справа отпечатан текст инструкции. Внимательно вчитаться не успел, кажется, объяснялось, что делать в случае потери, о запрещении передавать в другие руки, еще что-то… Руководитель взял карточку у Сезара, повернулся, вставил ее в гнездо какого-то прибора, и там сразу щелкнуло зеленое окошко. — Отныне, — провозгласил руководитель, возвращая карточку, — вы снова полноправный гражданин республики. Эта карточка заменит все документы… К Сезару подходили, жали руки, желали успехов, поздравляли и прощались. Затем ушли куратор и руководитель отделения, люди из Центра — торжества не могут продолжаться вечно. — Что мне делать с этой карточкой? — обратился Сезар к нескольким еще остававшимся мужчинам, это были, по-видимому, служащие более низкого ранга. Им поручалось опекать его первое время. К Сезару подошел один, низенький, пожилой, смуглый, с горбатым носом. — Понимаю ваше нетерпение, — почти пропел он. — Все очень просто. В ваше время существовали деньги. Теперь же их заменяет коэффициент интеллекта, то есть ваша способность приносить пользу государству, что в принципе равноценно результатам вашего труда. Вы пожелали купить костюм? Идете в универмаг, примеряете костюм и сдаете его автомату, своеобразному роботу. А карточку вставляете в специальное устройство. Автомат вам выдает покупку. И выпускает. И так везде. Таким образом, повторяю, это ваши деньги. И документ. Больше ни у кого такого шифра нет. Да вы очень быстро все поймете и освоитесь. — Благодарю, — сказал Сезар, хотя у него сразу возникло много вопросов, — благодарю. — Пожалуйста, пожалуйста. Всего вам хорошего. К Сезару тут же подошел второй, молодой, крепко сложенный мужчина. — Господин Сезар, — слегка поклонился он, — сегодня я в вашем распоряжении. Сейчас вас отвезут домой, вы отдохнете, а вечером я заеду за вами, чтобы отвезти на прием к президенту. Если будут какие-то другие пожелания, я к вашим услугам. — Нет. Я, пожалуй, немного отдохну. Да и жилье надо осмотреть, — ответил Сезар. — Там приготовлено. Желаю приятного отдыха. Вот ваш водитель. До свидания. «Боятся выглядеть навязчивыми, поскольку навязчивость не свидетельствует об интеллекте», — мысленно съязвил Сезар. Машина не очень отличалась от известных ему в свое время. Сезар вспомнил, как в конце века бытовала теория, будто автомобильная инженерия практически исчерпала свои возможности. — Красивая штука и навсегда ваша, — хлопнул ладонью по кузову водитель, — бегает, плавает, ползает, только летает низко: над болотом, камнями. — Моя? — Еще бы! Заслужили. Мне вести или сами? Можно вот здесь, на панели, набрать программу, и машина доставит вас к месту назначения. — А вы ко мне водителем тоже навсегда? — Нет, на сегодня. Но, если желаете, к вашим услугам. Ваша карточка позволяет вам иметь водителя. — Ну хорошо. Давайте сделаем так, — немного помолчав, сказал Сезар. — Не будем включать программу. Я сяду за руль, вы кратко объясните систему управления, а потом будете подсказывать путь. — Принимается. Ему не терпелось вцепиться в баранку, взять судьбу в свои руки, хотя бы на мгновение ощутить, как подчиняется железо со всеми его программами. Он поспешил и испугался, что автомобиль прыгнет вперед, врежется бампером в высокий бордюр. Но машина двинулась плавно, тихо, обороты двигателя не увеличились, словно он сам знал, что ему делать. — Отличная машина, — сказал Сезар, чувствуя, как радость наполняет сердце. — Да, — коротко отозвался водитель. — Где-нибудь работаете? — спросил Сезар. — Здесь, в Центре. — А какой у вас коэффициент? Простите, я хотел сказать, какая у вас зарплата? Исправился, называется! Вот черт. Заметил, как водитель, не поворачивая головы, искоса посмотрел на него. Извиниться, что ли? Все равно что спросил человека, все ли у него дома. — Для водителя достаточный. — Наберусь я хлопот с этой карточкой, — вздохнул он, переводя разговор на другое. — Ничего не понимаю. — Какие там хлопоты? — гоготнул водитель. — Я слышал, номер у вас будь здоров. Да еще и зеленая полоса. На всю жизнь. Заходи куда хочешь и бери что душе угодно. — Но ведь, как я понимаю, так может каждый. — Может, но дудки. Я, скажем, только один раз в пять лет могу взять для своей подруги жизни какой-нибудь из камешков, болтающихся на шее у некоторых дам. А машину — раз в три года. — Но ведь можно, если, гм… коэффициент невысокий, малый, в разных магазинах можно десять раз на день брать себе что захочется? — Конечно, можно. Только контроль по всей стране — единая система. И однажды засветится не зеленое, а красное окошко, и вас выдворят из магазина или из другого места. Рассчитано ведь, сколько приблизительно надобно в год человеку, к примеру, имеющему шифр «двести». Электронная система все записывает, запоминает. Больше не разрешит. А карточку меняют ежегодно, еще бы. Может, коэффициент увеличился, а может, и снизился. Чтобы по справедливости. — Значит, так… Техника несравненно продвинулась вперед, и благополучие, надо полагать, выросло, если позволили себе такую систему. Но ведь кто-то, получив карточку, возможно, и не станет работать, а будет продлевать ее и жить потихоньку. — Пусть попытается, — проворчал водитель, — все наши действия фиксируются системой. Как, я не знаю, врать не буду. Такое ощущение, будто система наблюдает за каждым твоим шагом. С женой спишь, и тогда, кажется, на тебя смотрят… Так вот! Не выработав необходимого минимума, попробуй продлить карточку! Через неделю гикнешь с голоду. — А если воспользоваться чужой? Я к тому, что дармоеды всегда прибегали к каким-нибудь приемам… — Какой чужой? У каждого человека свой биологический ритм. Вы подходите к «контролю», вставляете карточку, и система сопоставляет ваш ритм с шифром… — Значит, грабители остались без работы? — пошутил Сезар. — Ну да! — засмеялся водитель. — Еще бы! Находятся интеллектуалы, которые умеют приспособиться. У них какие-то приборы, они и биоритмы изменяют, и систему обманывают. Парни не промах. — Зато, видать, нет ни бедных, ни богатых? Ну, не такая уж большая разница. — Бедных и богатых нет. Есть умные и дураки. Но кто виноват, что он бестолковый? Все возможности, чтобы не оказаться дураком, имеются. — Водитель сплюнул через плечо в окошко. — Вот и получается: никто не виноват. А у кого коэффициент выше, да еще и литерный, тот и систему на себе держит, и кормит тех, у кого он, этот коэффициент, низкий. Каждый держит свой банк в голове. Вот. — Ненадежное хранилище. — Голову-то не своруешь, себе не привинтишь. — Водитель снова искоса посмотрел на Сезара, казалось, даже подозрительно. — Конечно, такой сейф не бронирован, но наши шефы носят его спокойно. Система бережет. И люди специальные охраняют. С низким коэффициентом, правда, приблизительно, как у собак, но и преданы они как собаки. А карточки у них литерные — дополнительные льготы. — Полиция? — Похоже. — Четкая система, что и говорить. — Еще бы. Все она знает, абсолютно все. И никаких тебе хлопот. Домик оказался чудным: аккуратный и в тихом месте. Несколько жильцов, гулявших во дворе, не обратили на него особого внимания, но, безусловно, узнали: видели по телевизору. И даже дети не прервали игру. «Так, вероятно, и надо, — подумал Сезар. — Ничего удивительного. Не цирк…» О меблировке квартиры тоже позаботились. Словно кто-то ранее выведал его вкусы. В принципе, именно таким и мечтал он видеть свое жилище. Неудивительно: коль определяют возможности интеллекта, вкус им выявить тем более несложно. В восемь утра в дверь позвонили. Сезар мгновенно проснулся и сперва поразился окружавшему его пространству — привычка к корабельной тесноте въелась навсегда. Но с дивана вскакивать не спешил: не тревога же. Странно, но сегодня ему ничего не снилось. Устал. Звонок раздался еще раз: деликатно, неназойливо. — Я сейчас! — крикнул Сезар и набросил халат. — Извините, что рано побеспокоил вас. — На пороге стоял смущенный юноша лет двадцати двух. — Проходите. — Сезар указал рукой в глубь квартиры. — Если пришли, то, очевидно, по делу. Я к вашим услугам. — Меня прислали из отдела координации. — Очень приятно, садитесь, пожалуйста. Я сейчас приготовлю кофе. Завтракали? — Спасибо. Да. Не беспокойтесь. Только стакан оранджа, если можно… — Прошу. — Сезар вынул бутылку из холодильника. — Меня направили к вам из отдела координации, — повторил юноша. — Я обязан быть при вас первое время, пока освоитесь, показывать, объяснять… Вашим секретарем. — Прекрасно. Благодарю. Тогда давайте знакомиться. — Я — двести тридцать пять и четыре сотых… Ой, совсем забыл, извините. Петер Хант. Меня зовут Петер Хант. — Разрешите, я вас буду звать просто Петер? — Пожалуйста. — Парень смутился. — Ну вот и хорошо, Петер. По рюмочке коньяку за знакомство. — Не дожидаясь ответа, Сезар направился к бару. Удивительное веселье охватывало его. Петер растерялся. — С утра пить вредно, — несмело запротестовал он. — Да? — хохотнул Сезар. — А вы одну каплю. С оранджем. Разболтайте, и на здоровье не скажется. — Разве что так. За знакомство. — А на меня не обращайте внимания. Меня уже ничто не возьмет, — сказал Сезар и одним махом выпил рюмку. — Славный напиток. Ну, уважаемый секретарь, введите меня в курс дела, — сказал Сезар, отламывая и бросая в рот маленькие кусочки сыра. — Собственно, если вы согласны… — Почему же. Говорят, я человек богатый, могу позволить себе иметь секретаря. Только неясно, каким образом я буду вам платить. — Здесь все в порядке. Система знает, что я работаю на вас, и будет платить по моему коэффициенту. — Тогда никаких проблем. Я принимаю вас. Надеюсь, загружены работой не будете. — Буду работать столько, сколько вам нужно. — Отлично. Но сначала вы мне объясните толком устройство системы. — Система — это все, — серьезно сказал Петер. — Исчерпывающе, — согласился Сезар. — Нет, в самом деле, — смутился юноша, — она везде… — Давайте условимся, — перебил Сезар, — я буду спрашивать, вы — отвечать. Потому что если начнете рассказывать обо «всем», жизни не хватит. Итак, в общих чертах система — это… — …Электронно-вычислительная машина. Собирает и анализирует данные о каждом. Нынешний наш разговор тоже фиксируется. — Подслушивающие устройства? — Нет, другое. Просто этот дом — один из блоков системы. — Но зачем? — Чтобы точно определять коэффициент интеллекта и результат труда каждого на благо государства. Ни одна мысль не теряется напрасно, кто бы ее ни высказал — дворник или президент. — А если кто-то не пожелает все время находиться на виду? Есть же и личные, интимные моменты? — А кто захочет, чтобы его мысли терялись понапрасну? К тому же система блокирует интимное, личное, то, что представляет ценность только для индивидуума. Главное же — демократический принцип: к системе подключены все. Вы можете по справочнику узнать шифр интересующего вас человека и узнать о нем все, кроме интима. Можете проверить деятельностьправительства, собственную работу, мою или кого угодно. Граждане в системе заинтересованы, она объективно оценивает каждого. А кому выгодно, чтобы оказалась неучтенной хотя бы единица интеллекта? И при этом каждый причастен к делам общества. Вот вам пример: господин Икс придумал способ совершенствования определенного процесса в производстве носовых платков. Свою мысль он высказал в квартире, в машине, где угодно, даже в лесу, все равно. Сигнал попадет в систему, пройдет ее проверку и будет передан в соответствующую отрасль. Автоматы немедленно переоборудуют конвейер, и, пожалуйста, процесс производства носовых платков усовершенствован. А господину Икс система автоматически подбросит определенную единицу интеллекта. — А чьей собственностью является система? — Ее контролируют люди с высоким коэффициентом интеллекта. И, понятно, в их распоряжении и самые большие блага. — Одним словом, система как бог. Все в ней, и она во всем. А присутствие бога, как известно, никому не мешает. — Удачное сравнение. — Еще коньяку? Я тоже никогда им не увлекался. Ваше здоровье! Система зафиксирует, что я разрушаю свой мозг алкоголем? — Уже зафиксировала. Но вам ничто не угрожает. Зеленая полоса на всю жизнь. Наконец, системе безразлично, кто сколько пьет. Упадет производительность — снизится коэффициент. — А отделение, Совет координации — связующие звенья между системой и населением? — Вы поняли верно. — Скажите, — выпив третью рюмку, поинтересовался Сезар, — а конфликтов не бывает? Ущемленного самолюбия? Комплексов неполноценности? Презрительного отношения к менее умным, то есть своеобразного интеллектуального расизма? — Сколько угодно. Общество есть общество. Всегда возникают какие-то противоречия. И самоубийства случаются. И блоки системы рушат. А чтобы систему сломать, надо одновременно нажать всем на все блоки. Но этого никогда не бывает. Да и зачем? У каждого равные возможности для того, чтобы аккумулировать в своей голове необходимое. Общество только бы выиграло, если бы у каждого гражданина интеллект превышал тысячу. Но ничего не поделаешь. Это дело далекого будущего. — А как правительство помогает тем, у кого коэффициент низкий? — Всеми возможными способами. Но ведь природа остается природой. Насильное вторжение только вредит. Негативная наследственность тоже дает о себе знать. Войны, голод, наркомания, изнурительный труд — все аккумулировалось в генах, передавалось следующим поколениям. Возможности мозга у всех фактически одинаковы, а функции возможностей — нет. И пока генотип гражданства не очистится, конфликты неизбежны. — Думаю, мы сильно увлеклись. Принцип я понял. Остальное, как говорят, в рабочем порядке. Времени у меня — океан. — Сезар наполнил свою рюмку. — Вам беспокоиться нечего: вы обеспечены. Но сейчас больше пить я бы не советовал. — Петер встал. — Телезрители просят вас исполнить одну миссию. Собственно, поэтому я и пришел так рано. — Рад послужить. В чем же она состоит? — Сезар откинулся в кресле. — Просят показать вас в музее астронавтики, возле вашего памятника, в вашем доме-музее. — Мой памятник и музей? — Ну да! Как всем погибшим или пропавшим без вести. — О, слава!.. — Да, хотя после вашего возвращения пришлось поднимать старые архивы, вы же в систему не были введены. — Ладно. Я не в обиде. Хотя вчера ни о памятнике, ни о музее ничего не говорили. — Никто не вспомнил, а система посчитала нерациональным. — А сейчас? — Сейчас — да. Появился интерес, значит… — Тогда вперед! Так начался этот день. Непонятно, что его погнало в собственный музей, к собственному памятнику. Да, пожелание соотечественников. Им захотелось увидеть, как тот, погибший, воскрес и смотрит на себя мертвого. А он действительно возвратился из небытия к тому, что произошло вскоре после смерти. Памятник был из неотшлифованного черного лабрадорита, в нем выдолблена ниша, а в ней голова Адама Сезара из белого мрамора. Разум, потерянный в пространстве. И чудно было войти в коттедж, откуда вышел когда-то. Он смотрел на фотографии и грустно улыбался. На одной из них Патрис бежала взморьем в лучах заходящего солнца. Патрис, которая состарилась без него и умерла. Просто не верилось, что Патрис нет… В машине он попросил Петера навести справки о судьбе Патрис. Парень минуту размышлял, потом начал нажимать клавиши на пульте. «Отпечатать или сообщить вслух?» — замерли на экране маленькие зеленые буквы. «Вслух, только вслух, — подумал Сезар, — я не служба информации, чтобы собирать досье. Только кратко, самое существенное. Пусть себе Патрис бежит взморьем. На фоне заходящего солнца. А мне одни сведения о Патрис Лонг». — Патрис Лонг. Грамон. Психолог. Ученой степени не имела. Первый муж — астронавт Адам Сезар. Пропал без вести. Второй раз вышла замуж за Франца Зигмунда, автогонщика. Погиб в аварии. Затем вышла замуж за служащего фирмы «Феникс» Куба Лонга, умер в пожилом возрасте. При переходе на интеллектуальную оплату труда не выдержала перегрузки. Находилась в психиатрической больнице, где и умерла. Похоронена за счет государства. Родных и близких нет.8
Издали гора смахивала на огромный голубоватый сегмент солнца, которое едва начало подниматься над горизонтом. Прикинув по привычке на глаз расстояние до нее, Сезар проехал по автостраде еще метров пятьсот и, когда просвет между деревьями показался ему достаточным, повернул влево. Машина легко и плавно преодолела кювет и на полуметровой высоте понеслась над полем, над густыми зелеными всходами напрямик к горе. Это он решил неожиданно в тот вечер, когда система ровным, бесстрастным голосом сообщила ему сведения о Патрис. «Стоп, — сказал он себе, — давай остановимся на минутку. Пятьдесят четыре года назад умерла Патрис в психиатричке, похоронена за государственный счет. А мне сорок восемь. Выходит, умерла до моего рождения… Собственно, я тоже умер и сейчас нахожусь как бы на том свете. Во сне. И если я мертвый, терять мне нечего — все, что имел, я уже потерял. Так вот, если это сон и я покончу с собой, сон должен прерваться, я проснусь за пультом «Глории». Если же это действительность, мне тоже терять нечего. Если в самом деле проводится эксперимент, в последнюю минуту меня остановят… Но если это эксперимент, зачем мне тогда разрешают думать, будто это эксперимент? Обострить ощущения, чтобы я полнее раскрылся? Почему разрешают контролировать себя? Или вынуждают контролировать, чтобы загнать на середину каната, протянутого над пропастью? Чего от меня хотят? Сон или эксперимент — все зафиксируется, потом расшифруется. Не верю, что это реальность, не верю, не воспринимаю! Я из того времени! Я хочу туда! Спокойно, — уговаривал он себя, — спокойно, ты же астронавт, давай думать, у тебя же прекрасная реакция на смену ситуаций. Может, система еще не фиксирует мыслей. Приборы «Глории» фиксируют, да бог с ними, я проверен на лояльность. И вообще, коль дело идет к тому, что можно потерять рассудок, при чем здесь лояльность? Моя обязанность — не лишиться рассудка, сохранить себя, а там как получится. Во-первых, выключиться из суеты по познанию этого постиндустриального, или как его, общества, пусть живут как им хочется, мне какое дело? Я должен успокоиться, снять напряжение, чтобы не попасть в переделку. Отключиться. Экспериментаторы должны убедиться в моем спокойствии…» И он избрал это место. Пожелал побыть в одиночестве, пострелять уток, словом, прийти в норму. Сезара ждали. Когда через полчаса машина сделала поворот почти на девяносто градусов, ему открылась небольшая лужайка, укрытая свежими покосами клевера. В глубине была лесная сторожка, возле нее стоял пожилой человек, служитель. «Этого мне и хотелось, — отметил Сезар. — Вот такая сторожка с гонтовой крышей, заросшей мхом, и колодец во дворе». — Я вас давно жду, — сказал мужчина и протянул руку. — Гофман. Так и зовите меня — Гофман. Коротко и ясно. Сезар пожал крепкую красную руку Гофмана и невольно присмотрелся к нему. Старая шляпа с опустившимися полями, поношенный костюм, на ногах солдатские ботинки без шнурков, видны серые шерстяные носки. Сетка морщин под глазами, нос, как маленькая обчищенная луковица, короткая седая бородка. Что это: печать лесного одиночества или маскарад, антиквариат специально для Адама Сезара, чтобы он лучше себя чувствовал? Пускай, какая разница, покой и только покой, хватит самокопания. — Давно вас ожидаю, — повторил Гофман. — Как получил указание системы, так и жду. — Вас предупредили? — спросил Сезар. — Ну да, — Гофман уже вытянул из багажника вещи, — сообщили. У меня приемник. С телеустройством. Я в курсе. Вы можете оставить машину здесь и выключить, хотя она, зараза, полностью и не выключается. — Не любите систему? — что-то будто подтолкнуло Сезара. — Да я о том, если кто забивается сюда, значит, ему надоело гнаться за коэффициентами и он убегает подальше от машинерии. А у меня система своя, своя система. Гофман понес чемодан в хижину. — Сколько же вам лет? — Да уж за шестьдесят. — И давно здесь? — Пожалуй, тридцать шесть годов. — И все время сам? — Почему? Мужику самому не продержаться. Была старуха. Правда, лет десять назад втемяшилось ей что-то в голову, не выдержала, убежала к сестре. Роботам со спины пыль стирает, — рассказывал, не оборачиваясь, Гофман. — А мне уже все равно. Я здесь корни пустил. Еще до того, как выписал ее сюда. — Как… выписали? — Заказал. Это делается просто. Вот и приехало чучело. А мне все равно. Было бы с кем словом переброситься. — Гофман остановился и оглянулся на Сезара: — А ребятишек не захотела, чертовка. Говорит, мы с тобой дураки, и дети пойдут такие же. — Гофман сплюнул и двинул дальше. — А к старости все равно не выдержала, убежала. — Я посижу здесь на лавочке, — бросил ему вдогонку Сезар. — Подышу. — Дышите, дышите. Я тем временем чемоданы разберу да что-нибудь к обеду приготовлю. Сезар сел на скамейку в тени дикой груши. Ветки зонтиком нависали над ним, густые и тонкие, с мелкими листочками, как у всех дичков, сплелись, ни конца, ни начала не найти, палец не просунуть. «У меня тоже так, — подумал Сезар, — сплелось — не разорвать, разве что разрубить одним махом. Но рубанешь по этим веткам, и кривое и прямое полетит. По живому рубить…» Он оглянулся. И то, что здесь, пока он сидел я думал, ничего не изменилось, неожиданно его успокоило.9
— Видите тот мыс? — Гофман указал на противоположный берег озера. — Он высунулся как треугольник. И камыш стеной. И вдали дерево. Когда отстреляетесь, рулите лодку к нему, там и ночевать будем. Я и костер зажгу, на дым плывите. А пока что в обход пойду. За полчаса до сумерек и двигайте. Как только солнце зайдет, лёт закончится… Ни пуха ни пера! — К черту! О, едва не забыл: а какая же норма отстрела? — Сколько пожелаете. Наплодятся, — бросил хмуро Гофман и ушел, словно медведь, с горбатым рюкзаком на спине. Сезар удобней устроился в лодке и положил ружье на колени. Что бы с ним ни произошло, что бы ни случилось, это зеркальное озеро с зеленоватой водой, почерневшая деревянная лодка с облупившейся по бортам смолой, навсегда впитавшая влажный запах рыбы, эта прохлада в камышах и солнечный плес впереди, архаичный двуствольный винчестер, взятый у Гофмана вместо ружья с электронным прицелом, зеленые патроны, насыпанные в большую жестяную банку, — все это как будто отодвинуло куда-то кошмары и галлюцинации, и даже пальцы легонько дрожали на блестящем прикладе винчестера… — Немного, но для первого раза прилично, — сказал потом Гофман и забрал из лодки уток за головы, одной рукой. Кипел ведерный котел на костре. Гофман довольно посмотрел на него и принялся за уток. «Пять», — еще раз пересчитал Сезар и сел прямо на землю, склонившись на рюкзак. Гофман тем временем общипал уток, перевернул одну, вынул складной нож и коротким движением разрезал утке живот. Положил в миску печенку, желудок, а сердце разрезал надвое. — Видите? — протянул на ладони белую горошину. — Дробь? — не понял Сезар. — Белая! — Действительно, — Сезар взял горошину. — Нарост, что ли? — Нарост… — Гофман кисло улыбнулся. — Я лично уток с таким наростом в сердце не употребляю. Хотя по вкусу от настоящих не отличишь. — Болезнь? — Болезнь… — И снова злая, кислая ухмылка. — Я не знаю, как это назвать. У меня был низкий коэффициент, так что я многого не понимаю. Но вам скажу. Потому что вы оттуда, — он указал рукой в небо. — Для вас оно может иметь значение. Эта белая горошина значит, что утка искусственная, сделанная людьми. В горошине искусственный генетический код. И утки эти живут, как и дикие, даже скрещиваются с дикими. И наследство их уже имеет такие горошины. И уже трудно понять: искусственные или нет эти трава, деревья, звери. Не будешь ведь копаться во всем, чтобы найти подобную горошину, живую горошину. А так не отличишь. Теперь вам понятно? — В глазах Гофмана прыгали красные отсветы костра. — Почему вы мне об этом говорите? — хрипло спросил Сезар. — Потому что вы оттуда. — Гофман снова указал на небо. — И вы к этому никогда не привыкнете. Чтобы знали заранее и не утешали себя иллюзиями. Нас окружает словно и живое, из тех же органических и неорганических соединений, что существовало всегда, из чего и состоит мир, но оно другое, оно для нас чужое. — Для кого — для нас? — спросил Сезар, помешивая палкой воду в котле. — Для нас — тех, кто отстал. А отстали миллионы. И уже не могут нагнать. — А люди, люди-то какие? — Не знаю. Я в этом не копался. Но вы же видите — все возможно. И я уверен: появятся искусственные люди. Если еще не появились. Вы их не отличите от настоящих. Но они будут иметь высокий коэффициент. Заранее. Нет, не роботы. Это будут просто другие люди. Другие озера и утки, рыбы и звери. Другие люди в другом мире. И когда кто-то, как, например, вы, затеряется во времени, он не отличит ничего искусственного от данного природой. — Возможно, в этом и предназначение цивилизации? — попытался вслух поразмышлять Сезар. — Все здоровые, умные… равные… — А какой ценой? Ценой миллионов отсталых, тех, у кого низкий коэффициент. В чем же их вина? Что не хватало жизни выбиться в люди? Ведь нить тянется веками — кто был наверху, тот там и остается. Мои предки были фермерами. Ваши тоже. Вам повезло, мне нет. Каждый обязан выкарабкиваться сам — такой закон. Так наши умники установили. Чтобы было как в природе. Мол, чтобы не превратиться в роботов. Принцип выживания при видимом всеобщем равенстве. Но «все» умрут, а останутся «другие». Умрут без наследников, будто их в мире и не было! — А в других странах? — с раздражением спросил Сезар. — По-разному. Многие пошли иным путем: выравнивание моральных, психических, биологических, интеллектуальных возможностей человека…. — Вы, наверное, и сбежали сюда, в глушь, в знак протеста против… ну такого поворота событий? — Какой, к черту, протест. Я приехал сюда в двадцать пять лет. Со злости, да. С обидой в сердце, да. Какой это протест? У меня коэффициент сто семьдесят четыре, а полюбились мы с девушкой, у которой он был свыше четырехсот. А коснулось совместной жизни — не сметь. Родители против, врачи носом крутят, а закон хотя и не запрещает жениться с разным коэффициентом, но надо иметь справки и от родителей, и от врачей. Конечно, согласие девушки — главное. Но ей сказали: когда у тебя коэффициент за четыреста, наверное, нетрудно понять, что этот холоп тебе не пара. Или хочешь, чтобы снизили? А дети? Подумай о них? Вот так я здесь и оказался, плюнул на всех. «Почему я ему верю? — ужаснулся Сезар. — Да он же сумасшедший и рассказывает ерунду! Нашел, называется, спокойное местечко! Неужели все, что он говорит, возможно?!» Рубашка на спине высохла, становилось холодно, сумерки сгущались, только небосвод светлел. «А почему, собственно, невозможно?» — подумал хладнокровно, с какой-то лютой ненавистью. И четко провел линию из своего времени — от изничтоженной, невзирая на запреты, дичи, загаженных рек, вытоптанных лесов, миллионов голодных и неграмотных детей в джунглях, наркоманов и алкоголиков, развратников и развратниц, войн и просто убийств, тотальной слежки, гетто «неполноценных», погони за наживой, наслаждениями; безразличия к ближнему, богатства и нищеты, переполненных до отказа психиатрических больниц, демагогии и просто вранья, подозрений, опытов над людьми — все это происходило на его глазах, а нередко и с его участием. Поэтому-то невозможного здесь не было, больше закономерного. Он же знал, как все было! Только не задумывался, к чему все это может привести! «Да я, наверное, схожу с ума! — мелькнула другая мысль. — Уже не контролирую себя…» Будто горячая волна поднималась в нем, отрывала от земли. «Сейчас, сейчас я должен что-то придумать, я же астронавт, я всегда находил выход». Вцепился обеими руками в тоненький ствол деревца. «Еще все нормально, я еще чувствую, как шершавая кора впивается в кожу!» — Прижался лбом к дереву. «Глория» оставалась последним и единственным шансом. Освободить «Глорию», если еще не разобрали, стартовать по старой программе, догнать себя бывшего — коль попал сюда, то, возможно, повезет вырваться и отсюда. Единственный шанс — стартовать и догнать себя, и тогда пусть это будет сон, галлюцинации, эксперимент — все рассеется, когда он догонит себя, когда доставит аппаратуру на далекую станцию, где ждут люди; стартовать на обратной связи и возвратиться туда, где по взморью бежит Патрис в призакатном солнце…Из выводов в журнале экспериментов: «Эксперимент № 796,4 на футуристическую реакцию проведен успешно. Показатели расшифровываются и анализируются. Полученные подопытным путем знания заблокированы. Полет продолжается успешно».
Авторизованный перевод с украинского В. Середина

Евгений ЛУЧКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ЭДУАРД БАРАНЧУК

Этот день для Эдуарда Баранчука начался исключительно неудачно. На работу он проспал и потому, наскоро умывшись, сунул в рот огромный кусок колбасы и, натужно урча, стал запрыгивать в брюки. Одновременно он еще натягивал свитер, но слегка запутался в нем, и оттого часть колбасы пошла с ворсом. Ботинки Эдуард шнуровать не стал и, схватив куртку, ринулся в коридор, на ходу проверяя, на месте ли пропуск, права, ключи. Пренебрежительное отношение к обувной фурнитуре не замедлило сказаться самым фатальным образом: в темном коридоре он наступил на шнурок, зацепил висящую на гвозде раскладушку, та, в свою очередь, сбила велосипед и самопроизвольно разложилась. Эдик промчался по этим хрустящим и звякающим предметам и вылетел на лестничную площадку. Там стояла полуглухая соседская бабушка, у ног ее жался испуганный пинчер. — Поспешишь — людей насмешишь, — сказала бабушка. «Только не нашего начальника колонны», — подумал Эдик, но поскольку ответить он не мог — второй кусок колбасы распирал его щеки, — то просто кивнул и поспешно прошествовал мимо. Такси попалось сразу, лишь только он вылетел из подъезда. Эдик вскинул руку и, бросив взгляд на номер, машинально отметил: наше. Однако водитель, приспустив стекло, ткнул пальцем в трафарет возврата и устало сообщил: — В парк. Эдуард кивнул. Он сел рядом с водителем, слегка уязвленный тем, что его не узнали. Подтягивая поочередно то левую, то правую ногу, стал шнуровать ботинки. Водитель хмыкнул. Потом подмигнул. — Силен! — Что? — спросил Эдик. — С какого этажа прыгать пришлось? — снова подмигивая, осведомился водитель. — Не понял юмора, — холодно пробурчал Эдик. — Ладно, ладно. Они подъехали к воротам парка. Машина остановилась. — Приехали. — Таксист щелкнул тумблером таксометра, зафиксировал его в положении «касса». На счетчике было девяносто восемь копеек. — А если мне дальше ехать? — сказал Эдик. — Вот и ехай, — жизнерадостно улыбнулся водитель, — а мне баиньки пора. — Отказ в передвижении, — констатировал Эдик. — Где у вас тут директор парка? Водитель нахмурился. Эдик притворно вздохнул и полез в карман. — Ладно. Сдачи не надо, — съязвил Баранчук и широким жестом положил на торпеду новенький хрустящий рубль. Он вышел из машины, негромко, по-водительски притворил дверцу и трусцой припустил к воротам. …Дальше больше. Диспетчер не подписал путевку: оказалось, в парке ввели новшество — предрейсовый медицинский осмотр. Впрочем, осмотр, как выяснилось, был обычной формальностью. Просто в кабинете инженера по безопасности движения сидела хмурая девушка в белом халате и измеряла шоферам кровяное давление. Она никак не реагировала на шутки таксистов. На осмотре Эдик потерял минут пятнадцать — была очередь. У окошка диспетчера тоже толпился народ, и от нечего делать, заняв очередь и медленно двигаясь вдоль переборки, Баранчук стал перечитывать объявление «Органы внутренних дел разыскивают…». В парке у диспетчерской постоянно висело что-нибудь подобное, но за все недолгие месяцы работы Эдик ни разу не слышал, чтобы кто-то из шоферов непосредственно принимал участие в поимке преступника. Этот портрет висел уже дней десять. Он был рисованным и являл собой образ довольно приятного молодого человека, чем-то напоминающий его двоюродного брата из Серпухова. В первый раз Эдик даже вздрогнул: это было на прошлой неделе, после смены, когда он ночью сдавал путевку и деньги. «Надо же, — тогда еще подумал Эдик, — ну просто копия Борька… Вот так попадется на улице, и возьмут». Сейчас эта мысль его рассмешила. «Хорошо бы», — почти злорадно подумал он. Баранчук не любил своего двоюродного брата, не любил беспричинно, подспудно, может быть, потому, что рос сам, без родителей, всего добивался в одиночку. Борьке же все давалось легко — и институт, и деньги, и девушки, шел он по жизни победно, принимая успех как нечто обыденное. В общем, на взгляд Эдика, щеголь, пустышка и сукин сын… Впереди было еще человек пять-шесть, и Баранчук снова обратил свой томительный взгляд на портрет. Текст с этой точки не просматривался, но он помнил его наизусть: «Рост выше среднего, волосы темно-русые, зачесанные на пробор, нос прямой, расширенный книзу, зубы ровные, белые…» «Ничего себе приметочки, — усмехнулся про себя Баранчук, — таких тысячи. Хорошо бы поинтересоваться у того, кто это писал, как быть с пробором, если тот в кепке, попросить снять? А для полного опознания еще сказать, чтоб улыбнулся, дескать, в самом ли деле «зубы ровные, белые»?» Диспетчер подписал путевку, но сверху начертал: «Два заказа». Эдик было возразил, и так, мол, опаздываю, план не наберу, он даже голос повысил, но диспетчер только поморщился. — План не наберешь? А ты летай… — А ГАИ? — ехидно спросил Эдик. Диспетчер и не моргнул. — А ты над ГАИ летай. Следующий! Вокруг расхохотались, и спор с начальством закончился. Во дворе он столкнулся нос к носу с утренним таксистом. Баранчук хотел было обежать его, но тот загородил дорогу. Водитель улыбался совершенно по-доброму, без подвоха. — Эй, мастер, сдачу-то возьми, — он повертел в пальцах новенький, вероятно, тот самый, хрустящий рубль и с наслаждением затолкал его в нагрудный карман Эдиковой куртки. — Ишь ты, молодежь, смена наша… Добежав до своей машины, Эдик вспомнил, что накануне торопился и не вымыл «Волгу», уж больно много народа было на мойку. Он в задумчивости потрогал пальцем крыло, махнул рукой, авось на воротах сойдет, и кинулся за руль. Двигатель взревел, мгновенно набрав обороты. Так прогазовывая, но на малой скорости, словно бы сдерживая рвущуюся вперед машину, с видом делового, спешащего на линию человека он подкатил к воротам и тормознул, подчиняясь жезлу дяди Васи, известного под кличкой Апостол. — Путевку, вьюнош, — потребовал дядя Вася. Баранчук протянул путевку, по-прежнему прогазовывая и давая понять, что теряет драгоценное время. Однако дядя Вася в путевку и не заглянул. Он сунул ее в карман и указал слегка подрагивающим коричневым перстом в сторону мойки, не унизив свой величественный жест ни единым словом. Пришлось бы Эдику ехать «мыться», но в это время, мрачно ступая, к машине подошел ночной механик Жора, бывший гонщик, человек добродушного и одновременно крутого нрава, признанный в парке авторитет, но не по должности, а по чему-то такому, чего Баранчук еще и не понимал. И лицо у него было такое, не лицо — барельеф. Жора, кряхтя, загрузился в машину и уставился в лобовое стекло. Это значило, что его нужно везти к рынку в пивной зал. Ночной механик не выбирал Эдика, просто его машина стояла в воротах первой. — Чего стоим? — с медным отливом пророкотал Жора. И голос у него был подходящий, под стать облику. Эдик молча кивнул на Апостола. — Так машина грязная, — неуверенно сказал дядя Вася. — А с чего ей быть чистой? — слегка удивился Жора. — На ней же ездют… — Так начальство… — Плюнь, — прогудел Жора. — Главное — спокойствие, Апостол. Береги нервы смолоду. Второй аргумент окончательно убедил дядю Васю: он вернул Эдику путевку и опустил на воротах цепь. Они выехали за ворота, и ощущение легкости и свободы овладело Эдиком, как всегда в начале смены. Он знал, что Жоре очень хочется пива, но был искренне потрясен и чуть не выронил руль, когда Жора, доселе мрачно молчавший, вдруг яростно заорал какие-то слова, оказавшиеся впоследствии стихами. Слова были такие:


Последние комментарии
9 часов 8 минут назад
17 часов 59 минут назад
18 часов 2 минут назад
3 дней 26 минут назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 6 часов назад